|
||||
|
|
«Реванш» На окраине лагеря, в просторном деревянном доме, постоянно окруженном охраной, помещался офицерский клуб. Этот двухэтажный дом был построен заключенными в течение месяца, и гестаповцы натащили сюда из города множество дорогой мебели. Ее оказалось так много, что несколько роялей, буфетов и шкафов пришлось свалить возле котельной, вместо дров. Радомский, как всегда, острил: — Моих офицеров согревает музыкальное тепло! В клубе эту фразу повторяли с неизменным хохотом на разные лады. Весь второй этаж дома занимал ресторан. Здесь были и отдельные комнаты для картежников, и «комнаты отдыха» для окончательно пьяных. В первом этаже разместилась биллиардная (Томас все же разыскал два отличных биллиардных стола и наборы шаров из слоновой кости), зал для танцев и даже сцена, на которой никто не выступал. Огромный железобетонный подвал, расположенный под клубом, был забит продуктами и винами, доставленными из разных стран Европы: от Норвегии — до Италии, от Голландии — до Греции. Украинское сало, русская водка, дунайская сельдь, азовские балыки, шампанское из Крыма занимали большой отсек. Всей этой еды хватило бы на добрый батальон, но доступ в подвал, кроме адъютанта, имел только Радомский; у него были ключи, и он не раз проводил неожиданные ревизии. Теперь, когда Радомский затеял этот необычный бал, на него вдруг нашел удивительный приступ щедрости. Он разрешил тащить из подвала на столы все, что угодно, даже коллекционные вина, которые хранил только для себя. Приступ не трудно было объяснить: таинственная тень матроса, вставшего из могилы, навеяла на охранников страх. Эта страшная тень бродила меж виселицами и по рытвинам Бабьего Яра; в нее палили из автоматов, но она снова появлялась в самых неожиданных местах. Может быть, и не было этой тени, и она только чудилась охранникам. Но кто ж тогда задушил обер-лейтенанта Шюцлера? Радомский сожалел, что сразу же не расстрелял тех охранников и заключенных, которые утверждали, будто видели, как из могилы поднялся матрос и схватил обер-лейтенанта за горло. Слух о бессмертном матросе, об этом призраке мщения, осторожно полз по лагерю, передаваясь от солдата к солдату, от офицера к офицеру… Радомскому этот зловещий слух напоминал пламя степного пожара — так же осторожно, пугливо, трепетно возникает оно от искры, перекидывается с былинки на былинку, тайно струится под вялой травой, а потом стройная стена хлебов оседает безжизненным пеплом. Он знал, что страху свойственно смещать видимые предметы. Не потому ли ему не раз казалось, что бомба, свистящая над головой, нацелена именно в него? Не потому ли он так часто бросался в убежище, хотя советские самолеты ни разу не бомбили концлагерь? Именно это смещение предметов и понятий, которое порождает страх, и привело к тому, что уже не четверо — десять, двадцать человек из охраны тоже видели тень матроса в самых различных секторах лагеря. И, странно, она почудилась самому Радомскому., Нет, не почудилась — он отчетливо увидел ее в окно, в лунную ночь, неподалеку от своего дома. Тогда, сжимая рукоятку пистолета, он долго ходил по комнате. Если бы кто-либо из высшего начальства застал штурмбаннфюрера в таком виде в ту кошмарную ночь… Но Радомский ничего не мог с собой поделать. Он боялся, он чувствовал: возмездие крадется за ним по пятам, караулит в темных переулках города, таится в глазах осужденных, образом бессмертного матроса встает перед ним. Не слухи, которым так легко поддавалась лагерная солдатня, — реальные факты, перечисленные в особосекретных документах, наводили на Радомского жуть. Он невольно запоминал отдельные фразы этих донесений. «Минск. Генерал-губернатор убит в своем штабе русской горничной по приговору партизанского центра…» «Харьков. Партизанами уничтожен штаб немецкой пехотной дивизии вместе с генералом Брауном…» «Ленинград. В окрестностях города партизанами убит генерал фон Вирц…» «Белоруссия. В селе Боровое крестьянами убит генерал Якоби. Штаб Якоби уничтожен…» «Барановичи. Убит главный комендант города Фридрих Фенч…» «Генерал-полковник Боддиен расстрелян партизанами…» Радомского не покидала мысль, что партизанская пуля может настигнуть и его, — поэтому он постоянно изменял часы своих поездок в город и маршрут автомобиля и окружал себя все более многочисленной охраной. Впрочем, и охране он не особенно доверял — увольнял ее, заменял новой, ни на минуту не расставался с Рексом, но страх не исчезал. Нужно было как-то встряхнуться, развеять эту неотступную тень страха, вставшую над лагерем, над его охраной, над самим штурмбаннфюрером. Поэтому он и затеял бал. Музыка, танцы, веселье, вино были, по его мнению, достаточно сильным средством, чтобы погасить это подобие черного степного пожара, в котором обугливалась воля. Это был вызов страху, и Радомский намеревался послужить для своих подчиненных примером. Кроме офицеров, подчиненных штурмбаннфюреру, из города на бал прибыло до трех десятков приглашенных: старшие чины гестапо с дамами, какой-то полковник с черной повязкой на глазу, генерал с усами, как пики. Прибыл и сам Эрлингер. Когда гости уселись за роскошный стол, оберфюрер поднялся и сказал вместо приветствия. — Господа! Офицеры великого Райха имеют право на отдых и веселье. Мы вынесли на своих плечах эту победоносную войну, которая вскоре завершится полным разгромом большевиков. Да, мы имеем законное право на отдых, потому что ежедневно рискуем жизнью, потому что нам не страшны ни русские морозы, ни пули. Ваше здоровье! Хайль! Эрлингер не упомянул, конечно, что ни сам он, ни Пауль Радомский и никто из присутствовавших здесь вояк ни разу не были на передовой. После многочисленных тостов, после того как Эрлингер, сидевший рядом с Радомским, несколько раз дружески назвал его на «ты», Радомский сделал вид, словно только сейчас вспомнил о заранее подготовленном сюрпризе. — Да, кстати, мой дорогой оберфюрер, — сказал он, таинственно улыбаясь, — вам, как большому любителю спорта, сегодня предстоит быть судьей. Эрлингер не понял: — Я… любитель спорта? С каких это пор? — О, не скрывайте! Как вы переживали за «Люфтваффе»… — Но это было позорище, герр штурмбаннфюрер! Радомский глубоко вздохнул. — Замысел был хорош, но мы просчитались. Кто знал, что «Люфтваффе» встретится с первоклассными игроками! Если бы не мой спортивный азарт… Но вы, пожалуй, не знаете, что я был известным спортсменом? Если бы не этот спортивный бес, который проснулся во мне, я не допустил бы такого просчета. — Вы были спортсменом? — удивился Эрлингер. — Во что же вы играли? В пинг-понг? — Я был отличным беком, — сказал Радомский, словно не замечая укола. — О, хроникеры не давали мне прохода. У меня была кличка: «Пауль Железная Нога». Эрлингер засмеялся: — Что же, вы снова собираетесь прославить свою «железную ногу»? Откинувшись на спинку кресла, Радомский громко засмеялся. — Я уже не играю в футбол. Я заменил его биллиардом. Однако среди моих офицеров нет подходящего партнера. Впрочем, подходящих не было и в Гамбурге. Возможно, вы слышали о Роберте Косом? Он гремел на всю Германию. Но я разбил его на пари… — Никогда бы не подумал… — удивленно заметил Эрлингер. — А сейчас вы нашли равного игрока? — Как будто… Мне донесли, что вратарь киевлян, Русевич, — отличный биллиардист. Я приказал помыть его и приготовить. Это будет реванш за «Люфтваффе». Эрлингер поморщился. — Офицерское общество — и какой-то арестант… — Но ведь это реванш, дорогой оберфюрер! — почти закричал Радомский. — Я — спортсмен, а сердце спортсмена требует реванша… Я покажу ему настоящую игру! Эрлингер понял Радомского: эта затея с биллиардом была одним из тех изобретений, какими офицеры из охраны концлагеря скрашивали свои унылые дни. В других лагерях они соревновались в стрельбе по живым мишеням, а здесь и это надоело… «В конце концов, — подумал Эрлингер, — главное, чтобы не было скучно…» Он вдруг оживился, повеселел. — И в самом деле! Если вы так уверены в себе. Хорошо, я буду судить. — Он поманил пальцем Гедике и, пошептавшись с ним, объявил: — Лейтенант Гедике сообщит нам интересную новость. Все тотчас притихли. Краснея от удовольствия и, как всегда, улыбаясь, Гедике сказал: — Господа! Все мы были недавно свидетелями футбольного матча между командой «Люфтваффе» и киевской командой… Правда, следует отметить, что игроки «Люфтваффе» были крайне утомлены, а киевляне хорошо отдохнули и подготовились. Счет этого матча не был утешителен для нас, и все же мы ждали реванша. Но команда «Люфтваффе» улетела в Лиссабон, где встретится с одним из сильнейших футбольных клубов Европы. Возникает вопрос: как же все-таки потребовать реванша? И этот вопрос решен. Здесь, у нас, находится киевский вратарь Николай Русевич. Случайно мы узнали, что он отчаянный биллиардист. Против Русевича выступает наш уважаемый штурмбаннфюрер — господин Радомский… Русевич стоял в прихожей, все еще не понимая, зачем его сюда привели. У двери, на ящике из-под консервов, сидел автоматчик. Так как Гедике говорил очень громко, почти кричал, Николай расслышал отдельные обрывки фраз, но почти ничего не понял. Прошло еще минут пятнадцать, и лейтенант Гедике сам открыл дверь. В глаза Николаю ударил яркий свет. Блеснули погоны, зарябили платья… — Битте, — сказал лейтенант. — Прошу. Николай шел за Гедике, перед ним расступались важные чины, и все, что он видел, что ощущал, — свет, запах дорогих духов, мелькание богатых женских нарядов — все было лишено для него реальности, как был лишен реальности весь прожитый день. В просторной, ярко освещенной комнате он увидел большой биллиардный стол. Вдоль стен уже стояли и сидели зрители. От них тяжело веяло спиртным, словно здесь, в биллиардной, кто-то выплеснул бочку вина. Только теперь Русевич понял, зачем его сюда привели. Кто-то подал ему кий и мелок… Николай принял кий неуверенно, но по давней привычке взвесил в руке. За другим краем биллиардного стола он увидел Радомского. Облокотись о борт, рыжий Пауль с улыбкой оглядывал публику, видимо заранее довольный предстоящим зрелищем. Звонкий голос Гедике объявил: — Господа могут заключать пари… Послышался говор, споры, однако ни одно пари не состоялось. Все ставили на штурмбаннфюрера, не только потому, что знали его как отличного игрока, но и потому, что это было патриотично и показывало уважение к начальству. — Кажется, желающих нет? — насмешливо спросил Радомский, сбрасывая мундир. — Да простят меня дамы. Спорт требует свободы движений. Он пристально взглянул на Русевича. — Я объявляю ставку. Как в древнем Риме… На жизнь. Если этот футболист выиграет у меня партию — я дарю жизнь и ему и его приятелям. Если проиграет — пусть пеняет на себя. Он подозвал переводчика и повернулся к Русевичу. — Вот эта палка, которую ты держишь в руке, решает вопрос твоей жизни. Да и жизни твоих друзей-футболистов… Понял? На стадионе ты не должен был выигрывать, нет! А теперь должен, да!.. Еще не так давно Николай считался в Одессе первоклассным биллиардистом. Он любил эту игру, требующую точного глазомера, безошибочного расчета и удара. Но в таком ли душевном и физическом состоянии играл он тогда… Отказаться? Ну и что бы это дало? Оставалось одно — попытать счастья. В спорте оно ему редко изменяло. Он еще раз взвесил кий и, стараясь не смотреть по сторонам, приблизился к столу. — Прошу разбивать, — издевательски вежливо предложил штурмбаннфюрер. Николай довольно сильно разбил шары, но «свой», словно оттянутый на резинке, замер у короткого борта. Кто-то заметил негромко: — О, зер гут! Офицеры и дамы с увлечением следили за начавшейся игрой; то обстоятельство, что ставкой киевского спортсмена была его собственная жизнь, придавало игре особую остроту. Радомский был уверен в легкой победе — в Гамбурге он «побивал» даже международных гастролеров. Не мог же этот Русевич оказаться редкостным универсалом — отличным вратарем, биллиардистом, да и еще, говорят, пловцом! С особым шиком штурмбаннфюрер произносил стандартные слова заказа: «три борта в угол», «дуплет», «от шара в середину…» Уверенно объявленные заказы требовали, впрочем, еще и точного удара, однако такого удара у него не получалось. Возможно, на гамбургского чемпиона действовал французский коньяк, но, возможно, и тактика противника. Русевич играл с холодным расчетом, и, с какого бы положения он ни бил, его «свой» обязательно останавливался у короткого борта, в позиции, с которой противнику было почти невозможно подыскать результативный шар. 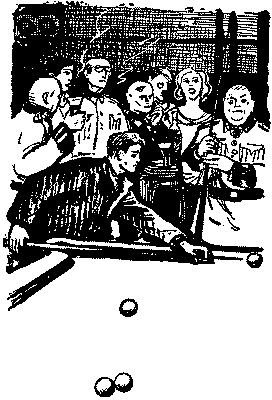 Когда после целой серии ударов штурмбаннфюрер получил, наконец, возможность положить в правый угол «тройку», он сказал, усмехнувшись: — Это тебе не на стадионе… Русевич понял. Как ни трудно было ему играть с «Люфтваффе» в окружении эсесовцев и овчарок, там, на стадионе, он был не один. С ним были товарищи. С ним был весь Киев. А здесь он был один, и его противником был его палач. В ком он смог бы найти сочувствие среди этой пьяной офицерни? Лишь один раз за четверть часа игры он оглянулся — и увидел лишь полные вражды и презрения взгляды. Он прицелился от короткого борта в дальний левый угол. Радомский скептически усмехался. Он знал заранее: такой шар положить невозможно. Но, странное дело, луза казалась намагниченной, а шар — железным. Не замедляя, а словно ускоряя движение, «одиннадцатый» влетел в лузу. — Неплохо, — с напускным равнодушием бросил Радомский. Он обернулся к тумбочке и проглотил рюмку коньяка. Тут же он положил «двойку». Присутствующие горячо зааплодировали. Гедике воскликнул радостно: — Поистине мастерский удар! Аплодисменты и возгласы еще не смолкли, как тонко срезанный Русевичем «туз» неспеша скатился в среднюю лузу и вслед за ним с громким выщелком, посланная через весь стол, в угол влетела «семерка». — Скандал!.. — растерянно оглядываясь по сторонам, проговорил Гедике. Штурмбаннфюрер бросил на него свирепый взгляд: — Это не футбол… Без комментариев! Гедике съежился и отошел к стене; в увлечении он забыл, что должен был всячески ободрять и поддерживать начальника. Азарт и свирепость как будто помогали Радомскому в игре. Он забил «шестерку». Его опять наградили возгласами одобрения и аплодисментами. Раскрасневшийся, потный, он покровительственно улыбался зрителям. — Нас еще никто не побеждал… Однако Русевич больше не позволил ему забить ни одного шара. У Николая появилась, как выражаются биллиардисты, «старая кладка». Каждый намеченный им шар врывался в лузу с таким треском, будто кто-то стрелял из ракетницы. Николай примечал: штурмбаннфюрер все больше мрачнел, и тишина становилась все тяжелее. Однако Русевич делал вид, словно интересуется только игрой… Он вогнал в лузу последний шар. Положив на стол кий и тем давая понять, что игра окончена, Радомский вытер платком вспотевшее лицо. — Господа, — заявил он, натянуто улыбаясь, — вы знаете, кто у меня сегодня выиграл? Он небрежно кивнул на Русевича. — Вы думаете, этот чурбан? Сегодня у меня выиграл самый непобедимый чемпион… — он сделал паузу, — Господин Коньяк! Все дружно засмеялись. Повернувшись к Русевичу, штурмбаннфюрер смерил его взглядом. — Что же ты стоишь? Или ждешь награды? Пошел! Сложив за спиной руки и глядя в пол (только так разрешалось держаться при начальстве), Русевич прошел через зал напряженным, коротким, лагерным шагом. В тягостной тишине он слышал только стук своих стоптанных каблуков и еще какой-то низкий, тоскливый звук: это в оконной раме лихорадило треснувшее от мороза стекло. На мгновение ему показалось, будто в этом зале, наполненном приторным запахом духов и вика, он был совершенно один, и это необычное одиночество среди такого количества людей вдруг стало невыносимо жутким… Но вот и дверь, и он проходит в соседнюю комнату — за нею выход в коридор, — но… что это? Оконные стекла со звоном сыпятся к его ногам, падает штукатурка, огромный шелковый абажур мечется под потолком из стороны в сторону. Где-то очень близко, словно у самого окна, дробно и отрывисто гремит очередь автомата, глухо рвется граната, яростно лают сторожевые псы, слышны какие-то крики, и весь этот внезапный ночной переполох вдруг покрывает тревожный и тоскливый вой сирены. Николай оглядывается и успевает запомнить бледные лица офицеров и их дам — меловые пятна, но не лица… Почему же по сигналу тревоги, на этот истерический вопль сирены, никто из офицеров не спешит, никто не бросается к выходу? В сознании Николая эти томительно долгие секунды запечатлеваются, как остановившийся кинокадр. Необычная и страшная в своей нелепости картина: вот маленький Гедике приподнял руку и замер, не закончив какую-то фразу… На лице его замерла усмешка… Сбычившись и растопырив пальцы вскинутых рук, будто парализованный, застыл Радомский… Надменный Эрлингер прижался спиной к стене, и резкий горбоносый профиль его казался вылепленным из глины. Пышная дамочка, вся в побрякушках, жеманно присела и точно окаменела в этой странной позе… Из коридора, громыхая по ступенькам, в первую комнату вбежал запорошенный снегом рослый лейтенант. Он щелкнул каблуками и испуганно выкрикнул: — Они бежали… Пытались бежать!.. Пауль Радомский сразу же пришел в себя и стремительно метнулся к офицеру. — Кто?.. Когда?!. Вытянув руки по швам, офицер доложил: — Четвертый сектор… К нему подкрались партизаны… Радомский рассвирепел: — Они схвачены? Да говори же скорее, болван! Партизаны схвачены? — Один тяжело ранен… — испуганно отвечал офицер, — кажется убит. Но… Эрлингер широко шагнул вперед и стал рядом с Радомским. — Что значит «но»? Говорите! — Несколько заключенных успели бежать… Начата облава. Партизаны хорошо вооружены. — Старшего дежурного по лагерю — под арест! — хрипло закричал Радомский. — Мерзавец! Я вытяну из него жилы!.. За дверью послышались говор и шаги. Показалась спина, блеснул погон, еще один погон… Четыре эсесовца, скользя на ступеньках, внесли какой-то длинный тюк. Они опустили его на пол, выпрямились и одновременно козырнули. В этом обмякшем тюке Николай успел рассмотреть очертания человеческого тела. — Обыскать, — приказал Радомский. Офицер снова щелкнул каблуками, обветренное лицо его было багрово-синим. В суматохе все забыли о Русевиче. Он стоял в углу коридора, наблюдая за эсесовцами, обыскивавшими убитого. Быть может, не больше двух-трех секунд Русевич видел неподвижное лицо партизана. Но этого было достаточно. Он узнал Дремина. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
