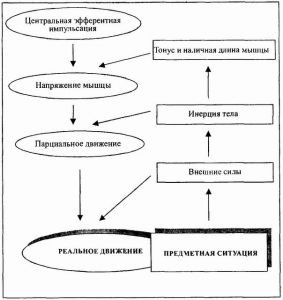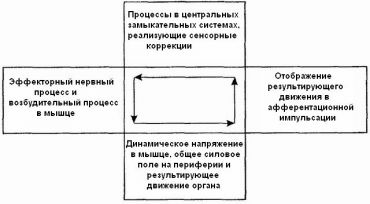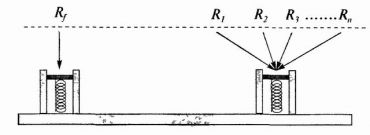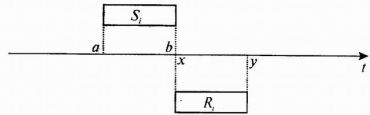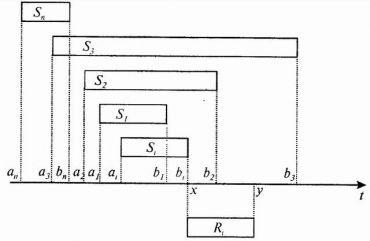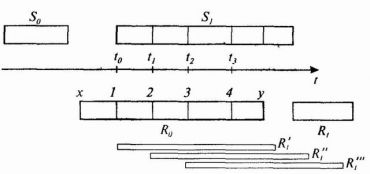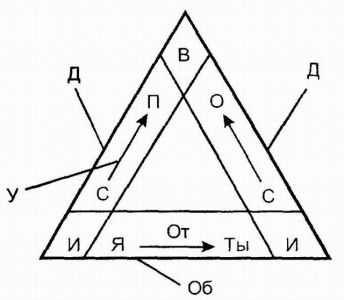|
||||
|
|
Часть 2. Методологический анализ психологических теорий 2.1. Введение Если в первой части книги предметом методологического анализа была та или иная психологическая категория, то во второй таким предметом становится психологическая теория. В открывающей эту часть главе «От Павлова к Бернштейну» анализируется теория условных рефлексов И.П. Павлова. Разумеется, квалифицировать ее как психологическую не совсем точно и по существу, и из уважения к великому физиологу, решительно боровшемуся против всяческих попыток психологизировать закономерности поведения[38]. Но, воспользовавшись американской классификационной категорией «behavioral sciences», можно без смущения анализировать концепцию И.П. Павлова именно как поведенческую дисциплину, на статус которой она сама прямо претендовала. Не зря категория поведения была вынесена в заглавие одного из итоговых трудов И.П. Павлова: «Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных». В этой главе читатель встретится с простым и надежным набором методологических инструментов, хорошо зарекомендовавшим себя в деле анализа психологических теорий. Набор этот включает в себя следующий ряд взаимосвязанных понятий: онтология теории, основной идеальный объект, объект и предмет исследования, метод исследования. Нет смысла заранее давать определения этим понятиям, читатель найдет необходимые пояснения в тексте, а главное, увидит эти методологические средства в работе над конкретным концептуальным материалом. С небольшими модификациями та же система методологических инструментов будет использоваться и в других главах этой части при анализе теорий Б.Ф. Скиннера, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе. Как мерой для одного человеческого характера являются другие характеры, мерой для понятия — другие понятия, так мерой для теории — другая теория. Именно поэтому психологические теории анализируются в этой части книги не изолированно, а в со- и противопоставлении с другими теориями. Такой метод «сравнительного жизнеописания» концепций, пожалуй, — лучший путь их методологической рефлексии. Его можно рекомендовать и для освоения теорий с чисто учебными целями, поскольку он позволяет не терять головы при встрече с красивой и убедительной концепцией и избежать невольного наивно-реалистического отождествления ее с тем, «как на самом деле». Кроме того, в ночь перед экзаменом можно не успеть изучить десять разных теорий, а на пять пар концепций хватит даже короткой июньской ночи. 2.2. От Павлова к Бернштейну[39] Задачу данного исследования составляет методологический анализ развития проблемы поведения от теории условных рефлексов, созданной И.П. Павловым, до физиологии активности, разработанной Н.А. Бернштейном. Мы попытаемся выявить тот коренной сдвиг в физиологическом мышлении, который произошел, когда науки о поведении шагнули на очередную ступень, именуемую физиологией активности. Естественно, что только имея перед собой сам этот шаг в развитии физиологического понимания поведения, мы обретаем возможность рефлексивно оглянуться назад на исходную точку, от которой он был сделан, — теорию условных рефлексов — и выявить тот методологический каркас, который поддерживал, но, понятно, и сдерживал традиционное физиологическое мышление. Опираясь на гениальную2 теорию Н.А. Бернштейна, не так уж трудно методологически препарировать учение об условных рефлексах и развенчивать его претензии на универсальное объяснение поведения. Но при этом автору меньше всего хотелось бы, чтобы при чтении этого текста складывалось впечатление о том, что роль и значение научных трудов И. П. Павлова недооцениваются, — они не нуждаются в аттестации. Просто для того, чтобы по достоинству оценить вклад И.П. Павлова в развитие физиологических знаний, необходимо было бы осуществить исследование обратного, ретроспективного порядка, подобное, например, тому, которое выполнено в книге П.К. Анохина «От Декарта до Павлова» (1945). Структура и план исследования таковы. Сначала мы осуществим первичный методологический анализ теории условных рефлексов И.П. Павлова. Анализ будет вестись по таким выделяемым в современной методологии науки звеньям научной теории, как онтология, объект, предмет, идеальный объект и метод исследования. Затем по подобной схеме будет проанализирована теория Н.А. Бернштейна, названная им «физиологией активности». Наконец, в завершающей части будет дано сопоставление методологий обеих концепций. Несмотря на симметрию теорий И.П. Павлова и Н.А. Бернштейна в намеченном плане изложения, по отношению к задачам нашего методологического изыскания они занимают различное положение. Теория условных рефлексов и стоящая за нею философия являются главным предметом методологической критики. «Физиология активности» предстает как «плацдарм», с которого эта критика ведется, как образец физиологической теории, блестяще воплотившей совсем иные, необыкновенно плодотворные для исследования поведения методологические принципы. И хотя философско-методологические симпатии автора явно на стороне «физиологии активности», авторская позиция не совмещается полностью с голосом этого «положительного героя». Такой позицией, точкой зрения, с которой ведется исследование, является психологическая теория деятельности (Леонтьев, 1972). Хотя сама она почти не будет выходить на сцену, именно ее общетеоретическими потребностями и задачами, ее интересами к проблеме поведения и к тому, как ее решают смежные науки, ее собственными методологическими поисками мотивировано все исследование. И. П. Павлов: теория условных рефлексов 1. Онтология Онтологией мы называем общую картину изучаемой области действительности, которая имеется у данного исследователя. Для И.П. Павлова такой картиной является схема «организм — среда». Ведущее и определяющее отношение между элементами этой схемы — отношения уравновешивания. Согласно И. П. Павлову, «основная задача организма — правильное ориентирование в окружающей среде, уравновешивание с ней» (Павлов, 1951–1952, т. З. кн. 1,с. 169). Это уравновешивание, пишет Павлов, реализуется за счет «определенных реакций на падающие извне раздражения, что у более высших животных осуществляется преимущественно при помощи нервной системы в виде рефлексов. Первое обеспечение уравновешивания и целостности отдельного организма, как и его вида, составляют безусловные рефлексы… Но достижение этими рефлексами уравновешивания было бы совершенно только при абсолютном постоянстве внешней среды. А так как внешняя среда при своем чрезвычайном разнообразии вместе с тем находится в постоянном колебании, то безусловных связей, как связей постоянных, оказывается недостаточно и необходимо дополнение их условными рефлексами, временными связями» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн.2,с.324). Несмотря на некоторое косноязычие, в этом описании разворачивается величественная панорама сотворения онтологической картины и населения ее «идеальными объектами» — концептами, которым приписывается статус реального существования и особой значимости для научного исследования. Вначале сотворил Павлов среду и организм. И сказал: да будет организм уравновешиваться с нею. И положил: да будет среда посылать раздражения, а организм отвечать реакциями. И стало так. И создал он низших животных и высших по роду их и дал им нервную систему. И повелел он высшим животным уравновешиваться со средою безусловными рефлексами. Но среда была разнообразна и постоянно колебалась. И сказал он: нехорошо быть животному одному, лишь с безусловными рефлексами, и образовал из них условные рефлексы в помощь им, для установления временных связей. Так была нарисована первичная онтологическая картина учения о высшей нервной деятельности. Основными идеальными объектами павловской онтологии являются безусловный и условный рефлексы. Собственно, речь здесь идет об одном идеальном объекте — рефлексе, поскольку открытие двух видов рефлексов — условных и безусловных — на самом понятии рефлекса не сказалось[40]. Необходимо возможно более тщательно проанализировать это понятие ввиду того важнейшего места, которое оно занимает в структуре теории И.П. Павлова. 2. Основной идеальный объект (понятие рефлекса) Рассмотрим это понятие в соответствии с тремя звеньями, которые выделяют в рефлекторной дуге, — афферентным, центральным и эфферентным. Начнем с последнего. 2.1. Абстракция простого движения Что происходит в эфферентном звене рефлекса? Возбуждение эфферентной клетки, проведение импульса и, наконец, сокращение мышцы или выделение секрета. Самое важное в этом представлении — предполагаемая однозначность связи между возбуждением клетки и конечным двигательным эффектом. Нажатие клавиши на пишущей машинке — отпечатывание буквы на бумаге — вот точная модель такой связи. Безразлично, как зафиксировать событие: можно сказать, что напечатана буква «А», а можно — что ударили по клавише «А». Для анализа поведения с этой точки зрения безразлично знать, произошла ли данная реакция или возбуждена клетка или группа клеток в коре больших полушарий (КБП)[41]: зная одно, мы знаем другое, и наоборот. В движении, за пределами передних рогов спинного мозга в принципе не может произойти ничего нового, чего не было бы уже в ЦНС. «Последняя инстанция движения — в клетках передних рогов», — прямо утверждает Павлов (1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 141–142). Такое представление, согласно которому двигательный эффект рассматривается как неизменное и простое, «точечное» событие, однозначно вызываемое другим столь же простым событием — возбуждением определенной зоны коры больших полушарий, — мы и называемабстракцией простого движения. Все приспособительное поведение животного складывается из условных и безусловных рефлексов. Как известно, образование условного рефлекса состоит в установлении условной связи между ранее безразличным раздражителем и безусловной реакцией. Так что, когда такая связь установлена, организм реагирует на этот раздражитель, ставший теперь «условным сигналом», реакцией, которая раньше составляла эфферентное звено безусловного рефлекса. Из этого следует, что меняться в индивидуальном опыте могут только афферентные звенья рефлексов, эфферентные же животному и человеку даны от рождения и неизменны. Таким образом, выходит, будто арсенал готовых движений изначально заложен в организме и при возбуждении определенной клетки высвобождается соответствующее движение[42]. В чем же тогда состоит для животного основная проблематичность приспособления? Чтобы приспособиться, ему необходимо и достаточно установить, какие из безразличных раздражителей соприсутствуют во времени или предшествуют каждому из безусловных раздражителей, реакция на которые уже, естественно, имеется; а далее отвечать этой реакцией на все эти новые, теперь уже условные, раздражители. Весь мир, таким образом, состоит для животного из сигналов потенциальных и актуальных, а упомянутая проблематичность приспособления — в установлении между внешними событиями отношений «сигнал — сигнализируемое». Обнаружение сигнального характера работы больших полушарий было фундаментальным открытием и заслуженно принесло И.П. Павлову имя мирового ученого. Однако нельзя не заметить, что распространение этого принципа на все приспособительные поведения животного превращает реальное, деятельное освоение им действительности в информационное (причем лишь условное) ее усвоение. Отсюда становится понятным, почему в «основную задачу организма» из реальных функций И.П. Павлов включил лишь ориентировку (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 1, с. 169). Вытекающий из этих положений примат восприятия над действием в теоретической картине павловского учения не привел, однако, к сколько-нибудь продуктивному развитию представлений о перцептивных процессах. Простое движение не требует сложного перцептивного обслуживания. Абстракция простого движения привелас собою абстракцию простого восприятия. 2.2. Абстракция простого восприятия В текстах И.П. Павлова встречаются постоянные синонимические замены терминов «раздражитель» и «возбуждение». Сигналом в одних местах называется событие во внешней среде («раздражитель»), в другом — состояние 1 клетки в КБП («возбуждение»). Это обстоятельство свидетельствует о том, что их различение в каком-то смысле несущественно. Дело изображается так, будто каждое событие в среде имеет единообразное и полное представительство в мозгу, оно отображается состоянием некоторой клетки. Как в абстракции простого движения устанавливалось однозначное соответствие между возбуждением эфферентной клетки и движением, так теперь такое же однозначное соответствие устанавливается между внешним событием и возбуждением афферентной клетки. Это представление мы и называем абстракцией простого восприятия. Восприятие с этой точки зрения по сути есть простое проникновение «снарядов» внешней среды через афферентные проводники в мозг. При таком положении дел всегда можно утверждать, что если в среде произошло некоторое событие, произошло и соответствующее событие в коре, ибо связь между ними однозначна. Эта однозначность, однако, отнюдь не свидетельствует об объективности отражения. Напротив, от афферентной функции совсем не требуется доставление объективно верной, содержательной информации, не требуется отражение реальных характеристик объекта, достаточно лишь сигнала о его наличии. Если в среде произошло безразличное для организма событие, всякое его отображение излишне, если же случилось событие, являющееся для организма безусловным или условным раздражителем, — важно лишь «проинформировать» организм об этом факте, а его перцептивное «исследование» лишено смысла, поскольку врожденная реакция на него давно готова и от специфических характеристик объекта не зависит. Рефлекторная система будет работать правильно, если за каждым эфферентным ответом будет закреплен свой пусковой сигнал. Он может быть совершенно условным, содержательно не связанным ни с отображаемым событием, ни с вызываемой реакцией, и, тем не менее, успешно выполнять свою сигнально-пусковую функцию в рефлекторной системе. Итак, абстракция простого движения, фиксирующая представление о врожденной предуготовленности двигательных актов организма и однозначной их вызываемое™ эфферентными возбуждениями, влечет за собой абстракцию простого восприятия. Восприятие, таким образом, сводится лишь к сигнально-пусковой функции. Выходит, что прижизненно образуемые в мозгу животного связи не отражают содержательных, предметных отношений между событиями среды, а отражают только временные и временные связи между ними. Поэтому эти связи и называются «условными». Следовательно, абстракции простого движения и простого восприятия порождают третью абстракцию — условной связи. 3. Предмет и метод исследования Если онтологией И.П. Павлова является схема «организм — среда», а основным идеальным объектом в этой онтологии — рефлекс, то предметом его исследования — высшая нервная деятельность. «Мы последовательно изучаем, — пишет Павлов, — основные свойства корковой массы, определяем существенную деятельность больших полушарий…» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 170, 171). Учение об условных рефлексах имеет дело с целым организмом (Анохин, 1945, с. 102), то есть непосредственный объект его исследования — целый организм и его поведение в среде. Центральная же нервная система и большие полушария в частности — лишь органы, пусть особые и важнейшие, но органы этого организма. Естественно встает вопрос, как с точки зрения условно-рефлекторной теории относятся друг к другу деятельность этого органа (ЦНС, включающей в себя КБП), то есть высшая нервная деятельность, и деятельность целого организма по отношению к среде, его поведение? После того как мы описали те абстракции, которые предполагает традиционное понятие рефлекса, — абстракции простого движения, простого восприятия и условной связи, согласно которым различение внешнего события (будь то движение животного или изменение в среде) и возбуждения (эфферентного или афферентного соответственно) в больших полушариях несущественно в силу однозначной связи между ними, после этого следовало бы ожидать, что окажется несущественным и различение высшей нервной деятельности и внешнего поведения. Для непредвзятого наблюдателя это методологическое предположение звучит более чем странно. Но И.П. Павлов, будучи последователен, это отождествление в самом деле осуществляет. Вот что он говорил по этому поводу в докладе на XIV Международном физиологическим конгрессе в Риме в 1932 г.: «Эту реальную… деятельность больших полушарий с ближайшей подкоркой, деятельность, обеспечивающую нормальные, сложные отношения целого организма к внешнему миру, законно считать и называть вместо прежнего термина "психической" — высшей нервной деятельностью, внешним поведением животного…» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 222). Там же были сказаны такие, например, слова: «…Мы изучаем работу больших полушарий. Это изучение неумолимо стремится вперед без малейших препятствий, перед нами только развертывается все более длинный ряд отношений, составляющих сложнейшую внешнюю деятельность высшего животного организма» (там же, с. 220). Отождествление ВНД с внешней деятельностью животного на страницах павловских произведений встречается неоднократно (см., например, Павлов, 1951–1952, т. 4, с. 15). Это тождество настолько обескураживает, что возникает желание спасти методологическую репутацию теории условных рефлексов. И тогда во спасение можно сказать, что указанное отождествление носит не онтологический, а эпистемологический характер, то есть оно означает не то, что с точки зрения теории условных рефлексов ВНД и внешнее поведение — это одно и то же, но лишь то, что, зная все о деятельности больших полушарий, мы знаем все о поведении. Иными словами, законы внешнего поведения лежат внутри организма, а именно в его нервной системе, в процессах, отправляемых мозговой тканью. Законы, которым подчиняются эти процессы, и есть законы поведения («Говорить о рефлекторной деятельности как деятельности мозга можно только условно, ибо ее телесным субстратом служат "жизненные встречи" (Сеченов) целостного организма со средой. Ведь сама аналитико-синтетическая деятельность высших нервных центров производна по отношению к реальным действиям организма (конечно, регулируемым мозгом) в реальном времени и пространстве. Роль этих действий в расчленении и интеграции средовых раздражителей необъяснима двучленкой "внешнее — внутреннее". Поэтому ее приверженцы неотвратимо вынуждены перелагать на мозг ("внутреннее") как таковой всю работу по анализу и синтезу и говорить о рефлекторной деятельности мозга, а не взаимодействующего с объектом организма. Соответственно и процесс воспроизведения внешнего объекта в чувственном образе оказывается "внутренним делом" одних только нервных клеток» (Ярошевский, 1972, с. 99).). Подробно к этому положению мы вернемся ниже. При анализе условных рефлексов, отмечает П.К. Анохин, «возможны были два пути: один — вверх, к более сложным актам поведения животного в его своеобразной экологической обстановке, другой — вниз, к физиологическим закономерностям, к деталям конструкции и к выяснению отдельных частных механизмов. С первых же шагов учения Павлов без колебаний принял второй аспект» (Анохин, 1945, с. 99). И здесь, на этом пути Павлов, по словам Анохина, столкнулся с серьезным противоречием в идее условного рефлекса. «С одной стороны, сложный приспособительный акт целого животного, с другой стороны — элементарный процесс нервной ткани: как сочетать то и другое и преподнести удовлетворительную концепцию, дающую возможность физиологического объяснения ВНД?» (там же, с. 101). И эта задача была, по мнению Анохина, И. П. Павловым решена. С этим трудно не согласиться, Павлову действительно удалось решить эту, казалось бы неразрешимую, задачу. Средством ее решения явился созданный Павловым экспериментальный метод. Мы не будет останавливаться на процедурной стороне дела, она общеизвестна, а рассмотрим роль метода в павловской концепции. Метод здесь — то ядро, которое стягивает, цементирует и согласует между собой все остальные структурные компоненты теоретической системы. Главная его функция состоит в приведении в соответствие реального объекта исследования с идеальным объектом, что обеспечивает возможность получения знаний об интересующем Павлова предмете. Объект исследования — животное, его целостный поведенческий акт, предмет же — деятельность больших полушарий, то есть одного органа исследуемого организма. Идеальным (в смысле предельно желаемым) экспериментальным объектом с точки зрения целей исследования был бы «очищенный» от тела, но сам по себе нормально функционирующий мозг. Однако создание такого экспериментального объекта — задача технически невыполнимая. Поэтому для того чтобы исследовать деятельность этого органа, необходимо было поставить животное в такие условия, при которых его функционирование как организма по возможности «втиснулось» бы в форму функционирования изучаемого органа, то есть все поведение было бы сведено только к высшей нервной деятельности. Для этого в «материале» организма необходимо было воплотить абстракции, составляющие идею рефлекса, и в первую очередь абстракцию простого движения. Эта задача и была решена зажиманием подопытного животного в знаменитый привязной станок. На время эксперимента такое высокоразвитое животное, как собака, превращалось в лабораторный препарат, единственной возможностью взаимодействия которого с миром становилось слюноотделение. Ниже нам представится возможность детально рассмотреть, как метод материализует абстракции теории условных рефлексов. 4. Методологические основания концепции И. П. Павлова Из всего сказанного выше необходимо следует то центральное методологическое положение, на котором базируется павловское учение: законы и механизмы поведения лежат внутри организма, а именно в больших полушариях, это законы высшей нервной деятельности. Можно, конечно, считать, что И.П. Павлов и ставил перед собой не задачу объяснения поведения животного, а лишь задачу «изучения свойств корковой массы». Но можно представить дело и следующим образом. И.П. Павлов потому решал задачу анализа нервных процессов, протекающих в больших полушариях, что считал: законы, объясняющие поведение, нужно искать в свойствах нервных процессов. Вторая трактовка кажется более вероятной: «…При анализе поведения высшего животного до человека включительно, — писал И.П. Павлов, — законно прилагать всяческие усилия понимать явления чисто физиологически, на основе установленных физиологических процессов» {Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 183), то есть возбуждения, торможения, иррадиации и т. д. Не будем, однако, гадать о намерениях ученого. Здесь утверждается только одно: даже если бы условно-рефлекторная теория была абсолютно адекватной для анализа «процессов мозговой ткани», то и в этом случае при распространении ее объяснительных схем на анализ поведения животного (а тем более человека) она неизбежно столкнулась бы с неразрешимыми трудностями, причина которых в принципиальной методологической установке. Установка эта была сформулирована чуть выше и, пожалуй, может быть названамозговым фетишизмом. Перефразируя описание товарного фетишизма, данное К. Марксом (см. Маркс, 1967, с. 80–93), можно сказать, что в павловской теории мозг представляется самостоятельным существом, одаренным собственной жизнью и стоящим в определенных непосредственных отношениях к внешней предметной действительности. Большие полушария с их ВНД исследуются как самостоятельное существо, при этом реальное поведение, реальное телесное взаимодействие животного со средой служит лишь своего рода оптическим прибором, сквозь который и с помощью которого осуществляется наблюдение за деятельностью больших полушарий. Внешнее поведение при этом как бы лишается материальной предметности, делается лишь индикатором мозговых процессов и как таковое выпадает из научного рассмотрения, становясь «гносеологически прозрачным» (если воспользоваться термином В. Набокова). Дело представляется Павловым так: если в ситуации образования слюнных условных рефлексов мы объяснили (объяснили ли?) поведение животного с помощью физиологических процессов, то и всякое поведение объяснимо из законов этих процессов. При этом забывается, что сама экспериментальная ситуация создана таким образом, чтобы как можно более полно исключить активное предметное поведение животного, превратив его в смотровое окошко, сквозь которое можно наблюдать «чистое» функционирование мозга[43]. Словом, методологическая установка, названная нами мозговым фетишизмом, при объяснении внешнего поведения проявляется в поиске его законов в процессах мозговой ткани. При последовательном ее проведении она, однако, не останавливается на этом уровне, а стремится редуцировать законы уже этих процессов вплоть до последнего физикального их объяснения. Идеалом научного исследования для И.П. Павлова является «механическое толкование», к которому «приближается изучение всей действительности, включая в нее и нас. Все современное естествознание, — пишет он, — в целом есть только длинная цепь этапных приближений к механическому объяснению» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 249). Считая разбираемый здесь вопрос о «мозговом фетишизме» крайне важным для четкого понимания той задачи, которую решала павловская концепция, и определения действительного места павловского учения в строе поведенческих дисциплин, поясним обсуждаемое здесь на примере. Перед нами электрическое табло, на котором загораются надписи, например, рекламные сообщения. Подчиняются ли эти надписи законам электрического тока или каким-то другим законам? Ясно, что первые ни в коей мере не определяют того, какой текст появится на табло. Равным образом и смены текста не влияют на законы электрического тока. Сопротивления проводников и емкости конденсаторов безразличны к разнице загорающихся слов. Однако функционирование табло как некоторой системы существенно зависит от того, какие слова должны в данный момент появиться на экране, — включаются связи между одними элементами и выключаются между другими, изменяется последовательность их работы. В действующей системе можно выделить несколько «слоев», подчиняющихся особым закономерностям. Слой, законы которого определяют протекание электрических процессов, назовем «субстанциональным». Слой, в котором происходит детерминация появления именно этого сообщения на экране, будет слоем «актуальным». Между ними располагается вспомогательный слой — «функциональный», задачей которого является организация и реорганизация субстанциональных элементов и связей так, чтобы их функционирование реализовало процессы слоя «актуальности»[44]. Что дает для нашей проблемы анализ этого примера? С помощью полученной методологической конструкции мы можем теперь в первом приближении указать ту действительную задачу, которую решал и мог при его методологических и методических средствах решить И.П. Павлов. Исследовательский интерес теории условных рефлексов, как уже говорилось, фактически не выходит за пределы рогов спинного мозга в реальное взаимодействие животного с предметной средой. Может быть, анализ того, что происходит здесь, анализ реальных поведенческих процессов ничего не прибавляет к нашему знанию о нервной деятельности? Да, для той задачи, которую фактически решает И. П. Павлов (независимо от его саморефлексии), исследования этих процессов несущественны. Он изучает законы процессов, происходящих в мозговой ткани, а они не изменяются в зависимости от изменения внешней деятельности животного, подобно тому как не изменяются законы электрического тока, реализующие работу компьютера, в зависимости от перемены программного обеспечения. Функционирование мозга меняется под влиянием осуществляемого поведения, а законы протекания мозговых процессов — нет. Если мы видим, что камень летит вверх или падает вниз с ускорением, не равным g, это не значит, что мы присутствуем при нарушении закона всемирного тяготения. Однако действие этого закона во всей чистоте можно эмпирически наблюдать только при особых, идеальных условиях (отсутствии действия на тело сил сопротивления воздуха и других сил, кроме сил притяжения). В случае попытки анализа законов мозговых процессов в чистом виде таким приближением к подобным идеальным условиям явилась, как мы уже видели, ситуация образования слюнных условных рефлексов. Таким образом, действительной задачей исследований И.П. Павлова является, в нашей терминологии, изучение субстанционального слоя работы мозга как системы. Но как это ясно из примера, знание законов этого слоя нисколько не приближает нас к проникновению в тайны других слоев, их особых закономерностей[45]. 5. Рефлексы на свободе Кажется, на научное понятие распространяются и закон Мерфи, и принцип Питера: если объем понятия может расти, он растет, и в этом росте понятие стремится достичь своего уровня некомпетентности. Теория условных рефлексов не смогла, конечно же, ограничиться задачей анализа «мозговых процессов». «Мы имеем претензию, — писал И. П. Павлов, — все поведение животного объяснить физиологически» (Павлов, 1951–1952, т. 3, с. 227). Однако попытки вывести понятие условного рефлекса за пределы привязного станка и попытаться рефлексологически объяснить реальные психологические феномены оборачивались порой откровенным конфузом. Приведем для примера попытку воспользоваться понятием рефлекса для анализа свободы и рабства. В мае 1917 г. Павловым совместно с Губергрицем был прочитан доклад в Петроградском биологическом обществе под примечательным заглавием «Рефлекс свободы». Вот фрагмент этого доклада: «Очевидно, что наряду с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности… Как часто и многообразно рефлекс рабства проявляется на русской почве! Приведем один литературный пример. В маленьком рассказе Куприна "Река жизни" описывается самоубийство студента, которого заела совесть из-за предательства товарищей в охранке. Из письма самоубийцы ясно, что (что же ясно авторам? — Ф.В.) студент сделался жертвой рефлекса рабства, унаследованного от матери-приживалки. Понимай он это хорошо, он, во-первых, справедливее бы судил себя (то есть не позволил бы своей совести так укорять его за предательство, сославшись на дурную наследственность?! — Ф.В.), а во-вторых, мог бы систематическими мерами развить в себе успешное задержание, подавление этого рефлекса» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 1, с. 345). В комментариях подобное рефлексологическое литературоведение не нуждается. Коснемся еще одной «территории» за пределами привязного станка, куда попыталось шагнуть понятие рефлекса. Речь идет о цели и целевой детерминации двигательных актов. Важность этой темы в том, что категория цели приобрела особую значимость в последующих теориях П. К. Анохина и Н.А. Бернштейна, поставивших перед собой задачу физиологического объяснения активности животных. 6. Проблема цели По существу И.П. Павлов обсуждал проблему цели всего один раз, в докладе «Рефлекс цели», сделанном на III съезде по экспериментальной педагогике в 1916 г. Центральное положение доклада заключалось в необходимости отличать акт стремления к цели от смысла и ценности самой цели (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 1, с. 307). Текст этого доклада, прочитанного в несвойственной автору «менталистской» манере, можно трактовать очень по-разному. Не подкрепленный другими высказываниями И.П. Павлова по этому поводу и экспериментами, основанный лишь на житейских наблюдениях, он оставляет слишком большую свободу интерпретаций и, значит, опасность внести в его понимание чрезмерно много чуждых, быть может, докладчику представлений. Поэтому обратим внимание лишь на то, что само словосочетание «рефлекс цели» противоречит как понятию рефлекса, так и понятию цели, обессмысливая и то, и другое[46]. Больше к обсуждению этой проблемы И.П. Павлов фактически не возвращался. П.К. Анохин объясняет это тем, «что сам факт возникновения цели для получения этого или иного результата вступает в принципиальное противоречие с основными чертами рефлекторной теории» (Анохин, 1975, с. 38), с ее последовательно-натуралистической методологией, добавим мы. Вот что пишет по этому поводу сам Павлов: «Видя развитие живой природы, проявление общего, нам еще не известного его закона, мы антропоморфически, субъективно, как вообще, так и на отдельных фазах, заменяем знание закона словами "цель", "намерение", то есть повторяем только факт, ничего не прибавляя к его настоящему знанию. При истинном же изучении отдельных систем природы, до человека включительно, из которых она состоит, все сводится лишь на констатирование как внутренних, так и внешних условий существования этих систем, иначе говоря, на изучение их механизма, и втискивание в это исследование идей цели вообще и есть смешение разных вещей и помеха доступному нам сейчас плодотворному исследованию. Идея возможной цели при изучении каждой системы может служить только как пособие, как прием научного воображения, ради постановки новых вопросов и всяческого варьирования экспериментов…» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн.2,с.187). В приведенном отрывке мы видим различение цели как условного познавательного приема и как понятия объективно-онтологического. Признавая осмысленность и эвристичность первого употребления, И.П. Павлов решительно отвергает второе. Причина тому — методология механистического материализма, которой придерживался И.П. Павлов (отставая в плоскости философской рефлексии от своего собственного теоретического мышления, реализовавшего, по свидетельству М.Г. Ярошевского (1972), идеи более высокого порядка — идеи биологического детерминизма), а механицизм считает целевую связь не более чем идеалистически перевернутой причинной связью. А раз так, то признание ее реального существования влечет за собой признание влияния на ход событий будущего, то есть того, чего еще нет. Зная только такую цель, И.П. Павлов отвергает всякую возможность введения понятия цели в объяснение поведения. Однако есть еще одна, не менее важная причина игнорирования этого понятия, прямо вытекающая из теоретических представлений И.П. Павлова. Как мы видели выше, исследования И. П. Павлова фактически отвлекаются (теоретически и методически) от рассмотрения реальных движений животного. «Цель же, — замечал еще Аристотель, — это цель какого-нибудь действия, а все действия сопряжены с движением. Так что в неподвижном не может быть этого начала (цели)» (Аристотель, 1975, с. 101). Н.А. Бернштейн: физиология активности В наши задачи не входит сколько-нибудь подробный анализ концепции Н.А. Бернштейна. Думается, она вообще должна еще подождать своего историка — слишком мало мы отошли от того грандиозного события в развитии физиологического (а косвенно — и психологического) мышления, которое являет собой физиология активности. Тем не менее уже сейчас можно выделить те главные открытия, которые сделал Н.А. Бернштейн. 1. Факт сложности движения Краеугольным камнем теоретических построений Н.А. Бернштейна является описанный им факт неоднозначной связи между эфферентным импульсом и результирующим движением. Чтобы проследить за логикой мысли Н.А. Бернштейна[47], нужно начать с элементарного вопроса: что непосредственно обеспечивает судьбу особи в процессе приспособления к реальным обстоятельствам жизни? Ответ очевиден: эффекторные функции. Рецепторика же представляет собой подсобную, обслуживающую функцию. «Нигде в филогенезе созерцание мира не фигурировало как самоцель, как нечто самодовлеющее» (Бернштейн, 1947,с.9). При этом животное, обитающее и действующее в среде, своим внешним поведением вынуждено «говорить на языке этой среды». Это необходимое условие его приспособленности к внешнему миру. Кроту необходимо прорыть ход в почве, обладающей совершенно конкретными физическими характеристиками, рыси — приземлиться при прыжке именно в ту точку и в то время, когда там находится жертва, а той, чтобы выжить, нужно суметь убежать. Иначе говоря, в процессе приспособления животное постоянно решает «двигательные задачи». Двигательная задача — это определяющееся совокупной ситуацией изменение предметной действительности, которое необходимо осуществить животному в данный момент. Для того чтобы решить ее, естественно, нужно осуществить ряд движений. Рассмотрим, как связаны между собой эти движения и эфферентная импульсация, которая их вызывает. Для упрощения изложения этой проблемы введем понятие «парциального» движения (хотя сам Н.А. Бернштейн им не пользуется) по аналогии с понятием парциального давления газа в физике. Парциальным будем называть такое гипотетическое движение, которое бы произошло, если бы во время движения тело оказалось бы вне поля действия каких-либо внешних сил. Иначе: парциальное движение мы получили бы, если бы из совокупности всех сил, определивших реальное движение, вычли все вектора внешних сил. Введением этого понятия фиксируется тот тривиальный, казалось бы, факт, что реальное движение тела зависит не только от сил внутренних, но и от внешних по отношению к организму сил (тяготения, сопротивления предметов и противников и т. д.). Что представляют собой эти последние? Определяется ли парциальное движение только сокращением мышц? Стоит лишь попристальней взглянуть на тело как на механическую систему, чтобы убедиться, что это не так. То, каково будет парциальное движение, зависит и от положения, в котором находилось тело в момент сокращения мышц, и от тех относительных ускорений, с которыми двигались его отдельные звенья. То есть парциальное движение определяется сокращением мышц и инерцией тела. Но более того: оказывается, что само сокращение мышцы зависит не только от центрального импульса, но также от функционального состояния мышцы и от ее наличной длины (Бернштейн, 1966, с. 21). (Напомним, что между напряжением мышцы и ее наличной длиной существует механическая обратная связь: изменение напряжения мышцы изменяет распределение сил в сочленении, следовательно, и взаимораспределение и взаиморасположение звеньев сочленения, а значит, и длину мышцы.) Таким образом, писал Н.А. Бернштейн, преодолевается «старое привычное представление, implicite принятое и до сих пор сохранившееся у многих физиологов и клиницистов, согласно которому скелетное звено вполне покорно центральному импульсу и однозначно повинуется ему. По этому представлению центральный импульс "а" всегда вызывает движение "А", а импульс "в" — движение "В", из чего далее следует, что легко строится представление о двигательной зоне коры как о распределительном пункте с пусковыми кнопками» (Бернштейн, 1966,с. 43). Этой абстракции «простого движения» Н.А. Бернштейн противополагает представление, которое можно было бы назватьмоделью сложного движения. Попробуем изобразить ее в виде схемы 1. Эта схема упрощает строгие математические и инженерные выкладки Н.А. Бернштейна, но и в таком виде она фиксирует главное — факт, что между центральной эфферентной импульсацией и реальным движением животного существует связь сложная, неоднозначная и принципиально невычислимая до деятельного столкновения животного с конкретной предметной ситуацией. Это и есть факт сложности движения, как мы его назвали. Тем самым была преодолена одна из основных догм традиционных рефлексологических и бихевиористских теорий, полагавших, что любое движение животного содержится в потенциальной форме в организме, высвобождаясь в неизменном виде при наличии определенной, раз и навсегда заданной эфферентной импульсации. К методологическим следствиям этого открытия у нас еще будет повод обратиться, но у медали факта сложности движения есть и конкретно-теоретическая обратная сторона — сложность восприятия.
Схема 1. Модель сложного движения 2. Сложность восприятия В сложной кинематической цепи, которую представляет собой тело высшего животного, поясняет НА. Берн-штейн, всякая сила, возникающая в одном из звеньев, тотчас же вызывает целую систему реактивных и отраженных сил. «Эти реактивные силы наслаиваются на то есть силы, которые находятся в распоряжении организма и делают общую динамическую картину движения цепи… практическинепредусмотримой из-за крайней их механической запутанности» (Бернштейн, 1947, с. 20). Если добавить к этому многообразные текущие воздействия на движущееся тело животного сил предметной среды, не только постоянных (таких, как сила тяжести) и независимых от его движений (таких, например, как скорость течения реки, по которой животное плывет), но и «развязываемых» каждым движением животного, то становится совершенно понятным, что центральной нервной системе приходится управлять чрезвычайно мало подчиненным ей «механизмом», движение которого хотя и зависит от центральной эфферентной импульсации, но также и от огромного количества других влияний. Особая парадоксальность положения ЦНС как управляющего органа в том, что учесть эти влияния загодя, в момент посыла импульса-распоряжения невозможно, поскольку до движения многих из них просто нет, они развязываются самим движением и меняются по ходу его осуществления. «Путь, найденный природой к преодолению охарактеризованных трудностей, прямо подсказывается фактом двоякой обусловленности мышечных напряжений. Раз при данном физиологическом состоянии мышцы напряжение ее зависит от ее наличной длины, значит, ЦНС будет реально в состоянии придать мышце то или иное требующееся напряжение в том и только в том случае, если она будет в курсе этой наличной длины мышцы и всех претерпеваемых ею изменений» (Бернштейн, 1947, с. 28). Значит, для адекватного управления напряжениями мышц с помощью эфферентных импульсов ЦНС должна постоянно иметь приток информации о позе кинематической Цепи и о мере растяжения каждой из влияющих на ее движение мышц. Наличие такой информации и путей, ее проводящих, было неоднократно доказано клинически и экспериментально (там же, с. 90). Подобный принцип координации получил в концепции Н.А. Бернштейна название принципа сенсорных коррекций. Естественно, что не одна лишь проприорецепторика, а «все виды афферентаций организма принимают в разных случаях и в разной мере участие в осуществлении сенсорных коррекций. Иными словами, каждому виду и качеству чувствительности доводится в очередь с ее основной экстерорецептивной (иногда и интерорецептивной) работой выполнять функции наблюдения за движениями собственного тела и сигнализировать о них в ЦНС в порядке выполнения сенсорных коррекций» (там же). Принцип сенсорных коррекций приводит к важному различению двух функций афферентаций: контрольно-корректировочной и сигнально-пусковой. В условнорефлекторной теории, как показано выше, могла быть замечена и принята в расчет только вторая из них — восприятие безусловных и условных стимулов реагирования, «что оставляло вне поля зрения глубоко важные формы работы рецепторики как неотрывного участника кольцевых процессов взаимодействия с внешним миром» (Бернштейн, 1963, с. 304). Если в павловской концепции на долю афферентаций выпадало лишь запускать движение, если она находила их готовыми (причем врожденно) и задача ее заключалась лишь в том, чтобы дать им толчок, когда требуется, то в свете факта сложности движения, того факта, что двигательный эффект центрального импульса не может быть предрешен в центре, стало ясно, что перед афферентацией наряду с сигнальной задачей стоит задача участия в построении движения. В то время как в павловской концепции вся проблематичность мира и жизни для животного заключалась в том, чтобы опознать ситуацию, то в теории Бернштейна к ней прибавляется не менее важная задача — совершить действие. Самый своевременный и громкий сигнал пожарной тревоги не погасит огонь. Животному требуется не только заметить опасность, но и избежать ее, не только установить по условным сигналам наличие привлекательного объекта, но и овладеть им, решив двигательную задачу, — вот целостный приспособительный акт. Когда движение уже «запущено в ход» тем или иным сенсорным сигналом, от особи для решения двигательной задачи требуется уже не условное, кодовое, а объективное, количественно и качественно верное отображение окружающего мира. Оно обеспечивается, согласно теории Н.А. Бернштейна, рядом так называемых сенсорных синтезов, или полей, к которым относятся схема тела, пространственно-двигательное поле, синтез предметного пространства и др. Объективность отражения животным среды, понятно, не означает зеркальности этого отражения, о чем говорит хотя бы наличие нескольких существенно разных сенсорных синтезов. Эти последние в действии и через действие подвергаются «прогрессирующей шлифовке и перекрестной выверке показаний» (Бернштейн, 1947). Мы видим, какое усложнение представлений об афферентном процессе повлек за собой отказ от взгляда на движение животного как на простое событие, однозначно вызываемое эфферентным импульсом. 3. Идеальный объект концепции — рефлекторное кольцо Открытие «сложности движения» и «сложности восприятия» привели Н.А. Бернштейна к пересмотру структуры отдельного поведенческого акта — схема дуги была заменена схемой рефлекторного кольца (Конради, 1934). Введение схемы кольца было вызвано доказательством принципиальной неуправляемости движений с помощью одних только сколь угодно тонких эфферентных последовательностей импульсов (Бернштейн, 1947). Эта схема в одном из первоначальных вариантов выглядела таким образом:
Схема 2. Схема рефлекторного кольца (Верштейн, 1947, с. 30) В связи с введением таких представлений произошел коренной пересмотр статуса рефлекса в поведении животного. Рефлексы перестали казаться атомами, из соединения которых складываются сложные поведенческие акты. «Рефлекс — не элемент действия, а элементарное действие, занимающее то или другое место в ранговом порядке сложности и значимости всех действий организма вообще» (Бернштейн, 1966, с. 302). 4. Еще раз о методе теории условных рефлексов Такое неуместное расположение этого раздела объясняется тем, что только теперь, обретя в концепции Н.А. Бернштейна необходимые теоретические средства, мы можем достаточно полно понять каждый момент методической процедуры образования УР и ту роль, которую играет экспериментальный метод И.П. Павлова в его концепции. Основная функция экспериментального метода в структуре научной концепции состоит в приведении реального объекта исследования в соответствие с основным идеальным объектом данной концепции. Реальный объект специальными процедурами и всяческими методическими ухищрениями как бы вталкивается в форму идеального объекта, там же, где это не удается, выступающие детали отсекаются либо технически, либо теоретически: их считают артефактами. В случае павловской концепции реальным объектом исследования можно считать поведение животного, а основным идеальным объектом теории, как мы видели, понятие рефлекса. Если экспериментальный метод должен в материале реального объекта исследования воплотить идеальный объект теории, это означает в данном случае, что поведение животного должно быть организовано в экспериментальной ситуации таким образом, чтобы обеспечить основные абстракции, которые конституируют понятие рефлекса, — абстракцию простого движения и абстракцию простого восприятия. Как это делалось? Предположим, что изложенная выше схема «сложного движения» (см. схему 1) является совершенно адекватным отражением объективной реальности. Что нужно для того, чтобы привести это сложное движение в соответствие с абстракцией простого движения, то есть такого, где центральный импульс однозначно связан с результирующим эффектом? Иначе говоря, что нужно, чтобы «смоделировать» в эксперименте «простое движение»? Для этого необходимо согласно схеме «сложного движения» (см. с. 82) сделать константными величинами: (а) наличную длину мышц; (б) инерцию тела; (в) внешние силы. Кроме того, необходим еще один пункт (г) — обеспечить независимость реального движения от влияний «предметной ситуации». Задачи (а) и (б) в павловских опытах решались лишением животного возможности двигаться: собака зажималась в привязной станок. Требование (в) обеспечивается при этом автоматически. Наконец, последняя эадача — достижение независимости реакции от предметкой среды — решалась тем, что в качестве «зависимой переменной» в классических опытах павловской школы было выбрано слюноотделение, то есть реакция, которая может осуществляться безо всякого взаимодействия с предметной средой. Заметим, что выбор в качестве непосредственного объекта экспериментального наблюдения одних только слюнных реакций позволял кроме последней задачи еще раз продублировать и решение задач (а), (б) и (в), поскольку все эти механические величины для слюноотделения практически несущественны. Такое дублирование не было, однако, бессмысленной перестраховкой: животное нужно было обездвижить не только ради материализации абстракции простого движения, но и для попытки экспериментального воплощения абстракции простого восприятия[48]. Воплотить эту абстракцию — такова была вторая необходимая задача экспериментального метода, стремившегося превратить реальный объект исследования (поведение) в идеальный объект (рефлекс). Восприятие, неотъемлемый «функциональный орган» (Зинченко, 1997; Зинченко, Гордеева, 1982) всякого процесса, заслуживающего имени «поведение», является (сейчас для психологов это кажется чуть ли не очевидным) активным процессом построения образа. Этому активному процессу в павловских опытах противостояла в качестве формы, к которой его нужно было привести, абстракция простого восприятия, описанная выше. Как ее" пытались обеспечить в эксперименте? Главный путь, по которому пошли исследователи, строился по такой приблизительно логике. Каждый раздражитель однозначно вызывает соответствующее событие в больших полушариях — возникновение очага возбуждения. В свою очередь эти очаги по законам функционирования мозговой ткани вызывают процессы иррадиации, индукции и т. д. Нам нужно исследовать эти процессы в чистом виде, как исходящие из двух контролируемых точек, соответствующих сигнальному и безусловному раздражителям, не допустив никаких дополнительных посторонних влияний на них из других источников. Этого можно достичь, если исключить из экспериментального поля все возможные стимулы, кроме тех, которыми управляет экспериментатор. Для этого необходимо, во-первых, устранить по возможности все движения животного, которые сами являются проприоцептивными раздражителями, да вдобавок воздействием на предметы в экспериментальном помещении могут создать неучтенные экспериментатором раздражители, а во-вторых, сконструировать искусственные «химически чистые» раздражители, оградив экспериментальные стимулы от всякого рода шумовых и фоновых примесей (Бернштейн, 1966, с. 332). И вот для решения этой задачи строится специальное сооружение, со всякого рода звуко- и светоизоляцией, романтически названное «Башня молчания». Столько было вложено трудов, но на поверку оказалось, что животное хотя и живет в мире реальном, но реальность эта совершенно не совпадает с тем, как она видится натуралистическому, физикалистскому мышлению: то, что экспериментаторы считали чистым, нейтральным фоном, почти полным отсутствием раздражителей, явилось для подопытных собак сильнейшим раздражителем. Тишина «Башни молчания» была оглушительной. Тем не менее при всех издержках и накладках можно утверждать, что свою миссию метод формирования условных рефлексов выполнил: поведение животного было Уложено в прокрустово ложе понятия рефлекса, что и Дало возможность обширнейших экспериментальных исследований закономерностей обусловливания. С научной точки зрения все было сделано почти безупречно. С методологической же проблема состояла в том, насколько правомерны переносы этих закономерностей «идеального объекта» (рефлекса) на целостный реальный объект (поведение). Игнорирование этой проблемы привело к тому, что теорией условных рефлексов воспользовались в свое время для идеологических гонений на психологию. Впрочем, эта тема выходит за пределы наших исследовательских задач. 5. Онтология и методология теории Н.А. Бернштейна Основное содержание онтологической картины концепции Н.А. Бернштейна зафиксировано в самом ее названии — «физиология активности». Если действующие лица, на первый взгляд, остались здесь прежними (Н.А. Бернштейн так же, как и И.П. Павлов, рассматривает схему «организм-среда»), то содержание ролей радикально изменилось: понятию организма и его основному отношению к среде даются совершенно новые интерпретации. В то время как традиционная физиология, занимаясь поведением, ограничивалась, по существу, рассмотрением отдельных приспособительных актов, в теории Н.А. Бернштейна горизонт физиологического умозрения расширяется до анализа жизни особи. Для этого потребовалось в первую очередь пересмотреть сложившееся понятие организма, трактовавшее его как реактивно-уравновешивающуюся систему. В концепции Н.А. Бернштейна организм рассматривается как организация, характеризующаяся двумя главными свойствами. Во-первых, это организация, сохраняющая свою системную тождественность сама с собой, несмотря на непрерывный поток как энергии, так и вещества, субстрата, проходящих через нее. Несмотря на то, что ни один индивидуальный атом в организме не задерживается в составе его клеток, организм остается сегодня тем же, чем был вчера, и его жизнедеятельность обусловливается всей его предшествующей жизнью. Во-вторых, — развивает биологическую диалектику Н.А. Бернштейн, — организм на всех ступенях и этапах своего существования непрерывно и направленно изменяется. Эта направленность онтогенетической эволюции неоспоримо доказывается хотя бы тем, что тысяча представителей одного животного или растительного вида развивается в особей, одинаковых по своим основным или определяющим признакам, несмотря на иногда весьма резкую неодинаковость внешних условий жизни у разных индивидов. Что касается эмбриогенеза, то, начиная уже со стадии оплодотворенного яйца, организм обладает закодированной моделью будущего своего развития, оформления и закодированной же программой последовательных ступеней этого развития. Самое же важное, по мнению Бернштейна, состоит даже не в этой «запрограммированности», а в том динамическом начале (в конце концов, вероятно тоже как-то закодированном и обладающим своим вещественным субстратом-носителем в клетке), которое создает у особи активное антиэнтропийное, преодолевающее стремление к реализации этой кодированной модели (Бернштейн, 1963,с. 313). Какие следствия влечет за собой это изменение понятия организма для онтологической картины концепции? Ясно, что отмеченная выше тождественность результатов морфогенетического развития на фоне изменчивых условий говорит о том, что организм активно преодолевает возможные и неизбежные внешние препятствия на пути программы своего морфогенеза. Экспериментальные факты повреждений и частичных ампутаций (например, конечностей) в эмбриогенезе, ампутаций, не мешающих этим органам развиваться в полноценную конечность; факты анатомических, а еще более функциональных регенераций; клинический материал — все эти данные говорят о том, что организм активно борется за свое выживание, развитие и размножение. Процесс жизни — это не уравновешивание с окружающей средой, как считал И.П. Павлов. Такое уравновешивание обрекло бы каждую особь на полную зависимость от среды и ее изменений, в результате чего о программном морфогенезе с удержанием стойких признаков вида нельзя было бы и думать. Процесс жизни — это преодоление среды, направленное при этом не на сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направлении родовой программы развития и самообеспечения (Бернштейн, 1963, с. 314). Такому общему взгляду на жизнь особи, на отношение «организм — среда», важнейшее в онтологии биологических дисциплин, полностью соответствует произошедшая в концепции Н.А. Бернштейна смена представлений об отдельном акте поведения, рассмотренная выше. Он существенно определяется средой, но никогда полностью не детерминирован ею. Активность — эта важнейшая черта живых систем (Бернштейн, 1966, с. 188) — на уровне отдельных поведенческих актов проявляется в их целеустремленности. Если понятие цели в концепции И. П. Павлова, как мы видели, в лучшем случае допускалось лишь в исследовательскую «кухню» как эвристический познавательный прием, то в физиологии активности Н.А. Бернштейна это понятие онтологизируется. Без него факты сложного поведения животного, факты координации и управления собственными движениями попросту необъяснимы. Обнаружение и исследование «сложности движения» в своем методологическом звучании явилось открытием предметного характера движения. Тривиальный, но от этого не становящийся несущественным факт активного взаимодействия живого существа с вещами внешнего мира совершенно не учитывался павловской физиологией. Она видела, с одной стороны, движение (сводимое к реакции), с другой — предмет (сводимый чаще всего к раздражителю, условному или безусловному), но не видела живого предметного движения, то есть движения, во-первых, удовлетворяющего некоторую жизненно важную потребность организма, а значит, в определенных своих параметрах жестко заданного этой потребностью, и, во-вторых, развертывающегося в предметном мире и вынужденного поэтому, чтобы быть успешным, соответствовать по своему составу объективным свойствам этого мира. Сложное строение тела высшего животного, с одной стороны, и подвижное многообразие объективных обстоятельств, с другой, делают всякую поведенческую ситуацию практически уникальной, так что даже самый богатый репертуар врожденных реакций в принципе не мог бы обеспечить каждую из ситуаций адекватным движением. Движение должно быть всякий раз заново построено. Нужно было коренным образом изменить представление об организме и способе его жизни, как это сделал Н.А. Бернштейн, чтобы поставить в конкретно-научной плоскости проблему построения движений. Ее решение с логической необходимостью потребовало перестройки концептуального аппарата физиологической науки в той его части, которая была предназначена для изучения поведения. Сюда относится переход от схемы рефлекторной дуги к схеме рефлекторного кольца, развитие представлений о коррекции движений с помощью проприорецепторики (в широком смысле), что означало открытие важнейшей контрольно-корректировочной функции афферентации наряду с открытой И.П. Павловым сигнально-пусковой ее функцией. Наконец, в аппарат поведенческих дисциплин был введен ранее считавшийся крамольным комплекс понятий: цель, задача, «модель потребного будущего». Эти понятия, фиксируя важнейший механизм реализации сложного поведения, явились в то же время конкретным воплощением общей идеи активности — активного, деятельного, преодолевающего отношения организма к среде, — пришедшей на смену представлениям об этом отношении как об уравновешивании. Столь значительный прогресс в теоретических представлениях был возможен лишь при овладении новыми, более мощными методологическими средствами. В этой методологической плоскости концепцией Н.А. Бернштейна был сделан шаг не меньший, чем в плоскости конкретно-научной. В науках о поведении это был шаг от методологии натуралистической к методологии деятельностно-ориентированной. Центральная для методологии науки проблема детерминизма была в физиологии активности решена парадоксальным для классического физиологического натурализма образом: не столько законы функционирования мозговой ткани определяют поведение животного, то есть его реальную жизнь, сколько сама эта жизнь, деятельное решение жизненных задач определяет функционирование мозга, а в эволюционных масштабах и его строение. Можно сказать, что Н.А. Бернштейн открыл для конкретно-научного физиологического исследования поведенческую реальность, сумев описать его единицу — «живое движение». Входящий в состав живого движения механизм «сенсорных коррекций» делает его движением «умным», «зрячим», поэтически выражаясь — «исполненным очей», а психологически — осмысленным, изнутри просветленным отражением предметной реальности. Но само это отражение, этот «ум» живого движения вовсе не самостоятельная, отдельная от собственно движения инстанция, а «функциональный орган» (см. Зинченко, 1997; Зинченко, Гордеева, 1982), вне и помимо самого движения не работающий. Все это известные и житейскому самонаблюдению вещи: так нога, нащупывая в темноте тропинку, одновременно и исполняет очередной шаг, и изучает предметную реальность, и гибко перестраивает свое движение в соответствии с этой реальностью. Впрочем, то, что для житейского сознания просто, то нередко чрезвычайно сложно для точной научной фиксации. Это, так совершенно устроенное у высших животных, внешнее поведение, в павловской теории, несмотря на ее претензии объяснить фундаментальные законы поведения, по существу изгонялось из физиологической науки. Реальное поведение (как действие, так и восприятие) низводилось в павловской системе до роли источника информации для мозга животного и индикатора гипотетических мозговых процессов (индукции, иррадиации, замыкания и т. п., что Б.Ф. Скиннер ядовито, но точно назвал «концептуальной нервной системой») для исследователя. Ничего интересного от исследования строения самого поведения не ждали, весь интерес был направлен вглубь, за черепную коробку, содержащую, как думалось, в себе все тайны и законы поведения животного и человека. Гносеологическая, лабораторная редукция поведения до роли источника информации невольно онтологизировалась, так что основной жизненной задачей животного считались не действия, а ориентирование в среде, получение своевременной информации о появившихся раздражителях. (Да и то сказать, если весь репертуар врожденных реакций всегда в распоряжении животного, главное — своевременная информация, точная ориентировка, а уж за правильным приказом и его точным исполнением дело не станет.) Эта «информационно-ориентировочная» парадигма, заданная павловской методологией, продолжала реализовываться в трудах его учеников и последователей, в первую очередь в теории П.К. Анохина, несмотря на, казалось бы, радикальные преобразования, внесенные этой теорией в павловские представления о поведении, — понятие акцептора действия, принцип обратной связи и пр. И все же, несмотря на бесспорную продуктивность и на новейшую для того времени кибернетически-информационную терминологию, эти теории лишь закрепили главный методологический порок павловского учения — неспособность научно увидеть самостоятельную, полновесную реальность живых, предметных двигательных актов, несводимых ни к каким условным сигналам, ни к какой информационной представленности в мозгу. Кибернетического толка теории поведения при неоправданной экспансии информационных абстракций склонны к замещению реальности информацией о реальности, как в физиологическом мышлении И.П. Павлова реальное событие — раздражитель — легко замещалось нервным возбуждением афферентной клетки, а реальное движение — возбуждением клетки эфферентной (вспомним павловский тезис: «Последняя инстанция движения в клетках передних рогов спинного мозга»). Будь этот биологический иллюзионизм справедлив, для боксера было бы безразлично, получает ли он информацию об ударе или удар, для экспериментального животного — получает ли оно информацию о пище или саму пищу. Корыстолюбивый предтеча такой информационной теории взаимодействия живого существа с миром, хозяин стамбульской харчевни требовал от бедняка расплатиться за запах шашлыка, но Ходжа Насреддин указал ему на методологическую непоследовательность, предложив получить плату не монетами, а звоном монет[49]. Но, возвращаясь к физиологии активности, можно спросить: разве сам НА. Бернштейн, особенно в последних своих работах, не использовал в качестве ключевой идею обратной связи и не подошел к информационно-кибернетической методологии? Использовал и подошел, но стоит полностью согласиться с квалификацией А.Н. Леонтьевым этой переориентации взглядов Н.А. Бернштейна как «известного отступления от ранних работ, в которых развивался принцип активности…» (Леонтьев, 1972, с. 79). Дело в том, что представление о кольцевой регуляции «живого движения» с помощью сенсорных коррекций, осуществляемых на разного уровня «сенсорных полях», хотя и содержит в себе с формально-логической точки зрения одну из центральных идей кибернетики — принцип обратной связи, но для исследования поведения намного продуктивнее и богаче этой идеи и сведена к ней быть не может. Понятие обратной связи в физиологии поведения (реализованное, в частности, в концепции акцептора действия П.К. Анохина) оперирует поведенческими событиями как готовыми, атомарными сущностями. Движение при этом попадает в поле зрения теории только до его начала (в виде цели) и после его завершения (в виде результата). Представление же о сенсорных коррекциях и сенсорных полях разных уровней ухватывает движения животного в его живом протекании, в его динамическом построении, которое вовсе не является суммой атомарных проб исполнения данного движения. Не случайно главный труд Н.А. Бернштейна так и назван «О построении движений». Поэтому свести методологию «физиологии активности» к идее обратной связи — значит пройти мимо самого интересного, творческого, глубокого и перспективного в ней. Итак, на уровне уже философской, а не собственно методологической рефлексии теория условных рефлексов репрезентирует философию натуралистического иллюзионизма. Физиология активности, мыслящая поведенческий акт как живой орган встречи с реальностью, функционирование которого изнутри просветлено перцептивным отражением этой реальности, а сама эта перцепция опосредована реальным предметным движением, — это теория, которая воплощает совсем другую философию — философию энергийного реализма. 2.3. Павлов и Скиннер: сравнительный методологический анализ теорий Название главы можно было бы стилизовать под логическую формулу «(Павлов & Скиннер) V Бернштейн?», пытаясь так выразить, во-первых, утверждение, что истинно одно из двух — либо теория Н.А. Бернштейна, либо концепции И.П. Павлова и Б.Ф. Скиннера вместе взятые, а во-вторых, вопрос — что же все-таки истинно? Однако от подобного заголовка пришлось отказаться потому, что о теории И.П. Павлова речь пойдет только в самом конце главы, а фамилия Н.А. Бернштейна и его конкретные теоретические идеи почти вовсе не будут фигурировать на последующих страницах; но, главное, потому, что для автора эта дизъюнкция уже потеряла свой вопросительный знак, она решена в пользу Н.А. Бернштейна. Авторская точка зрения совмещена в рамках данной работы с той методологической и теоретической позицией, которую символизирует имя Н.А. Бернштейна, и анализ оперантного бихевиоризма Б.Ф. Скиннера ведется с опорой именно на это основание, само по себе остающееся вне обсуждения, как бы вынесенным за скобку. Что касается знака конъюнкции между Павловым и Скиннером, то он использован здесь скорее в психологическом, чем в логическом смысле и выражает сложившееся у автора убеждение, что концепции этих ученых вырастают из одного и того же методологического корня, имеют один и тот же философский и методологический «генотип», черты которого, несмотря на все «фенотипические» различия, явно проступят, если поставить эти две теории рядом. «Поставить теории рядом» — значит придать им сопоставимую форму, чтобы можно было сравнивать не по их самопредъявлению, не по поверхностным признакам, а по внутренней сути. Для этого нам понадобится методологически препарировать концепцию радикального бихевиоризма так же, как это было сделано в предыдущей главе по отношению к теории условных рефлексов и с помощью того же, уже знакомого читателю методологического аппарата (онтология — основной идеальный объект — предмет — объект — метод). Радикальный бихевиоризм Б.Ф. Сканера 1. Онтология Онтологией радикального бихевиоризма является та же, что и у И.П. Павлова, схема «организм — среда». Однако понятие организма здесь пересмотрено, точнее — принципиально и сознательно недосмотрено: исходя из своей позитивистской установки, Б.Ф. Скиннер отказывается от учета всех внутренних, во внешнем поведении непосредственно не наблюдаемых процессов — физиологические они или психологические — неважно, а вернее, неизвестно. Организм есть «черный ящик», некая непрозрачная емкость, в принципе не проницаемая, а главное — неинтересная для бихевиористского взгляда. Организм — это место, в котором нарушается непрерывность наблюдаемых в онтологии «организм — среда» процессов, это как бы дыра, брешь в среде, где бесследно исчезают и откуда неожиданно появляются наблюдаемые процессы. Между теми и другими, интерпретируемыми соответственно как стимулы и реакции, естественно, устанавливаются не причинные отношения, предполагающие наличие непрерывности, а отношения корреляционные. Скиннер «игнорирует возможность промежуточных физиологических звеньев… — пишет известный историк психологии Е. Боринг. — Такие функциональные отношения, как R = f(S), устанавливаются наблюдением за соизменениями S и R и лишены физической непрерывности между терминами, которую предпочитают большинство ученых. Скиннеровские функции — просто корреляции дискретных переменных, и друзья Скиннера порой шутят, что он имеет дело с пустым организмом» (Boring, 1950, р. 650). В шутке этой, впрочем, шуточного немного, она является вполне точной констатацией ядерной методологемы радикального бихевиоризма, которую можно назвать абстракцией «пустого организма». Эта абстракция чрезвычайно последовательно проводится Скиннером на всех уровнях исследовательской работы, начиная от решения методологического вопроса об отношениях между физиологией и психологией и кончая способом описания и фиксации конкретных экспериментальных условий. Нелепо было бы, конечно, понимать эту абстракцию буквально. Разумеется, Скиннер знает, «что организм не пуст и поэтому не может быть адекватно изучен просто как "черный ящик", но, — настаивает он, — мы обязаны внимательно относиться к разнице между тем, что нам действительно известно о находящемся внутри, и тем, что просто логически выводится» (Skinner, 1974, р. 213). Абстракция «пустого организма» — лишь квазионтологическое выражение пафоса гносеологической борьбы Скиннера против метафизических демонов и гомункулусов, в какие бы материалистические одежды они ни рядились в теориях современных физиологов и психологов, приписывающих своим концептам реальную силу и способность упорядочивать поведение и управлять им. Другими словами, абстракция «пустого организма» — выражение неудовлетворенности «менталистской» психологией (считающей возможным ссылаться при объяснении поведения на такие ненаблюдаемые вещи, как желание, потребность, намерение и т. п.) и «концептуальной» физиологией, апеллирующей к столь же мистическим сущностям. Дело в том, поясняет Скиннер, что с античности поведение объясняется смесью анатомических, физиологических и менталистских фактов. «Его сердце разбито в любовной драме»; «Он ошибся, потому что его нервы были натянуты» и т. д. и т. п. Это обстоятельство сказалось не только на психологии, но и на физиологии. «Были выделены различные части нервной системы, но что происходит в каждой из них — это только логически выводилось. Отчасти такое положение сохранилось и в XX веке. Синапс, проанализированный сэром Чарльзом Шерингтоном, был частью концептуальной (читай «воображаемой». — Ф.В.) нервной системы; то же относится и к "деятельности коры больших полушарий", исследованной Павловым» (Skinner, 1974, р. 213). Чем пользоваться воображаемой нервной системой «для объяснения поведения, из которого она сама логически выводится», — считает Скиннер (там же), — лучше уж вообще отказаться пока от всякого физиологического объяснения. Хотя в отношении будущей физиологии Скиннер настроен чуть более оптимистично, но и ей отводится весьма скромная роль заполнения бреши между стимулами и реакциями, оставленной ей бихевиоризмом, знаниями о химических и электрических процессах, которые происходят в организме, когда он действует (Skinner, 1931, 1974). Впрочем, и тогда «то, что откроют физиологи, не сможет сделать недействительными законы, установленные наукой о поведении» (Skinner, 1974, р. 215). При всей справедливости критики Б.Ф. Скиннером физиологических фантазий нельзя не заметить, что он принципиально вычеркивает физиологию из списка поведенческих дисциплин, хотя из вежливости и говорит, что в будущем, когда она наберется ума, ей, может быть, и доверят закрасить белые пятна на карте научного объяснения поведения, но уж, конечно, никогда не доверят самой рисовать контуры поведенческого ландшафта. В самом деле, если, по мнению Скиннера, никакое самое совершенное физиологическое знание не сможет поколебать уже установленных законов поведения, значит, исторически сложившаяся граница между физиологией и бихевиоральной психологией возводится в ранг принципа, а следовательно, в онтологической плоскости строится непреодолимая стена между внешним и внутренним (физиологическим), между поведением организма и организмом. Поэтому психолог-бихевиорист, хотя и может помечтать, что физиологи когда-нибудь расскажут ему, «что происходит, когда, например, ребенок учится пить из чашки», или более того, «как, следя за изменениями в нервной системе, добиться, чтобы он научился это делать» (Skinner, 1974, р. 214), но в качестве профессионала он должен забыть, что за кожей что-то есть, что там происходят процессы, существенно сказывающиеся на поведении, или — упаси Бог — что есть нечто внутреннее, которое и в поведении не наблюдается, и в организме самым совершенным прибором не сыщешь и которое тоже вносит свой вклад в организацию и осуществление поведения. Хочешь оставаться ученым — считай, что «организм пуст», ищи детерминанты поведения в видимой внешней среде, отказывайся от метафизической привычки ссылаться на какое-нибудь «переключение возбуждения» или «намерение», которых никто никогда не видел и которых, следовательно, не существует как научных фактов. Вполне очевидно, что на философском уровне радикальный бихевиоризм является радикальным позитивизмом[50]. Приведем конкретный пример реализации позитивистских заповедей в познавательной практике радикального бихевиоризма. Когда в экспериментах Скиннера используется пищевое подкрепление, вес животного доводится, например, до 75 % от обычного веса. Дело здесь не в том, что Скиннер хочет дать некоторое объективно фиксированное и потому операционально воспроизводимое выражение потребности, в данном случае пищевой. Он в принципе отказывается от понятия потребности (как бы его ни трактовали — физиологически или психологически) как некоего внутреннего состояния организма, являющегося причиной поведения. Здесь нет предположения, что у всех участвующих в эксперименте животных (или у одной особи в разное время) при доведении их веса до 75 % от нормы пищевая потребность будет одинакова. Потребность, по Скиннеру, не есть то, что означается или выражается в этом весе, она есть 75 % веса, и ни о какой другой таинственной потребности, приписываемой внутреннему миру организма, говорить нельзя, если мы хотим говорить научно (разумеется, в позитивистском смысле этого слова). Скиннер утверждает: раз вы не можете объективно наблюдать потребность саму по себе, нельзя объяснять ею поведение, ибо само понятие потребности вы сначала выводите из поведения, а затем им же это поведение объясняете. Это физиологическая или психологическая мистификация, от которой бихевиорист должен отказаться. Когда вес животного перед экспериментом доводится до 75 %, то это — некоторый твердый факт, имеющий определенную фиксацию. Если при этом утверждать, что животное испытывает голод и потому действует, то это ровным счетом ничего не прибавляет к нашему знанию и, главное, никак научно, операционально не может быть учтено. Так что в экспериментальном мышлении Б.Ф. Скиннера не имеется в виду, что есть самостоятельная сущность — «потребность в пище», которая в данном эксперименте количественно выражается «семидесятипятипроцентным весом животного». Есть просто эти 75 % веса, и, если угодно, можете называть это потребностью, но не вкладывайте в это слово ваших привычных ассоциаций, за ним ничего не должно стоять, кроме указанных процентов и соответствующих процедур взвешивания. Так «организм» в онтологии радикального бихевиоризма последовательно очищается от всех внутренних содержаний. Что касается понятия среды в этой онтологии, то его удобнее обсудить несколько позже. 2. Основной идеальный объект радикального бихевиоризма — оперантный рефлекс Б.Ф. Скиннер так же, как и И.П. Павлов, полагает, что жизнь организма осуществляется за счет безусловных и условных рефлексов, но в отличие от русского исследователя он выделяет два типа обусловливания — классическое, или респондентное, изучавшееся в павловской школе, и оперантное обусловливание. Рассмотрим основные различия между этими типами. Б.Ф. Скиннер так схематизирует их (Skinner, 1935) [51]: Схема 1. Различия оперантного и респондентного обусловливания (приводится с несущественными изменениями по изданию — Skinner, 1959, р. 367) Центральное различие между этими типами приходится на результаты обусловливания. В первом случае происходит изменение силы рефлекса (S0 — R0), которая измеряется частотой или вероятностью появления ответа R0 при наличии стимула S0; во втором типе устанавливается условная связь S0y — R1б, то есть возникает новый рефлекс. Иначе говоря, оперантное обусловливание не порождает новых рефлексов, оно только увеличивает или уменьшает (в зависимости от того, положительное подкрепление или отрицательное) их силу, при респондентном же обусловливании возникает новый рефлекс, в котором ранее безразличный раздражитель S1б занимает место безусловного S1б и обретает способность вызывать соответствующую безусловную реакцию R1б. Чрезвычайно важны для характеристики обоих типов временные условия подкрепления. Чтобы произошло оперантное обусловливание, подкрепление S1 должно появиться после того, как произошла реакция R0. Во втором типе для обусловливания существенным является временное отношение подкрепления S1б не с реакцией R0у, а с безразличным раздражителем S0у. Чтобы стать условным, стимул S0у должен предшествовать или появляться одновременно с безусловным раздражителем (подкреплением) S1б. В статье «Два типа условных рефлексов и псевдотип» (Skinner, 1935) Скиннер проводит еще целый ряд различий между R- и S-обусловливанием, но для целей нашего методологического анализа достаточно и только что описанных. Коснемся вкратце вопроса о возможности сведения двух типов обусловливания друг к другу. К чести Скиннера надо сказать, что он избегает соблазна сводить классическое обусловливание к оперантному (Skinner, 1935). Правда, он утверждает, что чистый условный рефлекс эмпирически получить невозможно ввиду того, что во время подкрепления на животное действует не один только предназначенный стать условным раздражитель (например, свет), но вся совокупная стимульная ситуация. Поэтому для образования условного рефлекса на данный стимул требуется введение дополнительных условий, в самой схеме классического обусловливания не учитываемых, которые обеспечивали бы выделение S0у из стимульного поля, что экспериментально достигается его неожиданным появлением (Skinner, 1935). С точки зрения павловской теории условных рефлексов это просто недоразумение, основанное на игнорировании роли ориентировочной реакции: сначала Скиннер принимает, что для образования «чистого» условного рефлекса респондентного типа не существенна первичная реакция R0у на безразличный стимул, то есть ориентировочная реакция (там же), а затем, исходя из того, что для установления условной связи S0у — R1б требуется некоторая активность организма по выделению S0у из стимульного поля, он утверждает, что «чистого» условного рефлекса не существует. Скиннер почему-то отказывается допустить возможность, что та самая реакция R0у, которой он пренебрег в схеме образования классического условного рефлекса, как раз и берет на себя функцию выделения стимула[52]. Почему же? Ведь экспериментально, в чисто бихевиористской манере не так уж трудно зафиксировать, например, снижение порогов восприятия объекта, который стал стимулом ориентировочной реакции. Но тем не менее придание должного функционального значения ориентировочной реакции привело бы Скиннера к недопустимым для радикального бихевиоризма выводам о наличии перцептивного взаимодействия животного со средой, изменяющего эту среду не материально, а идеально — приданием тем или иным объектам особого статуса в жизненном пространстве животного. Что касается обратной возможности — сведения оперантного обусловливания к респондентному, то павловская школа вообще отказывается признать, что Скиннером (точнее, Миллером и Конорским) был открыт новый тип обусловливания, утверждая, что он без остатка сводим к закономерностям образования классического условного рефлекса[53]. Ход рассуждения базируется при этом на отождествлении оперантной реакции Rg с безразличным стимулом Sg": собственное движение животного может явиться для него точно таким же стимулом, как и любое другое событие, и, следовательно, может быть рассмотрено как раздражитель. А раз этот раздражитель предшествует появлению подкрепления, то со временем он становится условным, то есть начинает вызывать соответствующую подкреплению безусловную реакцию. Ни логически, ни фактически это рассуждение не противоречиво: если нажатие на рычаг точно так же, как и появляющийся независимо от животного звонок, сопровождается кормлением, и то, и другое в равной мере могут вызвать слюноотделение. Но тем самым просто усматривается функционирование классического обусловливания в ходе и во время оперантного обусловливания. А это вовсе не означает сведение последнего к респондентному, поскольку основной факт оперантной теории — увеличение вероятности оперантной реакции R при положительном подкреплении здесь не объясняется. Этот факт в стандартной схеме павловского эксперимента был бы равнозначен — смешно сказать — увеличению вероятности зажигания лампочки по той причине, что свет от нее стал для животного условным раздражителем. По-видимому, разумнее всего признать (как это и делает Скиннер — Skinner, 1935), что работают всегда оба механизма, и усмотрение функционирования одного во время действия другого не устраняет ни тот, ни другой. Рассмотрим теперь само понятие оперантного рефлекса безотносительно к его сопоставлению с респондентным. Как изменяется оперантный рефлекс в результате подкрепления? Существенной особенностью оперантного обусловливания является отсутствие подкрепления до тех пор, пока не произойдет оперантная реакция (Skinner, 1935), то есть последняя — это реакция на биологически нейтральный раздражитель и может быть названа поэтому «безразличной» реакцией по аналогии с понятием безразличного раздражителя у Павлова. Другими словами, до первого подкрепления оперантная реакция осуществляется, не «имея в виду» своих биотических последствий, вне какой-либо данности животному жизненно важного объекта и, соответственно, вне данности связи между его движениями и каким-то их будущим значимым результатом. Однако и после того, как произошло обусловливание, ошибочно утверждать, что животное «прозрело» относительно последствий подобного движения в сходных условиях и что оно будет осуществлять его в следующий разпотому, что «предвосхищает» или, того хуже, — «надеется» на получение такого же результата. Все это, — говорит Скиннер, — не более чем менталистские домыслы. Обученная крыса нажимает на рычаг в скиннеровском ящике вовсе не потому, что «ожидает», будто это приведет к появлению пищи… Просто в результате подкрепления увеличивалась вероятность такой реакции при наличии подобного стимула. Человек в таком изменившемся состоянии может переживать, что он нечто «предвосхищает», «ожидает», но это эпифеномен, необходимости в таком переживании нет, психическая деятельность не существенна для оперантного поведения (Skinner, 1974). В результате оперантного обусловливания нового рефлекса не появляется, а в старом не происходит никаких содержательных преобразований, никаких качественных перестроек, изменяется лишь его сила, или вероятность его появления (Skinner, 1935). Какова связь между стимулом и ответом в рефлексе? Стимулом Скиннер называет некоторое воздействие среды, «вызывающее энергетическое изменение на периферии» (Skinner, 1931). Реакция (ответ) тоже есть некоторое внешнее событие, движение, доступное наблюдению. Естественно, что стимул не может рассматриваться какпричина реакции, ибо наблюдение непрерывной причинной цепи в организме прерывается, и Скиннер не считает необходимым или даже полезным для анализа поведения знать о том, что происходит внутри, за кожей. Ссылаясь на Э. Маха, он заменяет понятиепричинения стимулом реакции понятием функционального отношения между ними (там же) и ставит задачу выявления корреляций: связь между ними в рамках радикального бихевиоризма не онтологизируется, она, как уже говорилось, отдается на откуп физиологии, которая, по мнению Скиннера, и должна заполнять брешь, оставляемую ей бихевиоризмом (Skinner, 1974), «стремясь к описанию рефлексов в терминах физико-химических событий» (Skinner, 1931, р. 336). Итак, стимул рассматривается Скиннером не как причина, а как фактор (если дать понятию фактора определение детерминанты, про которую известно, что она влияет на наблюдаемые события, но содержательный характер действия которой не является ни известным, ни искомым). «…Стимулы, — утверждает Скиннер, — не вызывают оперантных ответов, они просто изменяют вероятность того, что эти ответы произойдут» (Skinner, 1974, р. 223). Они обладают этой способностью не сами по себе, а в силу того, что присутствуют во время действия подкрепляющих обстоятельств. Какова должна быть связь между оперантной реакцией и подкреплением для того, чтобы произошло обусловливание? Исходя из здравого смысла можно было бы сказать, что подкрепление данного акта поведения происходит потому, что он производит некоторые преобразования среды или положения тела животного в среде так, что этим обеспечивается удовлетворение той или иной потребности. Однако такое рассуждение в корне противоречит духу скиннеровской теории. Во-первых, «ошибочно говорить, что пища оказывает подкрепляющее действие потому, что мы чувствуем голод, или потому, что мы чувствуем потребность в пище» (Skinner, 1974, р. 50). Чувство голода есть лишь ощущение некоторого условия, участвующего в процессе подкрепления, причем это условие действует вне зависимости от того, ощущается оно или нет. Во-вторых, — и это главное — связь между реакцией и возникающим после нее безусловным стимулом, подкрепляющим ее, является не предметной, содержательной связью, а отношением временного следования. Они могут быть, конечно, связаны и содержательно-предметно, когда оперантная реакция является предметной причиной возникновения в стимульном поле животного подкрепления, но таковой эта связь будет лишь по совпадению, а не по существу. С точки зрения скиннероаской схемы оперантного обусловливания реальный характер связи между реакцией и подкреплением (и формы чувственной данности животному этой связи) несущественен, то есть теоретически не различим (хотя эмпирически он, конечно, вполне может быть зафиксирован). Реакция в этой схеме будет подкреплена потому, что безусловный стимул последовал за ней, а не потому, что она его вызвала. Оперантная реакция (ответ) Центральным звеном, сердцем радикального бихевиоризма является представление об оперантной реакции. Если в результате подкрепления оперантный рефлекс S — R не появляется, не исчезает и никак не перестраивается, а лишь увеличивается или уменьшается вероятность его появления, значит и часть его, реакция R, в прижизненном опыте животного не испытывает никаких преобразований. Оперантная реакция есть, таким образом, врожденное, твердое, не изменяющееся в онтогенезе двигательное образование. В этом своем готовом виде она время от времени «выбрасывается» организмом в среду и затем, как пружина, вновь возвращается в исходное положение. Она, так сказать, предлагает процессам приспособления принять себя такой, как она есть, и только назначить ей ту или иную частоту своего проявления при наличии определенной стимульной ситуации. Подобно герою авантюрного романа (см. Бахтин, 1975), она возвращается после столкновения с предметным миром в том же виде и состоянии, в котором ушла, ни на йоту не изменившись, а только испытав и удостоверив в этом столкновении свой неизменный состав. Реакция не деформируется и не преображается, в ее фактуре не остается никаких осадков, примесей и следов от ее выхода в свет. Это представление мы будем условно называть абстракцией «чистого движения»( С равным правом ее можно было бы назвать и абстракцией «готового», «твердого», «атомарного» или «генотипического» движения. Эта абстракция является одним из вариантов общей и коренной для всего бихевиоризма и рефлексологии абстракции «непредметного движения». Но о6 этом — речь впереди.). Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно сказать, что наблюдать «чистые» движения мы могли бы только имея оптический прибор, вычитающий все влияния, которые оказываются на эти движения со стороны внешних предметов. В реальном же эмпирическом наблюдении мы имеем дело всегда с «фенотипом» данной реакции, который есть равнодействующая его врожденного состава и сил внешней среды. Здесь, в этом пункте своей концепции, Скиннер сталкивается с самой, вероятно, сложной теоретической и методической проблемой — проблемой идентификации данного оперантного ответа. Она должна рассматриваться в двух аспектах — во-первых, как проблема отождествления нескольких в разное время происходящих реакций, во-вторых, как проблема временных границ, начала и конца данной оперантной реакции. На идентификации разновременных реакций основывается весь массив экспериментальных исследований радикального бихевиоризма. В самом деле, если экспериментатор должен оценить изменение вероятности появления реакции, он должен быть уверен, что наблюдаемая им сегодня реакция животного есть та же самая реакция, которую животное осуществляло вчера. Предположим, в эксперименте исследуется оперантная реакция нажатия на рычаг, причем подкрепляются только нажатия с определенной силой F. Такая реакция и будет искомым оперантным ответом Rf. Если самописец, фиксирующий силу нажатия, достигает отметки F, значит произошла данная реакция Rf. Но все дело в том, что животному доступно практически бесконечное число движений R1, R2 R3, … Rn, с помощью которых можно произвести одинаковое нажатие экспериментального рычажка. Схематически в векторном виде это можно изобразить так:
R — реакция, производящая Множество реакций, которые действуют нажатие на рычаг с силой F — на рычаг с вертикальной силой F Схема 2. Идентификация реакции по силе нажатия на рычаг Что считать подкрепляемой реакцией Rf — операционально ли фиксируемый результат нажатия с определенной силой на рычаг или те конкретные движения животного R1, R2 R3, … Rn[54], которые приводят к этому результату? Последние не могут считаться подкрепляемыми реакциями, поскольку мы просто не знаем, какие (или какая) из них имели место во время данного эксперимента, и потому не можем судить, увеличилась ли их вероятность в результате подкрепления. Значит, за подкрепляемую реакцию следует принять некоторое гипотетическое движение Rf, относительно которого невозможно утверждать, происходило оно в действительности или нет. Иначе говоря, об оперантной реакции мы судим только по ее результату, а не по ее реальному двигательному составу, и отождествляем в рамках данной экспериментальной ситуации все реакции, имеющие один и тот же результат. Следовательно, когда дело доходит до эмпирического наблюдения, оказывается, что оно не дотягивается до тех теоретически постулированных сущностей — оперантных реакций, которые представляют собой неизменные именно со стороны своего двигательного состава образования, изменяющие лишь вероятность своего возникновения в результате подкрепления. Мы никогда не можем быть уверены, что действительно произошла та же самая реакция, что и в прошлый раз, поэтому то, что мы экспериментально фиксируем в качестве оперантной реакции, ни в коем случае нельзя онтологизировать. И Скиннер, действительно, отказывается от попытки онтологизировать реакцию, а вслед за ней и рефлекс (Skinner, 1931)[55]. Нормальное функционирование научной теории предполагает постоянное сличение теоретически выводимого и эмпирически наблюдаемого, а здесь между ними проводится непреодолимый барьер: как теоретик, Скиннер желает свести реакцию к определенному, фиксированному материальному составу; как экспериментатор, он получает нечто совсем другое. Вот и приходится, чтобы не рисковать исходными теоретическими убеждениями, отказываться сопоставлять эти две сферы, отказываться от онтологического толкования полученных экспериментальных данных, то есть от того, ради чего эксперимент, собственно говоря, и существует. Однако без онтологии в положительной науке не обойтись, гони ее в дверь, она влетит в окно. И Скиннер вынужден жертвовать казавшейся такой надежной позитивистской приземленностью и пускаться, хоть и не в далекие, но от того не становящиеся более операциональными, метафизические путешествия в поисках предустановленной гармонии между поведением, существующим само по себе, и его оперантным анализом: «При описании поведения обычно предполагается, что поведение и окружающую среду можно разбить на части и что они будут сохранять свою идентичность от эксперимента к эксперименту. Если бы это предположение не было бы в некотором смысле оправданным, наука о поведении была бы невозможна… Анализ поведения не является актом произвольного подразделения, и мы не можем полностью определить понятия стимула и реакции просто как частей поведения и окружающей среды, не принимая во внимание тех естественных линий, вдоль которых поведение и окружающая среда действительно членятся» (Skinner, 1935 а, р. 347). Но посмотрим, в какой мере метод оперантного обусловливания способен членить поведение по имманентным поведению «естественным линиям». При этом мы переходим к рассмотрению второго, временного аспекта проблемы идентификации оперантной реакции. Точнее, здесь следует говорить не о самой реакции, а о рефлексе, ибо вне рефлекса реакции нет, «вне отнесенности к своей корреляции со стимулами, поведение есть просто часть тотального функционирования организма» (Skinner, 1931, р. 346). Если бы «тотальное функционирование организма» состояло из точечных атомарных реакций с нулевой длительностью, и если бы события окружающей среды также оказывали бы точечные, моментальные воздействия на организм, да к тому же, чтобы стать «стимулами», выстроились бы в колонну по одному и действовали бы друг за другом в строгой очередности, тогда в мире оперантного бихевиоризма можно было бы ожидать законосообразности и порядка: стимул — реакция, стимул — реакция, стимул — реакция. Однако существует два простых факта, которые вносят смуту в этот упорядоченный стимул-реактивный марш организма от рождения до смерти. Первый из них состоит в том, что множество стимулов возникает и действует на организм одновременно, равно как одновременно может осуществляться и множество реакций. Второй заключается в том, что и реакция, и стимул — не моментальные события, они имеют длительность. Каким образом можно с учетом этих фактов идентифицировать определенный оперантный рефлекс Si — Ri, по крайней мере, установить начало и конец данного рефлекса и его составных частей? Условимся обозначать буквой а начало действия стимула, а буквой b — окончание. Обозначим также начало и конец реакции буквами х и у соответственно. При таких обозначениях началом рефлекса является событиеа, а концом — событие у. Идеальной для теоретических схем радикального бихевиоризма являлась бы ситуация, когда сразу же после b следуетх, и тогда весь рефлекс в проекции на временную ось складывается из двух интервалов — (a—b) + (х—у). Изобразив «поле стимулов» выше оси времени, а «поле реакций» — ниже, получим следующую схему (см. схему За). Однако все оказывается не так просто. Поскольку Скиннер, верный махистскому принципу отказа от категории причинности, утверждает, что «стимулы не вызывают оперантных реакций; они просто изменяют вероятность, что эти реакции произойдут» (Skinner, 1974, р. 223), то кроме стимула S любой из имевших место до или/и во время реакции стимул S1, S2, S3, … Sn может считаться стимулом данной реакции (см. схему 36). Бессмысленно ставить вопрос о том, какой именно стимул является «настоящим» — мы можем принять за него любой из них и в результате получим ряд рефлексов (S1— Ri), (S2—Ri), (S3—Rn), … (Sn — Ri), вероятность которых изменится после подкрепления. Другими словами, точкаb, момент окончания стимульного события, отнюдь не обязательно совпадает с точкойх, моментом начала оперантной реакции, точка жеa, с которой следует отсчитывать начало рефлекса, из-за множественности стимулов и вовсе является неопределенной. Единственное, что возможно сделать для придания большей определенности началу оперантного рефлекса, — это ограничить временную область, в которой может начаться оперантная реакция, зафиксировав момент исчезновения последнего имевшего место безусловно-рефлекторного стимула (подкрепления). Все, что произошло в окружающей среде после последнего безусловного стимула, может претендовать на статус Si, — стимула оперантного рефлекса. Это ограничение, впрочем, тоже страдает неопределенностью, поскольку вызванная подкреплением безусловная реакция может продолжаться и после того, как подкрепление исчезнет из стимульного поля, а как определить, где кончается эта безусловная реакция?
Схема За. Идеальные временные отношения между стимулом и реакцией в оперантном рефлексе
Схема 36. Проблема идентификации временных границ начала оперантного рефлекса и начала оперантной реакции. На схеме над временной осью изображено множество стимулов разной длительности. Их объединяет лишь то, что любое а < х, то есть что начало стимула предшествует началу реакции Не намного большей определенностью, чем начало, обладает и конечная точка оперантного рефлекса. По крайней мере здесь начисто отсутствует какая-либо внутренне конституированная целостность реакции, задающая присущую ей границу. Оперантный ответ может быть прерван в любой произвольно взятой точке у появлением подкрепления — безусловного стимула, в ответ на который сразу же (впрочем, и это «сразу же» — отнюдь не очевидная вещь) начнет развертываться уже другая, безусловная, реакция. Появление подкрепления подводит черту под осуществляющейся оперантной реакцией. Но так как экспериментатор волен вводить подкрепление в любой момент, то тем самым он может прервать реакцию в любой произвольно выбранной точке, нисколько не считаясь с «естественностью» такого обрыва. Если поведенческая «речь» будет застигнута подкреплением на «полуслове» или даже посредине недописанной двигательной «буквы», оперантной реакцией будет считаться вовсе не это «слово» и не «буква», а искусственно оторванное подкреплением их начало. Что же остается тогда не только от благих намерений Скиннера «принимать во внимание те естественные линии, вдоль которых поведение действительно членится» (Skinner, 1935 а, р. 347), но и от самих этих линий? Можно, конечно, было бы попытаться спасти природную целостность реакции как единицы поведения, если предположить, что, несмотря на появление подкрепления, реакция еще продолжается вплоть до присущей ей «естественной границы» и только там останавливается. Но на такой шаг Скиннер пойти не может, ибо в этом случае придется признать, что кроме фундаментальной схемы оперантного обусловливания S0—R0=> S1—R1 | (где S0—R0 — оперантный рефлекс, скажем, нажатие на рычаг при виде рычага, S1— R1 — безусловный рефлекс, например, появление пищи и реакция ее поедания, а стрелкой обозначено отношение временной последовательности) существует такой вариант отношений между оперантной реакцией R0 и подкрепляющим стимулом S1, когда действие S1, начинается до того, как завершилась реакция R0. В проекции на временную ось эти отношения можно изобразить таким образом.
Схема Зв. Вариант временных отношений между оперантной реакцией R0 и подкреплением S1. На схеме S0—R0— оперантный рефлекс; S1— подкрепление (безусловный стимул); R1 — безусловная реакция В этом случае совершенно непонятно, что же именно «подкрепляется» в начале действия стимула S1. Может быть, только тот фрагмент реакции (х — 1), который успел осуществиться до t0, начала действия подкрепления? А что подкрепляется в точке t1 — фрагмент ли реакции (1–2) или фрагмент (х — 2)? Словом, степень неопределенности становится так высока, что рассыпается краеугольный камень радикального бихевиоризма — фундаментальная схема оперантного обусловливания с ее основным принципом следования подкрепления за оперантной реакцией. Понятно, что это была бы слишком дорогая цена за указанную попытку спасти естественную целостность реакции как единицы поведения. Итак, вопреки декларациям Скиннера, эксперимент оказывается не прибором, с помощью которого можно объективно наблюдать естественные части поведения, а ножницами, кроящими это поведение как заблагорассудится. И остается только слепо верить, что ножницы эксперимента по какому-то мистическому стечению обстоятельств точно попадают на швы между отдельными поведенческими актами. Таким образом, и при рассмотрении временного аспекта обсуждаемой проблемы оказывается, что скиннеровский эксперимент не способен улавливать и идентифицировать теоретически постулируемые единицы поведения. Следует только оговориться, что эта неспособность метода строго очертить временные рамки реакции и решить таким образом стоящую перед ним теоретическую проблему в какой-то мере компенсируется достаточным для многих технических целей резким сужением зоны протекания оперантной реакции за счет сильного уменьшения интервалов между следующими друг за другом подкреплениями. Поэтому, кстати сказать, в качестве положительного подкрепления при дрессировке животных Скиннер рекомендует пользоваться не пищей, поскольку ее невозможно быстро предъявить и поскольку придется ждать окончания безусловного реагирования, а условным сигналом о пище (Skinner, 1951). Резюмируем сказанное относительно понятия оперантного рефлекса. Зона протекания оперантной реакции ограничивается (но не очерчивается) двумя следующими друг за другом безусловными стимулами. Это другая формулировка того положения, что оперантная реакция осуществляется в условиях отсутствия безусловного стимула и вне данности животному связи его реакции с возможным появлением подкрепления. То есть оперантная реакция не осуществляется «ради чего-то», иначе говоря, не подлежит действию целевой причинности. Не происходит она и «потому что» появился некоторый стимул или возникла определенная потребность[56], то есть за ней не стоит и действующая (Мы пользуемся здесь учением Аристотеля о четырех видах причин — целевой, действующей, материальной и формальной (Аристотель, 1975).) причина. Материальный состав реакции (то есть те конкретные движения, которые вызвали наблюдаемое перемещение рычажка или другое действие) является неопределенным, а ее конкретная форма задается случайно, внешним образом — прерывающим реакцию появлением подкрепления, то есть о материальной и формальной причине оперантной реакции говорить тоже не приходится. Итак, понятие оперантной реакции ни в одном пункте не несет причинного характера. Оперантный рефлекс только вероятностен, это — поведенческая случайность. 3. Предмет исследования — оперантное приспособление организма к среде В современной методологии уже стало общим местом, что предмет научного исследования — это не просто некоторая область действительности, а содержательная абстракция, выделяющая и описывающая определенный аспект этой области и задающая форму и характер ставящихся в ней проблем. Чтобы определить предмет исследования радикального бихевиоризма, нужно описать, как в этой теории представляется основной механизм приспособления организма к среде и каково представление о самой этой среде. Из предыдущего изложения ясно, что центральный вопрос, который стоит перед Скиннером, заключается в объяснении того, как из случайных движений, являющихся частями «тотального функционирования организма», из движений, которые содержательно никак не связаны с условиями среды, не меняются в процессе жизни особи и являются, так сказать, двигательными «выбросами» организма, как из этих движений возникает поведение, поддерживающее существование животного и внешне кажущееся «целесообразным». Рассматривая понятие оперантного ответа, нетрудно заметить его сходство с биологическим понятием мутации. Оперантный ответ так же относится к онтогенезу, как мутация к филогенезу. И Скиннер действительно считает, что процесс индивидуального приспособления следует мыслить по образцу приспособления видового (а последнее — как процесс случайный, строго по Дарвину). Движение точно так же, как мутация, может случайно оказаться выгодным организму и будет в этом случае подкреплено, так что вероятность его осуществления в будущем поведении возрастет. Процесс индивидуального приспособления превращается в «естественный отбор» случайных движений организма (а процесс обучения, соответственно, в «искусственную селекцию» этих до и независимо от всякого обучения и тренировки сложившихся движений). В функциональном плане поведение в каждый данный момент будет представлять собой слепую пробу, которая при благоприятном стечении обстоятельств может случайно (хотя, быть может, и с очень большой вероятностью) оказаться целесообразной. Какой должна быть среда животного, чтобы такой механизм приспособления был необходимым и достаточным для обеспечения его жизнедеятельности? Условием, задающим необходимость, является такая организация среды, при которой отсутствует всякая данность животному в какой-либо чувственной форме жизненно важных для него объектов («подкреплений») и способа их возникновения в стимульном поле. А раз так, раз появление этих объектов всегда является непредвиденной случайностью — либо «чудесным даром», либо «иррациональной карой», появляющимися из некоторой трансцендентной реальности принципиально не прослеживаемым образом, то, естественно, животное вынуждено действовать «наобум», производить слепые пробы. Соль скоро приходится действовать в абсолютной темное, когда невозможно наблюдать за тем, как именно твои действия приводят к хорошим или плохим результатам, ничего другого не остается, как превратиться в суеверное существо[57], действующее не на основе знания и опыта, а на основе случайных совпадений. Что касается достаточности «случайного» приспособления, то она могла бы быть гарантирована двумя условиями. Первое из них состоит в том, что среда должна обладать конечным набором ситуаций, а животное — равнопорядковым этому набору репертуаром движений. Второе — в том, что среда должна обладать стабильностью, хотя бы временной. Тогда во время очередного стабильного периода перераспределением вероятностей входящих в репертуар организма оперантных рефлексов можно было бы достичь приспособления к среде. И последнее: «Чтобы быть эффективным, подкрепление должно предлагаться почти одновременно с желаемым поведением» (Skinner, 1951, р. 413). Если мы наблюдаем некоторое развертывающееся движение, то, по логике Скиннера, преимущественно подкрепляется завершающая его часть, непосредственно предшествующая появлению подкрепления; а значит, если это движение достаточно долговременно, то начальные его части не подкрепляются, и «возникающее в результате угасание аннулирует влияние подкрепления» (Skinner, 1938). Каким образом? Например, первая часть движения составляет необходимое звено для осуществления завершающей части, и тогда рост вероятности последней, который является следствием подкрепления, будет ограничен низкой вероятностью начального этапа. Отсюда следует, что для того, чтобы приспособление на основе оперантного обусловливания было эффективным, среда должна предоставлять животному подкрепление очень часто, разбивая его поведение на мелкие участки. При этом, разумеется, предполагается, что поведение — это либо цепочка рефлекторных актов, либо недифференцированный поток «тотального функционирования», то есть что отсутствую внутренний механизм, стягивающий для животного все это долговременное движение в нечто единое. Так, из позитивистского пуризма отбросив идею инстанции, внутренне конституирующей целостность поведенческого акта (будь то потребность, цель, «модель потребного будущего» и т. п.), Скиннер загнал свое мышление в необходимость метаться между идеей атомарной дискретности поведения, состоящего из врожденных двигательных атомов, и идеей недифференцированной континуальности поведения, произвольно разделяемого на любые доли очередными подкреплениями. Итак, среда в онтологии радикального бихевиоризма представляется как а) перенасыщенная подкреплениями, состоящая почти сплошь из кнутов и пряников, которые ведут животное на коротком поводке, не дают ни минуты передышки, не доверяя его нюху, ориентировке, инстинкту, опыту, хитрости и прочим несуществующим вещам; б) состоящая из стандартного набора положений, к каждому из которых в поведенческом арсенале животного имеется подходящий ключик — врожденная, готовая и неизменная реакция; в) трансцендентная опыту животного, закрытая непроницаемой завесой от перцептивного и действенного исследования и в этом смысле абсолютно иррациональная, непредсказуемая, откликающаяся в лучшем случае вероятностно на обращенные к ней поведенческие «реплики». Словом, не только животное рассматривается радикальным бихевиоризмом как «черный ящик», но и мир, с которым имеет дело животное, — тоже оказывается «черным ящиком». Так собственный позитивистский гносеологический образ проецируется в онтологию. 4. Объект исследования Однако реальные условия среды обитания и характер поведения в ней животного[58] существенно отличаются от только что описанных. Во-первых, поведение в большинстве случаев развертывается при чувственной данности животному жизненно важного объекта. Поведение строится, «имея в виду» (часто — в буквальном смысле слова) искомый объект и предметные условия его достижения, и в столкновении с этими условиями перестраивает свои характеристики так, чтобы движение достигло цели. Поведение вовсе не представляет собой цепочки бессмысленных, наугад, как в лотерее, выпадающих друг за другом двигательных проб, рано или поздно «наталкивающихся» на счастливый номер — безусловный раздражитель (подкрепление). Во-вторых, как отчетливо показал Н.А. Бернштейн, животные, ведущие подвижный образ жизни, сплошь и рядом имеют дело с уникальными ситуациями. Например, при преследовании жертвы все многочисленные характеристики ее движения, рельефа местности, различных помех и препятствий, многочисленные инерционные силы в теле хищника как сложной динамической системе создают для последнего настолько особенную ситуацию, что подкрепление всего комплекса произведенных им движений было бы не только биологически бесполезным, но даже вредным, поскольку вероятность точного повторения данной ситуации практически равна нулю, а закрепление только самого последнего поведенческого отрезка привело бы к тому, что хищник при появлении соответствующих стимулов с очень большой вероятностью совершал бы точно такие же, как и в предыдущем случае, движения заключительной фазы погони и, естественно, в новой ситуации неминуемо промахивался бы. В-третьих, в большинстве случаев среда не предоставляет животному ежесекундных подкреплений. Вот три принципиальных отличия реального объекта исследования поведенческих дисциплин (реального поведения в реальной среде) от того представления о нем, которое характерно для радикального бихевиоризма. 5. Метод Скиннер справедливо обвинял Павлова в создании «концептуальной» нервной системы, а сам, как мы видим, создал «концептуальную» среду. Впрочем, он находился в гораздо более выгодном положении, потому что вполне мог воплотить и воплотил эту концептуализацию в реальный материал экспериментального метода. Для того, чтобы эмпирически исследовать оперантное приспособление организма к среде (предмет радикального бихевиоризма), необходимо было естественную жизнедеятельность животного (то есть реальный объект исследования) уложить в прокрустово ложе идеального объекта — обусловливаемого в результате подкрепления оперантного рефлекса. Для этого достаточно произвести два «усечения»: во-первых, устранить всякую возможность целеустремленного поведения, во-вторых, создать «стабильную среду». Оба эти условия достигались помещением животного в знаменитый скиннеровский ящик. Набор предметных ситуаций таким образом резко ограничивался, а возможность целенаправленности поведения устранялась сокрытием подкрепления во время осуществления движения и случайным (для животного, но произвольным для экспериментатора) его предъявлением. При этом экспериментальное разрешение основной теоретической проблемы — как из отдельных случайных реакций образуется многосоставное, внешне кажущееся целесообразным, приспособленное к среде поведение — не составляло никакого труда: всякое заранее задуманное экспериментатором поведение могло быть «построено» им (а не животным!) за счет подкрепления любого движения, развертывающегося в желательном направлении. Так поле естественных причинных следствий поведения замещалось искусственными, «условными» связями. Здесь уместно сказать несколько слов о трактовке проблемы обучения у Скиннера. «Цель обучения он определяет как получение заранее намеченной (запрограммированной) системы внешних реакций, в терминологии Скиннера — набора поведений» (Талызина, 1975). Единственный критерий обученности — правильность заданной внешней реакции {там же). Главный принцип созданного Скиннером варианта программированного обучения состоит в том, чтобы разбить учебный материал на как можно большее число предельно малых шагов, максимально увеличив таким образом частоту подкреплений и «…снизив до минимума возможные отрицательные последствия допускаемых ошибок» {Скиннер, 1968, с. 42). Идеальной с этой точки зрения была бы такая программа, где учащийся не испытал бы ни одного затруднения, не совершил бы ни одной ошибки. За идеей такого «безошибочного» обучения лежит представление о врожденном репертуаре двигательных возможностей. Все отдельные ответные реакции предполагаются у обучающегося уже наличными (а если какой-то из них нет, значит, нужно продолжить дробление учебного материала до тех пор, пока на каждый его фрагмент не найдется адекватная реакция, пусть даже придется довести дело до сокращения отдельных мышц — ведь никаких принципиальных ограничений здесь нет), он уже все умеет, единственная задача — сцепить данные реакции в заданные последовательности. Так младший школьник в принципе мог бы овладеть, скажем, курсом физики для средней школы, если программа этого курса будет достаточно раздроблена. Что лежит в основе такого «овладения» — бессмысленное запоминание или содержательное понимание, что образуется в результате — понятия или пустые вербализмы, лишь по внешней форме совпадающие с ними, — все это остается неизвестным, таких различий не существует в плоскости оперантной теории. Нужно особо подчеркнуть показательность для скиннеровской методологии идеи минимизации шагов обучения и частого, так сказать, поточечного подкрепления. Хотя в реальной практике программирования дробление учебного материала проводится, конечно, до определенного предела, диктуемого свойствами самого этого материала, но теоретически метод Скиннера содержит возможность бесконечного членения поведения, ибо целостность единицы поведения конституируется здесь не предметной целью, а задается внешним образом появлением подкрепления. Здесь снова и снова Скиннер оказывается в тупике перед решением главной проблемы поведенческих дисциплин — проблемы единиц поведения. Доведенная до абсурда идея неограниченного дробления поведения (а никаких принципиальных ограничений Скиннер не предлагает) выдает представление о деятельности животного и человека как об аморфном, гомогенном процессе, не имеющем внутреннего строения. Ибо то, что закономерно структурировано, невозможно членить на произвольные части. Нельзя бесконечно дробить поведенческий процесс, не рискуя разрушить его. Сравнительный методологический анализ теории условных рефлексов и теории оперантного обусловливания Подобно тому, как за явным содержанием сновидения психоанализ обнаруживает скрытое его содержание, так и за сознательной онтологической картиной, имеющейся у данного исследователя, кроется некоторая «действительная» онтология. Ее составляют глубинные убеждения о строении изучаемой области действительности, «самоочевидные» методологические постулаты и принципы. Явно же эксплицируемая онтология и теория являются результатом их вторичной переработки, в которой вопроса об истинности этих постулатов даже не возникает, они как нечто само собой разумеющееся оказываются вне поля критического обсуждения. Задача методологической критики как раз и состоит в выявлении содержания этого скрытого пласта научного мышления. И так же, как в психоаналитической практике, результаты такого толкования могут показаться автору и адептам анализируемой теории нелепым ее искажением, которое невозможно ни понять, ни принять. Но это непонимание относится уже действительно к области психологии личности, а не методологии и науковедения. Хотя первичная онтологическая картина радикального бихевиоризма и учения о высшей нервной деятельности одна и та же — это схема «организм — среда», — но реальная исследовательская практика обеих концепций свидетельствует о чрезвычайно непохожих понятийных образах как организма, так и среды. Мы уже видели (см. главу 2.2), что И.П. Павлов редуцирует живой организм до ЦНС, а реальную телесную деятельность животного до функционирования ЦНС (в особенности до высшей нервной деятельности, которая понимается как функция коры больших полушарий). Фантазия, воплощенная в теории условных рефлексов, похлеще гоголевской: какой-нибудь вполне респектабельный господин Нос, разгуливающий по улицам, — детские шалости по сравнению с такими монстрами, как вышедшие на охоту Нервные Узлы. С бесстрашием настоящего натуралиста И. П. Павлов наблюдает, как нервные узлы «тонко и точно приспособляют свою деятельность к внешним условиям, ищут пищу, где она есть, верно избегают опасности». Да и как может быть иначе, если «последняя инстанция движения — клетки передних рогов спинного мозга» (Павлов, 1951, т. 3, кн. 2, с. 141–142), а вовсе не соприкосновение конечности с объектами и даже не сокращение мышц. Выходит, что действительным субъектом павловской онтологии является вовсе не «организм», а очищенная от мышц, сухожилий и прочего телесного состава центральная нервная система, даже — головной мозг по преимуществу. Итак, субъект павловской онтологии — «бестелесный мозг». Б.Ф. Скиннер, в угоду своим позитивистским убеждениям, производит не менее радикальную чистку понятия «организм»: как обыватель он, конечно, знает, что существует сложное анатомическое строение и физиологическое функционирование организма, но как бихевиорист он принципиально отказывается видеть, что «за кожей» есть что-то, что существенно влияет на наблюдаемое поведение животного. Если бы материализовалась гносеологическая абстракция «пустого организма», мы стали бы свидетелями картины, не менее жуткой, чем разгуливающие по павловской онтологии нервные узлы, — навстречу им из скиннеровского ящика вышли бы, как привидения, выпотрошенные голуби и крысы. Каков мир, в котором живут персонажи рефлексологических и бихевиористских триллеров? Ясно, что «бестелесный мозг» не может обитать среди реальных, материальных вещей — пищи, которую нужно добыть, хищников, столкновения с которыми нужно избежать, преград, которые нужно преодолеть. Все это в павловской онтологии замещается сигналами, условными и безусловными, с материальными объектами субъект этой онтологии не взаимодействует, он имеет дело лишь с их информационным суррогатом[59]. На внешний, вещный мир (как и на телесное движение животного в этом мире) надевается шапка-невидимка павловского метода, делающая мир невидимым, прозрачным, как стекло, сквозь которое можно наблюдать за мозговыми процессами, не замечая самого стекла. Как и организм, среда подвергается гносеологической чистке, безжалостно освобождается от познавательно вредных, плотных, телесных, материальных, чувственно воспринимаемых компонентов. Ради «гносеологической прозрачности» (В. Набоков) среда по существу опустошается. То есть «бестелесному мозгу» как субъекту онтологии соответствует лишенный плотности, прозрачный и призрачный, «пустой мир» как среда обитания этого субъекта. Но если, напротив, организм «пуст», как это постулируется в онтологии радикального бихевиоризма, если все его интересные для исследователя процессы жизнедеятельности локализованы не внутри, а вовне, по эту сторону кожи, естественно было бы ожидать, что такой дорогой ценой отказа от внутреннего куплено обостренное внимание к конкретным внешним формам взаимодействия животного с окружающей средой и, значит, к самой этой среде в ее материальном, предметном, биологически значимом виде. Но нет, научный взор Скиннера прикован к другому, к тому, дрогнет ли рычажок (или произойдет какое-либо иное заранее задуманное событие в экспериментальной установке) и как будет меняться частота сдвигов этого рычажка, если экспериментатор станет по известному ему плану «вбрасывать» внутрь своего устройства те или иные «подкрепления»[60]. Поэтому реальная поведенческая среда, место, где решается судьба поведенческих актов животного, есть… сознание экспериментатора, то есть экспериментальный замысел и план проводимого эксперимента, в котором заранее однозначно определены все заповеди поведения и расписаны награды и кары, сыплющиеся на животное за их исполнение и нарушение или даже вне всякой связи с ними. Этот, может быть, вполне разумный с точки зрения самого бихевиориста мир, с позиции животного, конечно, является иррациональным, темным, непредсказуемым[61], он скрыт от животного непроницаемой завесой экспериментального ящика[62]. Итак, если среда павловской онтологии есть прозрачный, «пустой мир», то среда скиннеровской онтологии, напротив, — «непрозрачный», темный, непознаваемый мир. Последний и основной пункт методологического сопоставления учения о высшей нервной деятельности и оперантного бихевиоризма — научные представления обеих систем о процессе жизни организма в среде, о поведении, о том, что обеими объявляется главным предметом исследования. Павлов последовательно отождествил ВНД и внешнее поведение животного[63], и это тождество, возможное лишь при отвлечении от предметного характера двигательных актов животного, привело к тому, что поведение было редуцировано до функционирования одного органа — коры больших полушарий. Зная законы функционирования мозга, мы знаем законы внешнего поведения. Эта гносеологическая редукция, воплощенная в павловском методе, свела живое, предметное, гибкое, преодолевающее среду поведение живого существа к поведению паралитика. Если бы вся жизнь собак, участвовавших в павловских экспериментах, стала такой, какой она рисовалась на страницах научных трудов, бедные животные погибли бы от зависти, глядя на живых псов, охраняющих дом, гоняющихся за настоящими кошками, разгрызающих настоящую кость, в то время как сами несчастные жертвы мозгового фетишизма — «условно-рефлекторные» собаки вынуждены довольствоваться только условными и безусловными сигналами об этих славных вещах, а из реального поведения позволять себе только одно — пускать слюни. Устанавливать условные связи между безразличными сигналами и сигналами безусловными, чтобы можно было отдать эфферентный приказ реагировать отныне и на этот, ставший теперь условным сигнал той же врожденной готовой реакцией, что и на сигнал безусловный, — вот и все «поведение», доступное «бестелесному мозгу». Увы, не большеповедения доступно существу, порожденному радикальным бихевиоризмом. Да чего, собственно, ждать от «пустого организма», помещенного в темную непрозрачную среду, кроме хаотических слепых двигательных выбросов, лишенных даже, строго говоря, качества «слепой пробы», ибо в понятие пробы включено пусть самое примитивное, но идеальное опережающее отражение, готовность извлекать и накапливать опыт. Итак, в павловской модели субъект поведения сведен к «бестелесному мозгу», в скиннеровской — к «безмозглой телесности», само же поведение сведено в первом случае к «зрячему параличу», во втором — к «слепому движению». При всех различиях этих концепций, доходящих до противоположности, они чрезвычайно похожи, как похожи в фотографии негатив и позитив. Скиннер — Это Павлов наизнанку. Но в чем же корень этого так явственно чувствуемого родства концепций? Он заключается, на наш взгляд, в игнорировании предметного характера движения. Ни та, ни другая теория не знают управляемого животным телесно-предметного двигательного акта. Действительный предметный характер связи между реакцией животного и достижением биологически значимого результата (подкрепления) гносеологически игнорируется в обеих концепциях. Обе они не видят, что движение животного контактирует с предметом, что текущие характеристики движения при этом изменяются, что предмет существенен для осуществления движения, что предмет и движение смыкаются в одно образование, не только физическое, но и психофизиологическое. Не видят, что движение может внутренне подлаживаться, подстраиваться под предмет, а не только вынужденно, физически подчиняться его грубой силе с тем, чтобы после окончания взаимодействия тут же вернуться к исходному состоянию. То есть не видят, что движение перестраивается и даже развивается в ходе и в результате своего взаимодействия с предметом. Подобно тому, как Павлов смотрит сквозь реакцию на мозг, не замечая существенности влияния двигательных реакций на само функционирование мозга, так Скиннер смотрит сквозь предметы и их изменения на оперантные реакции, не замечая существенности предметов для осуществления и формирования реальных двигательных оперантных реакций. Как для Павлова реакция — не более чем индикатор «чистых» мозговых процессов, так для Скиннера предметное изменение (например, смещение рычажка) — не более чем индикатор «чистой» оперантной реакции. Скиннер, как уже говорилось, обвинил Павлова в создании «концептуальной» нервной системы и был прав, но сам он создал «концептуальную» среду и «концептуальное» поведение, состоящее из фиктивных реакций — «оперантов», врожденных двигательных актов, «химически» чистых поведенческих атомов, полностью готовых к жизни до и независимо от реальной встречи животного с миром. Павлов в любой момент готов отказаться от реакций, от внешнего поведения животного, если ему предоставят возможность непосредственно наблюдать мозговые процессы; Скиннер отдал бы все, чтобы хоть одним глазком взглянуть на те постулируемые им «априорные» двигательные атомы, на те «естественные» частички поведения, которые организм наобум «испускает» в среду, получая впоследствии подкрепление, и которые доходят до исследователя всегда в замутненном предметным миром виде. Если бы дано было им просить невозможного, Павлов попросил бы очищенный от тела, но(!) нормально функционирующий мозг, Скиннер попросил бы очищенную от предметных сил среду, в которой, тем не менее(!), животное могло бы осуществлять движения. Пики славы обоих ученых пришлись на XX столетие, хотя и отстоят друг от друга на полвека[64]. Несмотря на это, оба они по философскому складу своего мышления — представители научного классицизма XIX века. В этом классическом мышлении организм и среда (движение и предмет, субъект и объект) сначала изображались в онтологической картине как заведомо отдельные сущности, а лишь затем ставился вопрос о том, как организм устанавливает связь со средой. Обыденная «очевидность» отделенности живого организма от мира бралась за исходное методологическое положение, которое в самом главном предопределяло дальнейшее развитие научной мысли. В первую очередь, из него вытекало представление о некоторых предданных относительно индивидуального опыта организма формах реагирования, образовавшихся до и независимо от всякого деятельного соприкосновения со средой, которые в этом, уже готовом виде только запускаются определенной внешней стимуляцией, — о таких формах реагирования как о единственной основе, на которой строится все последующее поведение животного. Это представление выражалось у Павлова в мечте иметь полную номенклатуру врожденных безусловных рефлексов, у Уотсона и Скиннера — в представлении о репертуаре элементарных реакций, из которых складывается любое самое сложное поведение. Такие готовые, твердые двигательные формы при объяснении того, как из них складывается целесообразное поведение, легко переходят в мышлении рефлексолога или бихевиориста в каком-то смысле в свою противоположность — в представление об изначально хаотических, недифференцированных двигательных реакциях, из подкрепления которых-де и складывается целесообразное поведение. Абстракции, с которыми мы встретились на этих страницах, — абстракции «готового движения», «простого движения», «слепого движения» сходны всего лишь в одном, но главном: в них нет инстанции, способной придавать движению внутреннюю цельность и структурированность, нет механизма, способного гибко подстраивать эту целостность под реальную предметную ситуацию, то есть нет того, что, собственно, и превращает движение в поведенческий акт, — субъективной мотивированности и объективной предметности. Только движение, страстно направляемое живым существом и внутренне просветленное отражением текущих встреч с предметной реальностью, заслуживает имени поведения. Не случайно само слово «поведение» несет в себе идею управления на основе знания: вести и ведать. 2.4. К проблеме единства общей психологии 1Всякое исследование начинается с удивления. Более полувека тому назад Л.С. Выготский пришел к выводу, что преодоление кризиса в психологической науке прямо связано с созданием особой дисциплины — «общей психологии» — теории «психологического материализма» (Выготский, 1982; Ярошевский, 1985; Ярошевский, Гургенидзе, 1982). Создана ли в советской[65] психологии (а лишь она будет интересовать нас в этой работе) такая общая теория? Стоит задуматься над этим вопросом, чтобы с удовлетворением ответить на него утвердительно, но тут же с недоумением признать, что… существует не одна, а по меньшей мере три общие психологии — теория отношений (В.Н. Мясищева), теория установки (Д.Н. Узнадзе) и теория деятельности (А.Н. Леонтьева)[66]. Ситуация была бы понятна и естественна, если бы эти теории выросли на разных философско-методологических почвах, в разных социально-исторических условиях или если бы речь шла о раздельных областях действительности, над каждой из которых теоретически властвует отдельная концепция. Но и философские основания, и социально-исторические условия у них одни и те же, и «территория», объявляемая «юрисдикцией» всех этих концепций, — тоже одна на всех. К этому странному обилию общих психологии нужно как-то отнестись. Речь ведь идет не о мелочах, и даже не о какой-нибудь важной, но частной психологической дисциплине, а о главном — дисциплине, которая определяет предмет всей психологической науки, формирует категориальный аппарат, связывает между собой все частные факты и закономерности, открываемые в отдельных специальных исследованиях, словом, — речь о «голове» всей психологической науки. Можно, конечно, радоваться научному многообразию: «пусть расцветают все цветы», но можно взглянуть на ситуацию и иначе. Отсутствие общей психологии рассматривалось Л.С. Выготским как симптом недоразвитости нашей науки или даже как своего рода уродство методологического тела психологии. Организм, лишенный важнейшего органа, разумеется, ненормален, но и существо о трех головах нормальным не назовешь. Не утрачивает ли смысл само понятие общей психологии, более того — само понятие научной истины, если соглашаться с тем, что в Ленинграде может быть одна общая психология и, значит, как бы одна истина, в Москве — другая, а в Тбилиси — третья? Если исходить из того, что психологическая наука должна иметь только одну общую психологию, то наличная теоретическая множественность превращается в настоящую проблему (Ностальгическое: вот уж и «Ленинграда» нет, и Тбилиси — далеко за горами, и представление о том, что «истина одна», кажется смешным анахронизмом не только во второй своей части — «одна», но и в первой — «истина».). Актуальность развернутой постановки этой проблемы определяется той глобальной исторической задачей, стоящей перед всей «новейшей» эпохой развития советской психологии, которая, по формулировке А.В. Петровского, заключается в формировании системы научных психологических знаний на основе марксистской философии (Петровский, 1967, с. 331–341). Но какая же может быть система без единой общей психологии? Ведь одного единства на уровне философско-методологических принципов, единства уже в основном достигнутого (Петровский, 1967; Рубинштейн, 1946, 1976; Ткаченко, 1977 и др.) явно недостаточно. Это философско-методологическое единство должно быть еще реализовано в конкретно-научных построениях, на предметно-теоретическом уровне[67]. Предложить один из возможных подходов к этой реализации — главная цель настоящей работы. Итак, имеются: с одной стороны, три общие психологии, три центральные категории (отношение, установка, деятельность)[68], с другой — необходимость достижения теоретического единства. Конечно, рассуждая формально, можно приступить к решению задачи, так сказать, с дизъюнкцией в руках: верна одна и только одна теория. Но вряд ли кто-либо возьмется оспаривать, что в каждой из этих теорий содержится несомненная психологическая правда. Значит, задача достижения единства должна решаться путемсинтеза этих концепций и их центральных категорий. Однако само признание необходимости синтеза не предрешает того, будет ли одна из них взята за основу синтеза, а остальные включаться в нее как подчиненные, или все они будут использоваться на равных правах. Попытки пойти по первому пути[69] кажутся нам недостаточно «экологичными». Поэтому основной тезис, который мы собираемся отстаивать, состоит в том, что теории и категории установки, отношения и деятельности являются равноранговыми, неотъемлемыми и незаменимыми «органами» потенциальной целостной диалектико-материалистической общепсихологической теории. 2Сначала необходимо обосновать, почему именно и только теории установки, отношений и деятельности выбраны как синтезируемые объекты. Для этого в первую очередь нужно доказать, что каждая из них действительно является общей психологией. Воспользуемся представлениями Л. С. Выготского (Выготский, 1982) об общей психологии. Схематично их можно изложить следующим образом. Общая психология есть развивающееся научное образование, отвечающее объективной тенденции к единству научного знания. Тенденция к единству реализуется в двух взаимосвязанных тенденциях — к обобщению и к объяснению. Ядром общей психологии является центральная идея, которая включает в себя центральное (фундаментальное) понятие и главный объяснительный принцип. (Терминологически они могут выражаться одной категорией.) Можно выделить две основные фазы развития общей науки: в первой преобладает тенденция к обобщению, во второй — к объяснению. На первой фазе развития общая дисциплина (точнее, пока лишь претендент на роль общей дисциплины) выделяет из всех предметов исследования психологии один как центральный, имеющий наибольшую познавательную ценность. Далее все остальные предметы последовательно подводятся под понятие центрального, так что к концу первой фазы оно приобретает еще и статус общего понятия, фиксируя то общее, что есть во всех предметах данной сферы действительности. На протяжении всей первой фазы сохраняется непосредственный познавательный интерес к центральному предмету. Во второй фазе развития общей науки центральный предмет постепенно заполняет собой всю онтологию и начинает пониматься как сущность по отношению другим предметам, рассматриваемым теперь как явления этой сущности. Соответственно этому в гносеологическом плане центральное, обобщающее понятие превращается в объяснительную категорию, или объяснительный принцип. При этом значительно утрачивается непосредственный познавательный интерес к нему и возбуждается интерес к другим, связанным с ним предметам и проблемам, которые начинают исследоваться и объясняться, исходя из этой категории. В результате происходит перестройка всей прежней структуры науки вокруг нового категориального центра. Соответствуют ли такому понятию общей психологии теории отношений, деятельности и установки? Для теорий деятельности и установки, которые сами объявляют себя «общепсихологическими» и которые не раз подвергались критике именно за попытку централизации психологического знания вокруг одной категории (см. Обсуждение докладов по проблеме установки… 1955; Юдин, 1978), это соответствие настолько очевидно, что в пределах данной работы мы считаем возможным опустить его подробное доказательство. Наибольшие сомнения в этой связи может вызывать теория отношений, развивающаяся меньше в общетеоретическом плане, а больше в плане конкретных исследований. Поэтому ограничимся демонстрацией соответствия понятию общей психологии лишь этой теории. Ее претензии на роль общей психологи видны даже до специального методологического анализа, они проявляются уже чисто стилистически: в трудах В.Н. Мясищева психология отношений прямо со- и противопоставляется таким глобальным величинам, как «традиционная психология», «интроспективная психология», «функциональная психология», «структурная психология» и т. д. (Мясищев, 1960, с. 82, 84, 209, 219). На первых этапах развития теории понятие отношения связывается со всеми другими важнейшими психологическими понятиями, тем утверждаясь как центральное понятие (ибо только центр в отличие от периферии непосредственно связан со всем). Далее оно начинает выступать как общее родовое понятие, под которое подводится все — ощущение, потребность, стремление, любовь, боязнь, интерес и т. д. (там же, с. 110, 213). Такое обобщение приводит к гносеологическому требованию рассматривать все психическое сквозь призму понятия отношения. «Все виды психической деятельности, — пишет В.Н. Мясищев, — в самом широком понимании можно рассматривать как известную форму отношения» (там же, с. 146). По мере развития концепции категория отношения, последовательно «поглощая» все другие понятия, заполняет собой всю онтологическую картину, превращаясь из центрального, но все же частного предмета психологических исследований в предмет психологии как науки: «Психологию… можно определить как науку о человеке в его отношениях к действительности» (там же, с. 146). Вследствие такого превращения отношение в онтологическом плане начинает выступать как единая сущность, обнаруживающая себя не непосредственно, а через все другие психологические явления. «Есть ли надобность говорить об отношениях, — спрашивает В.Н. Мясищев, — когда реально существуют лишь действия?» Да, утверждает он, поскольку «то, что называется способностями, психическими функциями, процессами, представляет собой объективно различные способы реализации отношения человека к действительности» (там же, с. 153). Соответственно изменяется и гносеологический статус понятия отношения. Оно превращается в объяснительный принцип психологического познания, становится «принципом объективного исследования человека» (там же, с. 112). И, наконец, в методологической плоскости понятие отношения (правда, не одно, а вместе с понятием сознательной личности, которое, впрочем, само определяется через понятие отношения) объявляется основой, на которой должна строиться вся система науки, «общим принципом психологии» (там же, с. 18, 146). Итак, мы видим, что психология отношений стремится к централизации всего психологического знания вокруг категории отношения, через которую определяются предмет всей психологии и объяснительный принцип психологического метода. Это свидетельствует, что психология отношений осуществляет себя как общая психология. Доказать, что теории отношений, установки и деятельности есть общие психологии и, значит, могут участвовать в синтезе, — это полдела. Необходимо еще объяснить, почему для синтеза выбраны только эти три концепции. Строго говоря, нужно было бы, отвечая на этот вопрос, проанализировать теоретические представления П. П. Блонского, М.Я. Басова, Б.Г. Ананьева и др., но рамки работы позволяют коснуться лишь концепции такого выдающегося теоретика, как С.Л. Рубинштейн, имя которого прямо ассоциируется с задачей построения общей психологии. Почему же и эта концепция не включается нами в синтез как равноправный элемент? Может быть, ее автору не удалось решить поставленную задачу? Нет, С.Л. Рубинштейн создал общую психологию, но эта общая психология совсем иного рода, чем анализируемые три теории. Лежащее на поверхности (хотя в то же время весьма существенное) отличие общей психологии, созданной С.Л. Рубинштейном, состоит в том, что она не сузила предмет психологии до одной категории. Эта психология по изначальному замыслу, стилю мышления автора и способу построения была синтетической. Теория С.Л. Рубинштейна, если брать ее в целом, а не в частностях, не может быть поставлена в ряд с теориями А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева и Д.Н. Узнадзе, но не потому, конечно, что она «слабее» или «сильнее» их, а потому, что она решала совсем другую задачу, работала в другой плоскости. Забегая вперед, скажем, что исторический вклад С.Л. Рубинштейна в систему советской психологии состоит в создании на основе марксистской философии общей онтологии психологической науки, «онтологии человеческого бытия»[70], которая лишь неявно подразумевалась в концепциях установки, отношений и деятельности, а явно была разработана именно в теории С.Л. Рубинштейна. 3Синтез теорий может быть плодотворен только в том случае, если всем им присуще глубинное родство, общность базовых методологических и онтологических представлений и в то же время у каждой из них есть своя категориальная специфика, отражающая различные аспекты реальности. Без этих условий синтезу грозит опасность искусственности, надуманности и пустого терминологического дублирования. Чтобы определить, соответствуют ли теории отношений, установки и деятельности этому методологическому требованию, нужно сопоставить их друг с другом. Однако лучшим способом такого методологического сопоставления будет не сравнение теорий попарно, а «измерение» их с помощью одной общей меры. Такую меру не приходится искусственно изобретать, она существует. Чтобы обнаружить ее, достаточно вспомнить, что каждая из разбираемых теорий создавалась и оформлялась в постоянном противопоставлении классической буржуазной психологии (Это словосочетание «классическая буржуазная психология» не используется Леонтьевым, Узнадзе и Мясищевым. Они противопоставлялись«старой» психологии, а чаще — «буржуазной». Понятно, что последняя квалификация, во-первых, не точна (ничего специфически буржуазного в психологии XIX века не было), а во-вторых, носит чисто идеологический классовый характер. Поэтому введение обобщенного наименования«классическая буржуазная психология» придавало более приличный, научный характер исторической полемике анализируемых теорий со старой психологией и, главное, являлось аллюзией на блестящую статью М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева, B.C. Швырева «Классика и современность- две эпохи в развитии буржуазной философии» [1972], где вводилось понятие «классической буржуазной философии». — Прим. 1998 г.). Эту последнюю, следовательно, можно признать такой общей мерой, общей точкой отсчета и подойти к сопоставлению теорий (и категорий) отношения, установки и деятельности через анализ сходств и различий в их критике и преодолении классической буржуазной психологии. Теория отношений В.Н. Мясищева Начнем с концепции В.Н. Мясищева. Исходный пункт противопоставления теории отношений классической психологии состоит в принципиально различном понимании общих задач психологии как науки. Академизму классики В.Н. Мясищев противопоставил практическую направленность новой психологии: научно-психологический интерес к человеку должен определяться практическими задачами «воспитательно-образовательной работы» с личностью, ее лечения и т. д. (Мясищев, 1960). Вполне понятно, что такой подход сразу же потребовал радикального преобразования общей онтологической картины психологической науки. Традиционная психология изучала, по словам В.Н. Мясищева (1960, с. 82), «субъекта в себе». Образ же человека, лежащий в основе психологии отношений, — это не рефлектирующий одиночка, а человек трудящийся, человек, живущий среди других людей. В рамках общей картины действительности наука должна выделить свой предмет, то есть ответить на вопрос «о чем она?» В противоположность традиционной психологии, которая объявляла своим предметом психику, В.Н. Мясищев определял свою теорию как «учение о конкретной личности»(там же, с. 71). Осуществить конкретное исследование всего предмета науки «целиком» невозможно, поэтому необходимо выделить в нем такую доступную непосредственному эмпирическому исследованию «часть», изучение которой вело бы к познанию всего предмета. Эта «часть» в плане метода предстает как «единица анализам, а в онтологическом плане — как центральный предмет исследований. Если общим предметом психологической науки перестает быть психика как самостоятельная сущность и им становится «конкретная личность», то центральным предметом психологических исследований и, соответственно, «единицей анализа» перестает быть «абстрактный психический процесс» (там же, с. 34) и становится отношение личности. В концепции В.Н. Мясищева необходимо различать широкий и узкий смысл понятия отношения. На первых шагах теоретического конструирования для В.Н. Мясищева было важно подчеркнуть понимание отношения именно как «единицы» личности, то есть подчеркнуть, что отношение — это в первую очередь чье-то отношение, хотя, разумеется, оно всегда остается отношением к чему-то. Это понятие отношения в широком смысле — как отношение личности к действительности вообще (там же, с. 110, 146). На следующем (логическом, а не хронологическом) этапе формирования понятия отношения оно специфицируется под влиянием знаменитого тезиса Маркса о том, что «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (Маркс, т. 3, с. 3). Хотя на уровне методологической рефлексии В.Н. Мясищев нередко соблазнялся предельно широким, неспецифическим для психологии понятием отношения, включая в него все — «от обмена веществ до идейного общения» (Мясищев, 1960, с. 212), на уровне конкретно-научной проработки категории отношения ее доминантой становился смысл, заданный формулой Маркса. А именно: если задача состоит в психологическом изучении сущности человека, исследование должно поставить во главу угла не всякое его отношение к действительности, а особое, специфически человеческое «общественное отношение», то есть отношение к другому человеку, к людям, к различным их группам и общностям. Эти отношения признаются теорией В.Н. Мясищева исходными и формообразующими для всех других отношений: «Общественные отношения формируют все иные его отношения с внешней действительностью» (там же, с. 69). А раз так, то и в познавательной плоскости они должны быть признаны центральными; «…Изучение человека в его отношениях представляет изучение человека прежде всего (выделено нами. — Ф.В.) в его связях с людьми, то есть преодоление той "робинзонады", которую разоблачили основоположники марксизма», — так заканчивает В.Н. Мясищев (там же, с. 230) одну из своих программных статей. Итак, академизму классической психологии В.Н. Мясищев противопоставил практическую направленность науки, исходному онтологическому представлению этой психологии о «субъекте в себе» — представление о реальной социальной жизни человека, предмету старой психологии (психике) и «единице анализа этого предмета» (абстрактному психическому процессу) — новый предмет и новую «единицу» (конкретную личность и ее отношение к действительности). Причем главным смыслом, доминантой категории отношения и центральным предметом исследований следует считать отношение человека к человеку. Теория установки Д.Н. Узнадзе Д.Н. Узнадзе обнаружил в основании всей классической психологии одну «роковую предпосылку» — «постулат непосредственности». Общетеоретические построения Д.Н. Узнадзе вдохновлялись пафосом противопоставления развиваемого им подхода — классической психологии, опиравшейся на этот постулат. Поэтому для лучшего понимания теории установки стоит вглядеться в методологический облик классической психологии. Это тем более важно, что автор другой психологической школы, которую нам предстоит анализировать в этой главе, А.Н. Леонтьев, также строил свою теорию в контексте напряженного методологического оппонирования той же «традиционной» психологии. Если попытаться развить идею Д.Н. Узнадзе о «постулате непосредственности» как едином корне традиционной психологии, можно выдвинуть историко-психологическую гипотезу о том, как собственно из этого корня вырастают все основные направления классического психологического мышления. Выделим в «постулате непосредственности» две части — формально-логическую и содержательно-теоретическую. Формально-логический аспект «постулата непосредственности» фиксирует тип детерминизма, преобладавший в классической парадигме, а именно представление о простой и однозначной причинно-следственной связи как универсальной схеме психологического события. В содержательном своем аспекте постулат непосредственности можно истолковать как ту философему классической психологии, согласно которой мир «делится на два» — на физические и психические явления. Соединяя формальный и содержательный аспекты этого постулата, то есть полагая, а) что единицей психологического исследования выступает простое событие, состоящее из двух элементов — «причины» и «следствия», и б) что «причинным» элементом психологического события могут считаться и психические, и физические явления, равно как и «следствием» в составе психологического события могут быть все те же (иного в онтологии просто нет) физические или психические явления; соединяя, повторю, эти а) и б), получаем типологию вариантов «постулата непосредственности». Таблица 1. Типология вариантов «постулата непосредственности» ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ СЛЕДСТВИЕ Психическое Физическое ПРИЧИНА Психическое Тип 1 Тип 3 Физическое Тип 2 Тип 4 Эта типология логически выводит из постулата непосредственности общую картину всей психологии XIX — начала XX века. Отдельные ее направления резко противостояли друг другу, являлись абсолютными антиподами (например, интроспекционизм и бихевиоризм), а между тем на уровне «философского генотипа» были кровными братьями. Каждый из этих вариантов постулата непосредственности послужил методологическим «архетипом» для одного из базовых направлений классической психологии. Перечислим их. Тип 1. Причина — психическое, следствие — психическое. Первый тип репрезентирует основную проблематику интроспективной психологии, все ее системы, в основе которых лежит убеждение, что причины психических явлений следует «искать не где-нибудь за ними, а в них же самих, полагая, что психические явления обусловливаются психическими же причинами» (Узнадзе, 1966, с. 159). Тип 2. Причина — физическое, следствие — психическое. Второй тип задает основную схему классической психофизики Тип 3. Причина — психическое, следствие — физическое. В третьем типе фиксируются классические представления о психомоторике. Тип 4. Причина — физическое, следствие — физическое. Четвертый тип выражает собой парадигму ортодоксального бихевиоризма и рефлексологии, этих «психологии без психики». Всякое психическое явление непосредственно и однозначно вызывается другим психическим явлением (тип 1) или явлением физическим (тип 3). Всякий двигательный акт непосредственно и однозначно определяется некоторым психическим явлением (например, желанием) (тип 2) или физическим явлением (внутренним — возбуждением нервных клеток или внешним — стимулом) (тип 4). Таковы четыре варианта «постулата непосредственности». Во всех этих случаях игнорируется роль субъекта — и в этом главный, с точки зрения Д.Н. Узнадзе, порок традиционной психологии (Прангишвили, 1960). Ее объяснения психики и поведения строились так, будто «…поведение осуществляется помимо существенного соучастия субъекта» (Узнадзе, 1966, с. 328), а психические процессы являются самодостаточными и самодействующими сущностями. Вследствие этого классическая психология оказалась неспособной адекватно поставить и решить проблемы психического отражения и целесообразной деятельности (Узнадзе, 1966). Д.Н. Узнадзе противопоставил старой психологии новые онтологические представления, в рамках которых эти проблемы могли быть поставлены и решены. В текстах основателя грузинской психологической школы может быть выявлена последовательная система процедур введения понятия установки, каждая из которых направлена против того или иного варианта «постулата непосредственности». Не излагая здесь всю эту систему, коснемся лишь важнейшей из этих процедур, которая осуществляется с помощью понятий «потребность» и «ситуация». Необходимым и действительным условием возникновения установки, повторял Д.Н. Узнадзе, следует считать единство актуальной потребности субъекта и ситуации ее удовлетворения (Узнадзе, 1966, с. 157, 168). Попытаемся реконструировать из этого положения онтологию, лежащую в основе теории установки. Субъектный полюс онтологии конкретизирован в данном случае понятием «потребность». Но потребность — это всегда потребность в чем-то, она определена не через самое себя, а через объект. Следовательно, в понятии потребности, хотя оно и является представителем субъектного полюса онтологии, уже имплицирована связь субъектного и объектного полюсов, вне которой это понятие бессмысленно. Точно так же обстоит дело и с понятием ситуации. Хотя ситуация удовлетворения потребности — это нечто объективное, существующее независимо от произвола и воображения субъекта, но собственно ситуацией она не может стать вне отношения к живому существу, к субъекту. Ситуация — это не само по себе чисто внешнее объективное обстояние, взятое в себе, безотносительно к жизненному состоянию субъекта, но и не это состояние, взятое само по себе вне отношения к объектам, ситуация — это единство обстояния и состояния. Стало быть, и понятию ситуации внутренне присуща связь субъектного и объектного полюсов. Но если понятия потребности и ситуации сами лишены односторонности и каждое из них несет идею неразрывной связи субъекта и объекта, то ясно, что понятие установки, возникающей на основе единства потребности и ситуации, выражает эту связь не просто в усиленной степени, а является, по существу, таким понятием, которое указывает уже не на связьмежду субъектом и объектом, определенными будто бы до и вне этой связи, а на связь, объемлющую субъект и объект, которые только внутри нее и получают определение и выделяются как отдельные моменты. Отсюда следует, что онтологическая суть категории установки состоит не просто в обнаружении опосредующего звена между психическим и физическим мирами, а в создании представления о едином «жизненном мире», сущностно предшествующем своим моментам — субъекту, объекту и их взаимодействию. Таково, на наш взгляд, наиболее абстрактное значение категории установки, конституирующее главную онтологическую идею психологической теории Узнадзе (Не случайно «предшественниками» понятия установки при развитии взглядов Д.Н. Узнадзе были понятия «биосфера» и «жизнедеятельность» (Сарджвеладзе, 1985)). Как же определяет эта психология свой предмет? В противоположность традиционной психологии Д.Н. Узнадзе полагает, что к познанию психики можно подойти не прямо, а опосредованно — через изучение человеческой деятельности. Это и есть предмет психологии как науки. «…Наша наука, — писал Д.Н. Узнадзе, — призвана поставить вопрос о психологическом анализе и изучении закономерностей человеческой деятельности» (Цит. по: Прангишвили, 1960, с. 128). В силу того, что главный порок классической психологии Д.Н. Узнадзе видел, как уже говорилось, в том, что она отвлекалась от самого действующего индивида, от целостного субъекта, основным объектом изучения в рамках общего предмета психологии он избирает субъекта деятельности. Что же является «единицей» анализа субъекта деятельности и соответственно центральным предметом конкретных исследований? «Установка, понимаемая как модификация целостного субъекта» (Узнадзе, 1966), отражающая в себе конкретное состояние «жизненного мира», возникшее в результате «встречи» потребности и ситуации. Всякий психический и поведенческий акт должен быть объяснен, согласно теории установки, по преимуществу изсубъекта, как реализация определенного его состояния или «модуса» — установки, но само это состояние понимается не как внутри самого субъекта и только из него вызревшее субъективное состояние, а как объективное субъектное состояние, детерминированное единством потребности и предмета, ее удовлетворяющего (Узнадзе, 1966, с. 322). Таким образом, онтология, которую Д.Н. Узнадзе противопоставил онтологии классической психологии, может быть названа «онтологией жизненного мира» (см. Василюк, 1984). Предметом психологии становится человеческая деятельность, а основным объектом изучения в рамках этого предмета выступает субъект деятельности. Единица анализа субъекта деятельности и, соответственно, центральный предмет конкретных исследований — это определенная«модификация целостного субъекта», илиустановка. Теория деятельности А.Н. Леонтьева По мысли А.Н. Леонтьева, исходное онтологическое различение классической психологии есть различение явлений внутренних, психических, данных в непосредственном переживании, и явлений внешних, материальных (Леонтьев, 1972, с. 337). Психология, начинающаяся с такого различения, «не может стать действительно содержательной и реальной наукой» (там же, с. 338). Марксистская, материалистическая[71] психология, считает А.Н. Леонтьев, должна исходить из совершенно другой онтологии — включающей «действительного индивида», материальный мир и процесс жизни индивида, практически связывающий его с миром. Формируя предмет психологической науки в пределах своей онтологии, классическая психология объявляла им либо саму психику, отождествляемую с сознанием и понимаемую как самостоятельная субстанция, либо — в бихевиоральных системах, считавших психику эпифеноменом, — «поведение», мыслившееся механистически. В противоположность этому представлению психология, по определению А.Н. Леонтьева, есть наука «о порождении, функционировании и строении психического отражения реальности, которое опосредствует жизнь индивидов» (Леонтьев, 1975, с. 12). Иначе говоря, психика входит в предмет психологии, но не исчерпывает его, ибо она предстает как неотъемлемый элемент некой системы (жизни), не существующий вне ее. Следовательно, изучать психику невозможно в отрыве от изучения процессов жизни, и психология должна включать их в свой предмет. «Точка зрения психологии, — говорил А.Н. Леонтьев, — есть точка зрения жизни, и психология не смеет ее покидать» (Леонтьев, 1983, с. 38). Но процессы жизни — это процессы деятельности. Значит, в соответствии с исходной онтологией в предмет психологии должна быть включена триада «субъект — деятельность — предмет», где субъект предстает как «единица» «действительного индивида», деятельность — как «единица» процесса жизни, а предмет — как «единица» мира. Каким образом деятельность — центральное звено этой триады — входит в предмет психологии? Она входит «не особой своей "частью" или "элементом", а своей особой функцией. Это функция полагания субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности» (Леонтьев, 1975, с. 92). На уровне формирования «единиц» анализа абстрагирование от этой реальности приводило в классической психологии к тому, что деятельность, которую она изучала (а «психология, — замечает А.Н. Леонтьев, — всегда, конечно, изучала деятельность…» — там же, с. 89), выступала либо в форме фетишизированных, самодействующих психических процессов, когда мышление мыслило, память запоминала и т. д., либо в форме «слепых» реакций, изнутри не просветленных отражением и извне не детерминированных предметами. Соответственно этому субъект представал либо как «самосознание» — в интроспекционизме, либо как «реактивная машина» (Леонтьев, 1975, с. 23) — в бихевиоризме и рефлексологии. И, наконец, предмет выступал в старой психологии либо как «стимул» (Асмолов, 1983), либо вообще изгонялся за пределы психологии, считаясь вещью «протяженной», материальной и потому не имеющей прямого отношения к изучению «непосредственного опыта». («Если я хочу познать ощущение сладости, зачем мне изучать сахар?» — восклицал психолог-интроспекционист.) Последняя из этих проблем, не нашедшая своего решения в классической психологии, — проблема предметности стала в концепции А.Н. Леонтьева решающей (Асмолов, 1983; Давыдов, 1983) при выработке представлений об «отдельной» деятельности как психологической «единице» анализа и центральном предмете конкретных исследований. А.Н. Леонтьев совершил чудовищный с точки зрения классической психологии акт: он ввел в психологию реальную вещь, которая получила психологическое гражданство, представ как предмет деятельности субъекта, более того, обретая порой достоинство главной детерминанты «отдельной» деятельности, ее мотива. Итак, противопоставляясь классической буржуазной психологии, концепция А.Н. Леонтьева в качестве исходной онтологии использовала схему «жизнь-индивида-в мире», своим предметом она объявила предметную деятельность субъекта, порождающую психическое отражение и опосредствуемую им, в качестве «единицы» анализа и центрального предмета исследований она сформировала представление о структуре «отдельной» деятельности (деятельность — действие — операция; мотив — цель — условия). 4 Даже такого поневоле краткого и упрощенного анализа перехода от классической психологии к трем ведущим направлениям советской психологии достаточно, чтобы выбрать «масштаб» и структуру сопоставления теорий и категорий деятельности, установки и отношения. Эти теории делали одно общее дело перестройки психологии на марксистской[72] основе. Каждой из них руководило убеждение, что психология и психолог должны включиться в реальную жизнь общества, в практику производственную, воспитательную, медицинскую и т. д. Такое понимание задач заставило эти психологии повернуться лицом к жизни и рассматривать психику не как над и вне жизни существующую субстанцию, а как реальный момент самой жизни. Старая психология стремилась познать жизнь души, новая — одушевленную жизнь. На уровне полагания исходной онтологии три разбираемые концепции при всех терминологических различиях, которые мы здесь не учитываем, едины в убеждении, что психология человека должна исходить из действительных предпосылок, «от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни» (Маркс. Т. 3, с. 18). Преодолевая классическую онтологию «изолированного индивида», все концепции противопоставили ей марксистское учение о деятельностной и социальной сущности человека. Однако в рамках конкретно-научных разработок это преодоление в теории В.Н. Мясищева шло преимущественно по линии критики «робинзонады», то есть изолированности индивида от мира людей, а в теориях А.Н. Леонтьева и Д.Н. Узнадзе — преимущественно по линии критики изолированности индивида от предметного мира[73]. Далее, на уровне формирования предмета психологической науки и В.Н. Мясищев, и Д.Н. Узнадзе, и А.Н. Леонтьев критиковали старую психологию за то, что она рассматривала психику в отрыве от системы «человек — жизнь — мир». Но и в этом пункте была различная акцентировка: В.Н. Мясищев и Д.Н. Узнадзе фокусировали свое внимание на том, что психика рассматривалась классической психологией в отрыве от своего «носителя» — личности, «целостного субъекта», от живущего человека, а А.Н. Леонтьев преимущественно направлял свои усилия на преодоление абстракции психики от человеческой жизни, которая ее порождает, и от мира, который она отражает. Теории отношений и установки пронизаны пафосом возвращения (введения) человека в психологию, теория деятельности — пафосом возвращения (введения) жизни в психологию. Поэтому основным объектом изучения в психологической системе В.Н. Мясищева стала личность, в психологической системе Д.Н. Узнадзе — субъект деятельности, а в психологической системе А.Н. Леонтьева — деятельность субъекта. На уровне выбора «единиц» анализа эти различия основного объекта изучения выразились в том, что В.Н. Мясищев и Д.Н. Узнадзе выделили структурные «единицы» (отношение как единица структуры личности, установка как единица структуры целостного субъекта[74]), а А.Н. Леонтьев — «процессуальные» («отдельная» деятельность, действие, операция как единицы процесса деятельности). Другими словами, понятия установки и отношения фиксировали нечто потенциальное («динамическое»), что может реализовываться в процессах жизнедеятельности, а понятие деятельности — нечто актуальное, сам процесс такой реализации. Эти сходства и различия между теориями и категориями деятельности, установки и отношения позволяют построить следующую категориальную типологию психологических единиц человеческой жизни. Таблица 2. Типология психологических «единиц» человеческой жизни ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА Человек (как динамическая структура) Жизнь (как актуальный процесс) МИР Предметный мир 1. УСТАНОВКА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Мир людей 3. ОТНОШЕНИЕ 4. Исходным предметом типологического анализа является «жизнь человека в мире». В нем выделяются два аспекта — «жизнь человека» и «мир». Каждый из них, в свою очередь, делится на два аспекта: «мир» — на «предметный мир» и «мир людей», а «жизнь человека» — на «человека», рассматриваемого как некая потенциально активная, то есть «динамическая» структура, и «жизнь», рассматриваемую как «актуальный процесс». Пересечение этих оппозиций дифференцирует исходное целое на четыре «состояния». Правило чтения типологии: например, деятельность (тип 2) — это психологическая единица анализа актуального процесса жизни человека, взятого в его отношении к предметному миру. Из предшествующего обсуждения ясно, почему типы 1-й, 2-й и 3-й обозначены соответственно как установка, деятельность и отношение. Однако остается еще одна свободная клетка этой категориальной типологии. По логике схемы она должна быть заполнена категорией, выражающей форму осуществления процесса жизни, который реализует отношение человека к другим людям. Вполне очевидно, что в качестве этой категории может выступать лишь одно — категорияобщения. В процессе преодоления классической психологии в нашей науке были созданы три общепсихологические теории, центральными категориями которых являются категории установки, отношения и деятельности. Мы обнаружили, что эти теории едины в своем понимании онтологии, из которой должна исходить психологическая наука. В то же время при определении предмета науки, выборе основного объекта изучения и формировании «единицы» его анализа обсуждаемые концепции расходятся, что в итоге выражается в разнице их центральных категорий. Однако это расхождение мало напоминает ситуацию «лебедя, рака и щуки», а скорее ситуацию планомерного разделения труда, поскольку анализ обнаруживает, что данные категории связаны в стройную логическую систему, в которой они хотя и противопоставлены друг другу, но — не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. В этой категориальной системе есть еще один неотъемлемый элемент — категория общения. Следовательно, по логике истории в отечественной психологической науке должна быть создана и соответствующая теория. Такую задачу нужно было бы поставить, если бы она не была уже поставлена в исследованиях А.А. Леонтьева (Леонтьев, 1974), придавшего проблеме общения общепсихологический статус, и особенно — Б.Ф. Ломова (1975), который пошел дальше, наделив категорию общения статусом «нового методологического принципа» (см. Абульханова-Славская, 1980, с, 90)[75]. Думается, что указанную задачу можно было поставить и более остро, как задачу построения особой общепсихологической теории общения, в которой общение выступило бы не просто как важная среди равных категорий и не просто как один из методологических принципов, а как центральная категория и главный объяснительный принцип[76]. Подобную «острую» постановку проблемы следовало бы мотивировать не тем, что общение будто бы не может быть рассмотрено с точки зрения схемы предметной деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым, как полагает Б.Ф. Ломов (1975; 1979)[77], а стремлением детально проработать саму категорию общения, чтобы проследить до конца все ее потенциальные возможности, стремлением, вытекающим из понимания огромного (хотя, естественно, не безграничного) значения этой категории для общей теории психологии. Итак, мы убеждены в том, что создание общепсихологической теории (равноранговой теориям отношения, установки и деятельности), которая сделала бы общение центральной категорией и последовательно свела бы к ней все психологические реалии, принципиально возможно и даже желательно. Но одно дело принципиальная возможность и желательность и совсем другое — фактическая возможность. То реальное историко-научное обстоятельство, что эта теория, во-первых, начала развиваться в ситуации наличия уже вполне развитых общепсихологических концепций и, во-вторых, что она объективно является завершающей сложившуюся парадигму, противодействует ее оформлению в чистом виде. Это противодействие «самой истории» на поверхности научной жизни проявилось в интенсивной дискуссии о месте и значении категории общения в системе психологического знания (Абульханова-Славская, 1980; Гусев, 1980; Леонтьев, 1975; Ломов, 1975, 1979, 1981; Радзиховский, 1982 и др.). Нам кажется, что за разноголосицей взглядов и формулировок, прозвучавших в дискуссии, начинают вырисовываться контуры общей, единой для всех онтологической схемы, которая соответствует приведенной выше типологии психологических единиц жизни.
Рис. 1. Объединенная схема «психологических единиц» На схеме одна из вершин треугольника символизирует индивида (И), вторая — вещь (В), третья — другого индивида (также И, чтобы не обозначать как «Ид», во избежание очевидных ассоциаций). Каждого индивида и вещь связывает деятельность (Д), в рамках которой индивид выступает как субъект (С), а вещь — как предмет (П) или объект (О). Вектор внутри тела деятельности, направленный от субъекта к предмету, символизирует установку (У). Двух индивидов связывает между собой общение (Об), в рамках которого они выступают друг по отношению к другу как Ты и Я. Вектор внутри общения, направленный от Я к Ты, означает отношение (От). Эта схема изображает целостную «единицу» жизненного мира человека в дифференцированном виде. Изначально в жизненном мире ребенка все ее элементы слиты в одно нерасчлененное единство. Младенец, кормящийся у груди матери, не отличает себя от акта сосания, от молока, от матери. Но и затем, в жизненном мире взрослого, хотя и происходит реальная дифференциация всех указанных моментов, сохраняется их генетическое и функциональное единство. Поэтому психолог, делая предметом своего исследования индивидуальную ли деятельность субъекта, совместную ли его деятельность с другим человеком (на схеме — связка С — П/В/0—С)[78] или любой другой фрагмент целостности, должен осознавать, какую именно он при этом производит абстракцию. Возьмем для примера самый «непсихологический» пункт схемы — полюс вещи. Разумеется, вещь сама по себе не может интересовать психологию, поэтому-то классическая психология, отвлекаясь от всей системы связей, вводящих вещь в человеческое бытие, отказывалась включать ее в психологическую онтологию. Вещь, как она предстает перед психологическим взглядом на реальность, должна браться и как предмет, то есть в своем отношении к деятельности субъекта, и как объект, то есть нечто произведенное или хотя бы выделенное из мировой связи для субъекта другим человеком (людьми), словом, как объективация деятельности другого, и как точка схождения совместного действия, и даже как отношение человека к человеку (Зинченко, Смирнов, 1983). «Предмет как бытие для человека, как предметное бытие человека есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку» (Маркс, т. 2, с. 47). Эта философская формула имеет отношение к самой обыденной реальности. Скажем, плохо сшитый костюм — это не просто некий вещный продукт работы портного, это «наличное бытие» портного «для другого человека», в котором в предметной форме выражается его «человеческое (или нечеловеческое) отношение к другому». Таким образом, любой фрагмент «жизненного мира», становясь предметом психологического исследования, должен рассматриваться во всей сложной системе опосредствований, в результате которой он в действительности выделяется как некая отдельность из целостного «жизненного мира». Любое конкретное экспериментальное исследование должно задавать совокупность условий отвлечения своего предмета от этой целостности, только тогда оно может рассчитывать на сознательное и последовательное выявление реальных закономерностей. Что касается теоретико-методологических исследований, то целый ряд категорий, представленных в схеме, уже достаточно хорошо проработан в отечественной психологии — это категории субъекта, индивидуальной предметной деятельности, отношения, установки. Теперь же на первый план должна выйти разработка категорий совместной деятельности, «совокупного действия» (Зинченко, Смирнов, 1983; Рубцов, 1987), и особенно категорий «другого» и «общения». 6 Подведем итоги. Было показано историческое и логическое единство категорий деятельности, общения, установки и отношения. Эти категории являются производными от единой онтологии «жизни человека в мире», содержащей в себе два аспекта — «жизнь человека» и «мир». Преимущественная заслуга разработки этих онтологических категорий, образующих фундамент единой общей психологии, принадлежит С.Л. Рубинштейну (1946; 1976). В этом его исторический вклад в систему советской психологии. Разумеется, предложенная типологическая схема — не более чем историко-психологическая гипотеза. В рамках одной главы невозможно доказать эту гипотезу. Но главный смысл проведенного анализа даже не в таком доказательстве, а в демонстрации того, что поставленная Л.С. Выготским проблема единой общей психологии к 1980-м годам превратилась в конкретную теоретическую задачу создания единой категориальной системы, синтезирующей основные идейные достижения отечественной психологической мысли. Социальные перемены 1980— 1990-х годов вывели такого рода задачу из круга актуальных, но логика истории не терпит пустоты — в том или ином виде эта задача должна быть решена. Примечания:[38] За «психологию» от И.П. Павлова доставалось как безвестным лаборантам, которых штрафовали за употребление психологических объяснений, так и маститым западным ученым. На знаменитых «средах» Павлов, увы, не стеснялся и был порой явно несправедлив. Вот, например, как однажды он «всыпал» одному из самых выдающихся психологических теоретиков Курту Левину: «В гештальтисты подбираются, по-видимому, специально поверхностные люди, такие как профессор К. Леви… У него никакой способности к анализу нет… Этот господин Курт Леви, — его стоит запомнить по его выдающейся глупости (Павлов, 1951–1952, т. 2, с. 570–571). Психологическое мышление долгое время было у И.П. Павлова на подозрении («Вероятно, у психологического мышления есть какие-то коренные недостатки, — считал он, — которые мешают ему плодотворно исследовать деятельность мозга» — там же, т. 3, с. 264), но справедливости ради надо сказать, '-'to так было не всегда: И.П. Павлов покаялся за свою Резкость и «несколько примирился» с психологией (там же, т. 2,с. 416). [39] См. примечание в разделе «Комментарии» (с. 227). 2 Это не столько восторженная оценка, сколько констатация факта. Призываю в свидетели авторитет А.Р. Лурия, который говорил, что знал в жизни трех гениев — Л.С. Выготского, С.М. Эйзенштейна и Н.А. Бернштейна. Это свидетельство стоит дорогого, поскольку «выбор» у А.Р. Лурии, имевшего обширнейшие научные контакты и, в частности, с 18 лет переписывавшегося с 3. Фрейдом, был очень большим. [40] «Учение об условных рефлексах бесспорно утвердило в физиологии факт временной связи… Через эту прибавку, конечно, никакого существенного изменения в понятии рефлекса не произошло» [Павлов, 1932. Цит. по: Анохин, 1945,с.98). [41] Ниже мы иногда будем пользоваться следующими сокращениями: КБП — кора больших полушарий головного мозга; ЦНС — центральная нервная система; ВИД — высшая нервная деятельность; УР — условный рефлекс; БУР — безусловный рефлекс. [42] Ср. с утверждением Дж. Уотсона, что у 5-6-дневного ребенка имеется уже весь репертуар движений взрослого человека(Уотсон, 1926). [43] Вот что писал о подобной методологической опасности «объективной» экспериментальной науки А.А. Ухтомский: «В таких тонких делах, как "ВНД", экспериментатору приходится опасаться самого себя более, чем где бы то ни было, дабы не выводить потом "нормальных закономерностей" и "обязательных правил" на основании того, что наделал в опыте своими руками. Человек — поистине мощное существо: он изменяет среду вокруг себя в сторону своих субъективных данных еще прежде, чем заметит это и захочет этого» (Ухтомский, 1954, с. 34–35). [44] Сам пример и его анализ заимствуется из семинаров Московского методологического кружка под руководством Г.П. Щедровицкого, В.Я. Дубровского, О.И. Генисаретского. К сожалению, точно восстановить авторство этого примера не представляется возможным, но вероятнее всего он причадлежит А.А. Тюкову. [45] Наглядную иллюстрацию этого положения можно найти у Ф.Г. Оллпорта. В статье «Структурирование событий» (Allport, 1954) он дает описание некоторого события на языке физических и физиологических законов. После почти двухстраничного их списка читателю предлагается идентифицировать это событие. Стоило, однако, только поставить задачу в таком виде, чтобы увидеть ее абсолютную неразрешимость. Оказывается же, событие состояло в том, что мальчик влез на стул, налил из графина воды и выпил ее. Почти буквальную аналогию такого описания представляет объяснение Павловым, например, чувства овладения (П. Жане)(Павлов,1951–1952,т. 3,кн.2). [46] «Рефлекс, — писал Л.С. Выготский, — понятие абстрактное; методологически оно крайне ценно, но оно не может стать основным понятием психологии как конкретной науки о поведении человека. На деле мы не кожаный мешок, наполненный рефлексами, а мозг — не гостиница, а сложные группы, соединения, системы, построенные по самым разнообразным типам. В самом деле, рефлекс в том смысле, в каком он употребляется у нас, напоминает очень близко историю Каннитферштана, имя которого бедный иностранец слышал в Голландии всякий раз, в ответ на всякий свой вопрос: кого хоронят, чей это дом, кто приехал и т. д. Он в наивности думал, что все в этой стране совершается Каннитфершта-ном, между тем слово это означало только то, что его вопросов не понимали встречные голландцы. Вот таким свидетельством в непонимании изучаемых явлений легко может представиться иной "рефлекс цели" или "рефлекс свободы". Что это не рефлекс в обычном смысле — в том смысле как слюнной, — а какой-то отличный от него по структуре механизм поведения, ясно для всякого. И только при всеобщем приведении к одному знаменателю можно обо всем говорить одинаково: это — рефлекс, как это Каннитферштан. Самое слово "рефлекс" обессмысливается при этом» (Выготский, 1925, с. 179). [47] Увы, приходится браться за неблагодарное дело: пересказывать логически безупречные и стилистически поэтичные работы Н.А Бернштейна (не зря в свое время автор учился на филологическом) — значит неизбежно огрублять их. [48] Вообще говоря, тотальный контроль над восприятием, имеем ли мы дело с политикой, воспитанием или экспериментами над животными, — задача намного более трудная, чем контроль над действием. [49] С тревогой приходится констатировать, что информационно-кибернетический иллюзионизм благодаря современным электронным средствам получил возможность технически совершенного воплощения в разного рода устройствах, создающих виртуальную реальность. Как и всякое изобретение, это имеет множество замечательных приложений, но и несет в себе страшную угрозу наркотизации. Духовный смысл всякого наркотика, как утверждал П.А. Флоренский, — бегство от реальности. Но куда? В псевдореальность, которая тем сильнее пленяет, чем более притворяется подлинной. [50] Напомним с помощью В. Виндельбанда, в чем суть развитой Огюстом Контом философии позитивизма (которую сам Б.Ф. Скиннер воспринял от Э. Маха), особенно подчеркивая те аспекты, которые с буквальной точностью воплощены в гносеологии Б.Ф. Скиннера. «…Позитивная философия… — пишет В. Виндельбанд, — есть не что иное, как упорядоченная система позитивных наук. Контовский очерк этой позитивистской системы наук представляет собой прежде всего крайние выводы из воззрений Юма и Кондильяка. Человеческое познание должно довольствоваться установлением соотношений между явлениями (выделено мной. — Ф.В.). Более того, вообще не существует какого-либо Абсолюта, который лежал бы, хотя бы в качестве чего-то неизвестного, в основе этих явлений. Единственный абсолютный принцип — то, что все относительно. Совершенно бессмысленно говорить о первых причинах и конечных целях вещей. Однако этот релятивизм (или, как говорили позже, коррелятивизм) тотчас же заявляет универсальное притязание математического естественнонаучного мышления. Науке он приписывает задачу рассматривать все эти отношения таким образом, чтобы устанавливать не только единичные факты, но и их повторяющийся пространственный и временной порядок — "общие факты", но именно всего лишь как факты. Следовательно, посредством "законов" — обычное название для "общих фактов" — позитивизм хочет не объяснять частные факты, а всего лишь констатировать эти повторения (выделено мной — Ф.В.). Тем не менее результатом подобного подхода должно явиться (что, конечно, остается непонятным и неоправданным при таких предпосылках) предвидение будущего как практическая услуга науки — savoir pour prevoir (знание ради предвидения)» (Виндель-банд, 1998, с. 440–441). [51] С точки зрения представителей павловской школы, это не «любая реакция», а ориентировочная, что чрезвычайно существенно для замыкания условной связи. [52] Справедливости ради заметим, что поводов для такого недоразумения в сочинениях И.П. Павлова предостаточно. Несмотря на ту роль, которую Павлов придавал рефлексу «Что такое?», он все-таки явно недооценивал его общетеоретическое значение, состоящее в указании на активный характер восприятия. Наиболее выразительное пластическое доказательство этой недооценки — «башня молчания», — попытка заменить инженерной конструкцией деятельность животного по выделению значащего сигнала из шумового фона, обнаруживающая предположение, что в принципе активность животного по отношению к условному раздражителю не обязательна для замыкания условной связи. [53] При той фетишизации мозговой деятельности (см. предыдущую главу), которая характерна для теории И. П. Павлова, иного нельзя было и ожидать: ведь не изменяются же законы функционирования мозга, в частности законы замыкания нервных связей, от того, что мы изменим экспериментальную ситуацию образования условного рефлекса, как это сделал Скиннер. [54] Класс таких реакций Скиннер называет оперантом (Fester, Skinner, 1957). [55] Но если не послушаться Скиннера и продолжить линию его экспериментов до онтологической плоскости, то там обнаружатся скандальные для правоверного бихевиоризма вещи. Вследствие оперантного обусловливания возрастает вероятность достижения животным определенного предметного результата. Однако чтобы достичь одного и того же результата (и Скиннеру об этом прекрасно известно — Skinner, 1931), животному приходится всякий раз осуществлять другое движение. Единственная возможность онтологически толковать эти факты состоит в необходимости признать, что оперантная реакция не сводима без остатка к материальной фактуре движения, что в ней кроме «сокращения мышц, растягивания сухожилий и движения костей» есть что-то еще, какая-то инстанция, изнутри конституирующая ее целостность, форму и организацию в данных конкретных обстоятельствах, стягивающая двигательный материал в орган уникальной встречи с миром, инстанция, которую можно назвать «целью», «моделью потребного будущего», «акцептором действия» и т. п. [56] «Мы не можем назвать отдельной единой инстанции, вызывающей реакцию» (Skinner, 1935 а). [57] У Б.Ф. Скиннера есть статья, которая так и называется «"Суеверие" у голубей» (Skinner, 1938). В этой работе он еще и еще раз утверждает, что обусловливание происходит только в силу временных отношений последовательности между реакцией и подкреплением, совершенно независимо оттого, вызывает ли реакция появление подкрепления в результате какой-то предметной связи или нет. В эксперименте перед голубем вращался частично выдвинутый из-за стенки диск, в одном месте которого лежал корм. Пока корм проходил мимо, птица клевала его и, естественно, поворачивалась по ходу вращения диска. Когда корм уходил из поля зрения, голубь продолжал поворачиваться, как бы «веря», что его движения вызывают появление корма. «Эксперимент, — убеждает Скиннер, — продемонстрировал своего рода суеверие. Птица ведет себя так, как если бы существовала каузальная связь между поведением и появлением пищи, в то время как таковая отсутствует» (там же, р. 407). Скиннер полон здесь пафоса разоблачения детерминистских иллюзий. Но что, собственно, доказывает этот эксперимент? Что птица является настолько высокоразвитым существом, что его можно обмануть, — камень не обманешь, а вот птица способна вести себя как бы суеверно, когда биологически иррационально организована среда. В мире есть место случайности, и ответом животного на объективную случайность являются слепые, случайные пробы, но из этого вовсе не следует, что все поведение животного может быть сведено к этим случайным пробам. Радикальный бихевиоризм не раз обвиняли в дегуманизации человека, но для него это обвинение — просто поблажка, философское преступление, которое может быть инкриминировано теории, куда серьезней — это деанимизация животного. Скиннер заставляет животное действовать как механизм, а не живое существо. Дух изобретательства, мучивший Скиннера с детства, кажется, обслуживал какую-то сверхценную фантазию, требовавшую создать механизм, который был бы полностью послушен воле создателя, но двигался бы при этом совершенно самостоятельно. «Я всегда что-то строил, — вспоминает Скиннер детские годы. — Я строил роликовые самокаты, управляемые вагоны, санки и массу всего, чем можно было управлять в мелких водоемах. Я делал качели, карусели и горки. Я делал рогатки, луки и стрелы, духовые ружья и водяные пистолеты из бамбука, а из старого парового котла — паровую пушку, из которой мог стрелять картофельными и морковными снарядами по соседским домам. Я делал волчки, чертенят, модели аэропланов, движимые скрученной резиной, воздушных змеев и жестяные пропеллеры, которые можно было запускать в воздух при помощи катушки и веревки. Снова и снова пытался я сделать планер, чтобы полетать самому… Много лет я трудился над вечным двигателем. (Он не работал.)» (Skinner, 1967.—Цит. по: Холл, Линдсей, 1997, с. 614). «Он не работал» — этот вздох сожаления, сдерживаемый ребрами скобок, выдает контролируемую, но так и не утоленную страсть. Животные в эксперименте Скиннера по сути оказались не более чем очень удобной деталью самодвижущихся установок. Особенно показателен в этом отношении скиннеровский проект 1960-х годов, по которому голуби должны были помещаться в самонаводящиеся ракеты и обеспечивать их попадание в цель. Ладно бы еще крыса, но голубь — этот символ мира, управляющий смертоносным оружием, — такой эстетической нечуткости можно ожидать только от изобретателя вечного двигателя. Так и видится нездоровый блеск глаз, так и слышится характерный пафос, от которого добра не жди: «Использование животных организмов в пилотировании ракеты больше — скажем это беспристрастно — не сумасшедшая идея. Голубь — удивительно тонкий и сложный механизм, способный осуществлять то, что можно сейчас заместить лишь куда более громоздким и тяжелым оборудованием…» (Skinner, 1960. — Цит по: Холл, Линдсей, 1997, с. 650). «Сложный механизм» — какова похвала голубю! Хорошенькое утешение пернатому камикадзе! [58] Здесь, конечно, надо бы говорить об определенных видах, а не о животном вообще. [59] Этот образ «среды» напоминает не реальное биологическое пространство жизни животного, а какую-то биологическую антиутопию. Увы, в отличие от утопий антиутопии имеют свойство сбываться. Индустрия виртуалистики дала сейчас целое поколение нервных мальчиков, героев компьютерных игр, для которых информационная компьютерная реальность обладает достоинством действительности в большей степени, чем реальность телесно-материальная. [60] Скиннер напоминает рыболова, все внимание которого вовсе не на рыбе — на поплавке. Возможно, там, внутри экспериментального ящика, у животного есть какая-то своя жизнь, но она объявляется непознаваемой вещью в себе. [61] Такое впечатление, что Скиннер, сам того не ведая, сценически воплощает в материале экспериментального метода кальвинистскую теологию, в особенности учение об «абсолютном предопределении», по которому каждый человек изначально предопределен ко спасению или гибели и никакие его усилия не могут изменить этого. Так и поведенческий акт животного в скиннеровской модели окажется успешным (или неуспешным) не благодаря силе и ловкости животного, а по одному только предопределению экспериментатора, произвольно решающего, что именно и когда подкреплять. [62] Заметим, кстати, что непроницаема эта завеса в обе стороны: радикальный бихевиорист в качестве строгого ученого не заглядывает внутрь экспериментальной установки, а следит за показаниями приборов вовне Так идея «пустого организма», нежелание гадать, что «за кожей», приводит к тому, что «кожей» становятся не границы тела животного, а граница экспериментальной установки; животное оказывается в радикальном бихевиоризме не «черным ящиком», а лишь гносеологически невидимой деталью «черного ящика», который по сути совпадает с экспериментальным скиннеровским ящиком. Тут уж у элементов схемы «организм — среда» остается мало общего с соответствующими биологическими категориями в их классическом понимании роль «организма» начинает исполнять «экспериментальная установка», а роль «среды» — сам радикальный бихевиорист. [63] Даже название одного из итоговых трудов академика («Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» — Павлов, 1973) прямо указывает на это отождествление Поведение было заключено |в скобки как «ненаучный» синоним понятия «высшая нервная деятельность». [64] А слава была и остается нешуточной. Академик И. П. Павлов стал первым из русских ученых лауреатом Нобелевской премии (1904). (Забавно, что именно в 1904 году родился Б.Ф. Скиннер.) Вплоть до последнего времени за рубежом самым известным из отечественных психологов(!) был никто иной, как физиолог И.П. Павлов. В 1971 году Американская психологическая ассоциация признала Бурхуса Фредерика Скиннера «самым влиятельным психологом в США» и «крупнейшим психологом всех времен после Фрейда» (журнал «Америка», 1972, № 194). Несмотря на помпезную безвкусицу, эти титулы кое-что да значат. [65] В данном случае определение «советская» означало государственно-географическую привязку — психология, развивавшаяся в СССР. Более подробнее о лексических нюансах этого текста см. «Краткий исторический комментарий» к главе, помещенный в конце книги (с. 228). Здесь и далее сноски и примечания, сделанные при подготовке текста к печати в 1998 и 2002 гг., будут помечены «звездочками», чтобы можно было отличить их от «родных» сносок, помеченных цифрами. [66] Почему названные теории приписаны именно этим авторам? Не они ведь были первооткрывателями психологических проблем отношения, установки и деятельности (достаточно вспомнить имена А.Ф. Лазурского, Л. Ланге, М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна). Да и что касается вклада в разработку этих проблем, то, например, заслуги С.Л. Рубинштейна в создании психологической теории деятельности не меньше, чем заслуги А.Н. Леонтьева. Дело в данном случае в другом, не в приоритете первооткрывателя и не в значимости теоретического вклада, а в возведении избранной психологической категории в особый методологический ранг: в отличие от С.Л. Рубинштейна А.Н. Леонтьев использовал категорию деятельности как ядро, центр всей психологической науки, а психологическую теорию деятельности превратил в общую психологию. Точно так же В.Н. Мясищев превратил в общую психологию теорию отношений, а Д.Н. Узнадзе — теорию установки. [67] Стоит сразу же оговориться, что стремление к теоретическому единству, вытекающее из самой природы научного знания, отнюдь не совпадает со стремлением к объединению научных школ. Такое объединение не имеет смысла, да и неосуществимо, ибо школа — своего рода социальный «организм», целостность которого конституируется не одной только идейной общностью, но и целым рядом социальных, организационных, социально-психологических, биографических и прочих факторов. [68] Именно эти категории выбраны для анализа не потому, что все другие (скажем, категории отражения, сознания и пр.) можно считать менее важными, а в силу эмпирического исторического факта, что каждая из них послужила центром отдельной общепсихологической теории и дала ей свое имя. [69] Такие ассимилятивные попытки (сам факт которых лишний раз свидетельствует о тенденции к единству) предпринимались теорией деятельности и теорией установки друг по отношению к другу (Асмолов, 1979; Шерозия, 1979). Основной прием состоит здесь в том, что центральная идея конкурирующей теории рассекается на две части — абстрактную и конкретную, затем первая из них отбрасывается, поскольку в ней отказываются видеть реальное психологическое содержание, и ассимилируется лишь вторая. За своей же центральной категорией, выступающей как главный объяснительный принцип, признается право выражать абстрактную и конкретную части идеи в их единстве. Так, из одной теории «выплескивается» идея первичной установки и оставляется лишь феномен фиксированной установки (Асмолов, 1979), а из другой устраняется категория деятельности как объяснительный принцип психологии и берется лишь понятие «актуальной ("здесь-и-сейчас") деятельности» (Шерозия, 1979, с. 24). Словом, из концепции при такой процедуре извлекается ее, так сказать, методологическая «душа». И хотя для критикующей теории такая ассимиляция полезна, но в силу того, что она не осваивает полную суть критикуемой концепции, теоретическая победа оказывается иллюзорной, по крайней мере, с точки зрения обсуждаемой проблемы синтеза. [70] В данном случае педалирование идеологической безупречности «онтологии человеческого бытия» было вызвано пониманием, что эти построения С Л. Рубинштейна по своему экзистенциально-гуманистическому духу как раз противоречат антиперсонологическим установкам марксизма и потому уязвимы и нуждаются в защите. Такая мимикрия под марксизм преследовала не только охранительные цели, но и решала еще задачу отвоевывания внутри номинального марксизма «свободной философской зоны» по аналогии с тем, как в тоталитарном государстве могут существовать свободные экономические зоны (конечно, примерно с той же степенью свободы). — Прим.1998 г. [71] В такого рода контекстах хорошо видно, как слова «марксистская», «материалистическая» используются не столько как точные философские термины, сколько как идеологические замены слов «подлинная», «истинная», «реальная», «содержательная». — Прим.1998 г. [72] Марксизму как официальной идеологии присягали все три теории, это была непреложная идеологическая константа. Проблема действительных отношений той или иной концепции с действительной философией Маркса в советское время не могла быть поставлена, ибо сам факт такой проблематизации, независимо от личной искренности вопрошающего, социально-идеологическим контекстом превратился бы в донос Сейчас же выяснение отношений той или иной теории с марксизмом — историко-психологическая задача вполне правомочная, хотя, впрочем, столь же не актуальная. Ограничиваясь первыми впечатлениями, можно отметить, что теория установки внутренне была совершенно независима от марксизма, теория деятельности, напротив, сознательно развивалась А. Н. Леонтьевым именно как конкретно-научная психологическая реализация марксовой философии. Что касается теории отношений, хотя она и «припала» к небольшому набору подходящих цитат из сочинений Маркса, трактующих проблему человеческих отношений, но сам В.Н. Мясищев, обладая, нужно думать, многими талантами, в том числе и глубокой теоретической интуицией, был, кажется, лишен дара точной категориальной проработки своей теоретико-философской позиции. И, тем не менее, у всех трех концепций была, в самом деле, глубинная философско-методологическая общность, которая роднила их между собой и роднила с философией Маркса, но кроме нее и со множеством других направлений мысли, и которая в самом деле отличала их от психологической классики XIX века. Это общее — представление о том, что человеческая психика определяется реальным процессом жизни человека — приписывалось марксизму как единственному легальному (и по советской логике — «единственно истинному») философскому источнику, независимо от того, как дело обстояло на самом деле. Образно говоря, научный товар у всех трех теорий был вполне качественным и по принципиальным характеристикам сходным, но кроме того у всех имелся сертификат «марксистского», независимо от того, «производился ли он на Малой Арнаутской улице в Одессе» или был по происхождению настоящим «марксистским». — Прим.1998 г. [73] Нужно настойчиво подчеркнуть, что речь идет только об акцентах развития теорий и соответственно о доминантах кристал-лизирующихся в них категорий. Признание и научно-психологическое раскрытие социальной сущности человека, его психики и деятельности является существенным и неотторжимым свойством теорий деятельности и установки. Это утверждение не требует специального доказательства. Достаточно вспомнить, что, по А.Н. Леонтьеву, деятельность человека всегда включена в систему отношений общества (Леонтьев, 1975, с. 82), что предмет ее — всегда человеческий, общественный предмет (Леонгьев, 1972, с. 364–366), что, по формулировке Д.Н. Узнадзе, «человек живет и действует, то есть существует, не только для себя, но и для другого; особенно следует остерегаться того, чтобы опять противопоставить "общество", как "абстракцию", "индивиду"» (Узнадзе, 1966, с. 275). Равным образом В.Н. Мясищев, считая главным "…изучение человека прежде всего в его связях с людьми» (Мясищев, 1960, с. 230), конечно же, не абстрагировался и от его связей с предметной действительностью, не зря ведь в исследованиях 1930-х годов основное внимание он уделял отношению человека к труду. Все говорили обо всем, но логические ударения делали разные [74] В.Н. Мясищев (1970, с. 12) писал, что установка и отношение не представляют собой «в конкретном плане процесса, хотя и могут изменяться». [75] Речь не о том, что эти авторы первые открыли проблему общения для психологии, а о превращении ее из частной в общепсихологическую (ср. со сноской 1). [76] Такая концепция позволила бы (а) ассимилировать огромный пласт исторических и онтогенетических фактов, где вещь выступает в действии и отношении к ней человека как «другой» (которого можно любить и ненавидеть, поклоняться и презирать) (Зинченко, Смирнов, 1983, с. 24), и (б) теоретически освоить в общепсихологическом контексте достаточно подробно проработанные вне этого контекста (в частности, в психоанализе и аналитической психологии, в трансакци-онном анализе и теории ролей, в философии и филологии) представления о личности как внутреннем общении, как «полифонии», а не «монолите» или механической структуре (Рубинштейн, 1976, с. 334; Цапкин, 1994). [77] Такое рассмотрение и возможно, и продуктивно, как показывает прекрасная (но почти незамеченная из-за малого тиража) работа Г.В. Гусева (1980). [78] Эта «связка» — одна из множества возможных частных модификаций исходной схемы (ср. с предложенной Б.Ф. Ломовым схемой «субъект — субъект», где средний элемент опущен, а также с выдвинутой Л.А. Радзиховским схемой «субъект — объект — субъект» (Радзиховский, 1982), в которой средний элемент присутствует, но в нерасчлененном виде). Упомянутое множество возможных модификаций создается, во-первых, тем, что в каждом конкретном случае могут рассматриваться не все компоненты исходной схемы, а во-вторых, тем, что структурные места схемы не связаны жестко с наполняющим их содержанием. Скажем, структурное место «вещи» может занять деятельность другого человека или «мое» отношение к другому человеку и т. д. Анализ этого множества — задача особого исследования. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||