|
||||
|
|
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Набоков  Шарж на Владимира Набокова (Дэвид Левин) Шарж на Владимира Набокова (Дэвид Левин) 1. Рецензии и отзывы  Шаржи Д. Левина на Э. Уилсона, Р. Уэст, К. Эмиса, Г. Видала, М. Эмиса (шарж Н. Дженнингса), В. С. Нейпола, А. Роб-Грийе Шаржи Д. Левина на Э. Уилсона, Р. Уэст, К. Эмиса, Г. Видала, М. Эмиса (шарж Н. Дженнингса), В. С. Нейпола, А. Роб-Грийе ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА НАЙТА THE REAL LIFE OF SEBASTIAN KNIGHT
Первый англоязычный роман В. Набокова был начат в декабре 1938 г. и закончен в январе 1939 г. Как и англоязычные версии «Отчаяния» и «Камеры обскуры», это произведение красноречиво свидетельствует о том, что решение «обескровить себя, искалечить», отказавшись от «ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного <…> русского слога ради второсортного сорта английского языка», вызревало у писателя задолго до отъезда в США. Подробное обсуждение вопроса о причинах «смерти» русского писателя В. Сирина и его мучительного перерождения в англоязычного автора не входит в задачи данной работы. Тем более что процесс этот, как справедливо заметил А. Долинин, был обусловлен «целым комплексом внешних и внутренних причин»[84]. Правда, сам исследователь в качестве главной причины «смерти» Сирина называет «внутренний творческий кризис», якобы наступивший у Набокова «в конце тридцатых годов, после окончания работы над „Даром“»[85]. Думается, что эта точка зрения лишена каких-либо серьезных оснований. После окончания «Дара» (само слово «окончание» следует взять в жирные кавычки, ибо, как уже было сказано, в течение 1939 г. Набоков работал над вторым томом этого романа) творческая активность писателя нисколько не снизилась. Не ухудшилось и художественное качество его творений, созданных после «Дара». Во всяком случае, у меня не повернется язык назвать «кризисными» и «упадочными» рассказы «Лик» (РЗ. 1939. № 14), «Посещение музея» (СЗ. 1939. № 68), «Василий Шишков» (ПН. 1939. 12 сент.), пьесу «Изобретение Вальса», стихотворения (лучшие в довоенной набоковской лирике) «Поэты» (СЗ. 1939. № 69) и «К России» (СЗ. 1940. № 70), опубликованные под псевдонимом «Василий Шишков» и вызвавшие восторженный отклик у потерявшего бдительность Г. Адамовича: «В „Поэтах“ Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду разбросаны те находки, тот неожиданный и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которые никаким опытом заменить нельзя» (ПН. 1939. 17 августа. С. 3), — или расценить как неудачу осколки незавершенного романа «Solus Rex» (1940) и не опубликованную при жизни автора новеллу «Волшебник», своего рода пра-«Лолиту», написанную Набоковым в октябре — ноябре 1939 г. «В ключе к сложнейшей задаче нас поражает прежде всего именно его простота, его гармоническая очевидность, которая открывается нам лишь после нескладных, искусственных попыток», а посему, говоря о причинах перехода Набокова на английский язык (именно английский, а не французский, который писатель знал ничуть не хуже) не следует с благоговейным прекраснодушием отбрасывать самое на первый взгляд банальное и житейски заурядное объяснение. «На что писателя российского мне честь, / Коль нечего ни пить, ни есть!» — так, перефразировав знаменитую сумароковскую фразу, мог бы охарактеризовать Владимир Набоков свое положение в конце тридцатых годов. В материальном плане трехлетний «французский» период (во Франции Набоков проживал с апреля 1937 г. по май 1940 г.) оказался для писателя самым тяжелым. «Мы медленно погибаем от голода, и никому до этого нет дела»[86] — характерное признание, прорвавшееся в одном из набоковских писем З. Шаховской, посланных с юга Франции (откуда Набоковы некоторое время просто не могли никуда выехать за неимением средств). Именно тогда, во Франции, Набоков окончательно убеждается в невозможности прокормить себя и свою семью на литературные заработки от русскоязычных произведений: чахлый книжно-литературный рынок русской эмиграции (как и сама эмиграция первой волны) доживал свои последние дни. Переводы набоковских романов на французский (того же «Отчаяния», забракованного Ж.-П. Сартром) большого успеха не имели, да и не могли обещать стабильного заработка. Лишь выход на обширный англоязычный литературный рынок мог обеспечить Набокову необходимый прожиточный минимум и возможность заниматься любимым делом, не размениваясь на репетиторство и журнальную поденщину. Как указывал в предисловии 1949 г. к своим «Записным книжкам» Сомерсет Моэм, «потенциальная аудитория англоязычного писателя насчитывает двести миллионов; у французского писателя неизмеримо меньше читателей [а еще меньше их было у русского писателя-„белоэмигранта“. — Н.М.]. Английским писателям не тесно в литературе. Вы можете о ком-то из них никогда не слышать, но это не мешает ему неплохо зарабатывать, если, разумеется, он не графоман. <…> Со временем у него образуется круг постоянных читателей, а поскольку газеты заинтересованы в рекламе издательств, они регулярно печатают рецензии, так что большая пресса никого не обойдет вниманием»[87]. После неудач с переводами «Отчаяния» и «Камеры обскуры» роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» стал своего рода пробным шаром: как для самого Набокова, все еще не очень уверенного в своем английском (именно поэтому сразу после отделки чистового варианта романа он попросил свою парижскую знакомую Люси Леон проверить текст на предмет возможных языковых и синтаксических ошибок), так и для англоязычных критиков и издателей. С последними дело не заладилось. Несмотря на все старания — визит в Англию весной 1939 г., публичные чтения, организованные там при поддержке Глеба Струве, — Набокову долгое время не удавалось соблазнить какого-либо англоязычного издателя. Лишь после переезда в Америку, благодаря помощи своего нового друга, влиятельнейшего критика Эдмунда Уилсона, пришедшего от романа в восторг[88], «Истинную жизнь Себастьяна Найта» удалось пристроить в издательство «Нью-Дайрекшнз». Роман был издан в середине декабря 1941 г. Более неудачное время для его публикации трудно было подыскать: вовсю бушевала Вторая мировая война, в России бои шли уже под Москвой, на Тихом океане японцы только что разгромили американцев при Перл-Харборе… Я думаю, мы можем легко понять и простить американских читателей, которым явно было не до изысканного набоковского романа-расследования, затрагивающего (как и в «Соглядатае») проблемы человеческой самоидентификации и «непрозрачности» творческой личности. Конечно, в Америке, с ее развитым и богатым книжно-журнальным рынком, роман не могли совершенно замолчать или не заметить, тем более что хвалебная рекламная аннотация, написанная Эдмундом Уилсоном, была надежной рекомендацией новичку в высший литературный свет. Откликов на «Истинную жизнь Себастьяна Найта», появившихся в американской прессе, было гораздо больше, нежели отзывов эмигрантских критиков на «поздние» русскоязычные вещи Набокова: «Приглашение на казнь» или «Дар». Однако по американским меркам все равно их было слишком мало, чтобы привлечь внимание широкого читателя и, тем более, чтобы сделать писателю громкое имя. Типичный критический отзыв на первый англоязычный роман В. Набокова — это либо небольшой фрагмент из обзорной статьи, либо крохотная рецензия, затерявшаяся на последних страницах «толстого» журнала. Авторы этих отзывов, как правило, ограничивались краткими сведениями об авторе (почерпнутыми из уилсоновской аннотации) да кратким пересказом фабулы. Правда, оценки, данные произведению, отличались большим разнообразием. Критикесса Бесс Джонс посчитала нужным заметить, что набоковский роман «имел бы несомненный успех, выйди он лет 15 назад», явно намекая на вопиющую неактуальность «Истинной жизни Себастьяна Найта» (Saturday Review. 1942. Vol. 25. January 17. P. 6). Писательница Кэй Бойл была настроена более дружелюбно. По ее мнению, история Себастьяна Найта была «рассказана с блеском, утонченным изяществом и сдержанностью, с изысканно-ядовитым юмором, который доставляет наслаждение при чтении» (Boyle К. The New Novels // New Republic. 1942. Vol. 106. № 4 (January 26). P. 124). «Дьявольски талантливое произведение», «маленький шедевр острого ума и отточенной техники» — так оценила «Истинную жизнь Себастьяна Найта» Айрис Бэрри <см.>, автор, пожалуй, самой комплиментарной рецензии, которой удостоился первый англоязычный роман Набокова. Зато другие американские рецензенты отнеслись к «Истинной жизни Себастьяна Найта» более чем прохладно, посчитав ее «незамысловатой безделушкой» (New Yorker. 1941. Vol. 17. December 27. P. 60). Рецензент, спрятавшийся за инициалами «А.К.», отметил языковое мастерство автора и, особо выделив 16-ю и 17-ю главы, признал, что в этой книге содержится материал по меньшей мере для полдюжины романов. «Единственная беда с этой книгой, — писал критик, завершая рецензию неожиданным поворотом „овер-штаг“, — так это то, что не совсем ясно, зачем она вообще была написана. От писателя таких выдающихся дарований можно было ожидать чего-то более значительного, чем искусная акробатика в области литературной техники» (Books Abroad. 1942. Vol. 16. № 4. P. 444). Обозреватель из литературного приложения к «Нью-Йорк таймс» П.М. Джек сравнивал «Истинную жизнь Себастьяна Найта» с романом Сомерсета Моэма «Пироги и пиво» — явно не в пользу Набокова. «Человек, о котором повествует автор, этот Себастьян Найт, — занудный и утомительный тип, — сокрушался П.М. Джек. — Если бы повествователь был поумнее, книга могла бы быть интересней. Но романный соглядатай просто-напросто глуп, и его финальное сообщение не дает никаких доказательств, что затеянное расследование имело хоть какой-нибудь смысл» (NYTBR. 1942. January 11. Р. 7). Забраковав и набоковских героев, и набоковский стиль (напомнивший ему почему-то манеру Уолта Диснея), рецензент назвал роман «глупой книгой» — о чем с плохо скрываемым удовольствием не преминул сообщить Марк Алданов в одном из писем И.А. Бунину[89]. Живая реакция Алданова весьма показательна: русскими эмигрантами, перебравшимися из Европы в США, Набоков все еще воспринимался как «свой среди чужих», как русский писатель. Литературные удачи или неудачи Набокова были значимы для его прежних почитателей или завистников. С переездом Набокова в Америку В. Сирин умер далеко не сразу. Не случайно в первом же номере «Нового журнала» был напечатан набоковский рассказ «Ultima Thule» (отпочковавшийся от незавершенного романа «Solus Rex»), а во втором номере появилась хвалебная рецензия на «Истинную жизнь Себастьяна Найта». Автор рецензии, Мария Толстая <см.>, развивала давние идеи В. Ходасевича и В. Вейдле о том, что «основная тема Сирина, так сказать, „самое главное“ в его творчестве — само творчество». (Примечательно, что за исключением первого предложения, где автор «Истинной жизни Себастьяна Найта» был обозначен как «В.В. Набоков-Сирин», на протяжении всей статьи Толстая по привычке называла писателя его прежним псевдонимом «Сирин».) Но если для русских эмигрантов Набоков еще оставался «своим», то для подавляющего большинства американских критиков он явно был «чужим среди своих». В еще большей степени это касается неизменно консервативных британских критиков, традиционно воспринимающих заокеанскую литературную продукцию с опаской или изрядной долей высокомерия. Именно так подошли английские рецензенты к набоковскому роману, когда весной 1945 г. появилось его лондонское издание. Уолтер Аллен <см.>, хоть и признал Набокова «блистательнейшим писателем», о самом романе отозвался с прохладцей, ехидно заметив напоследок, что издатель, вздумавший опубликовать переводы русских романов Набокова, «наверняка почувствует себя обманутым». Другой критик, Генри Рид, нашел «Истинную жизнь Себастьяна Найта» вторичной по отношению к произведениям все того же Сомерсета Моэма, а Себастьяна и остальных персонажей — недостоверными и нежизнеспособными: «И хотя эскизы Севастьяновых книг довольно привлекательны, те отрывки из них, которые господин Набоков соизволил нам представить, явно не говорят о том, что они принадлежат великому писателю» (New Statesman. 1946. Vol. 31. May 4. P. 324). Тем не менее он отметил ряд эпизодов романа и, в отличие от Уолтера Аллена, выказал заинтересованность в том, чтобы русские романы Набокова были переведены на английский язык. В общем, ни в Англии, ни в Америке сенсацией «Истинная жизнь Себастьяна Найта» не стала. В этом можно винить и неблагоприятные стечения обстоятельств (если, конечно, данное словосочетание применимо ко Второй мировой войне), излишне придирчивых критиков, а также «ленивую и нелюбопытную» читательскую публику, которая в то время просто-напросто была не готова принять и по достоинству оценить самобытную набоковскую прозу. Айрис Бэрри{80} Рец.: The Real Life of Sebastian Knight. Norfolk, Conn.: New Directions, 1941. Несмотря на свою очевидную безыскусность, этот компактный, умный роман на самом деле произведение сложное. На первый, поверхностный, взгляд это всего лишь искренняя попытка безымянного повествователя, некоего «я», записать все, что он знает или может выяснить о своем недавно умершем брате Себастьяне, талантливом молодом писателе. Факты биографии, воспоминания о прошлых событиях записаны будто ненароком, в бесхитростной манере, с включением весьма аппетитных, хотя и слегка заумных, цитат из романов покойного автора, поясняющих обрывочные сведения и воспоминания о детстве Себастьяна в «старой» России — смерть на дуэли его отца, военного, странный характер его матери-англичанки, побег в 1918 году двух мальчиков с мачехой Себастьяна в Финляндию, своеобразные привязанности Себастьяна, болезненные попытки любви, привычки жизни, писательства, мышления <…>. Разнообразные оценки его литературных заслуг, прозрачные намеки на то, что кажется точно установленными фактами, имеющими отношение к главному герою, — все это обещает беспрерывно вести к абсолютному раскрытию сущности его характера, на что книга, как видно, и нацелена. Фактически, г-н Набоков не стремится к объединению материала, напротив, он разбрасывает небольшие фрагменты-головоломки, но эти осколки сами собой создают двустороннее зеркало, неясно отражающее мимолетные образы, далеко не все из которых совпадают с общим замыслом и композицией романа. «Истинная жизнь» Себастьяна разрастается все более таинственно, все более непостижимо по мере развития сюжета. Да и сама структура книги продолжает разрастаться. Но, несмотря на все усмешки и детские шалости, писатель постоянно намекает не просто на полную непознаваемость любой индивидуальности, но, более того, на внутреннюю зачарованность каждого человеческого существа одиночеством — один стеклянный шарик сталкивается со множеством других, но назвать столкновения между ними чем-то, подобным слову «любовь», также невозможно, как написать истинную биографию какого-нибудь писателя. Книга г-на Набокова полна колючек и ловушек, странным образом требуя читательского внимания и воображения, вроде того эпизода, где автор «одалживает» одному из второстепенных персонажей черную маску, так что человек не может быть идентифицирован как реальная личность, узнаваемая в подлинной жизни. Читатель преднамеренно вводится в заблуждение. Но как изысканно, вызывая сдержанное, но облагораживающее душу сочувствие, делается это, к примеру, в сцене, где повествователь молча сидит в затемненной больничной палате, испытывая «чувство надежности и покоя» оттого, что слышит живое, тихое дыхание своего больного брата. Но на следующей странице мы узнаем, что на самом деле имела место одна из идиотских ошибок, столь унижающих человека; тихое дыхание принадлежало совершенно постороннему человеку. Себастьян был мертв еще до того, как его брат добрался до больницы. Сказать, что роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» блестяще, мастерски задуман и написан — значит почти ничего не сказать о впечатлении, которое он производит. Это дьявольски талантливое произведение не просто необычно по настроению, но и волнующе выходит за рамки основной традиции английского повествования, как это происходит с произведениями Ганса Андерсена и Гоголя. Написанная на живейшем и наипрозрачнейшем английском, эта книга нечто, создающее эффект прослушивания речитатива блаженного из оперы «Борис Годунов» в английской деревенской церкви или простой детской песенки, вроде «Мы идем, собирая орехи», положенной на музыку Стравинского. Что касается героев, все они весьма эксцентричны и вполне правдоподобны, вызывая множество слабых воспоминаний, навеянных такими разными и не английскими источниками, как произведения Жерарди, Бальзака или Чехова. Вариация на тему двойственности реальной личности и литературной биографии, это в своем роде маленький шедевр острого ума и отточенной техники. Iris Barry // New York Herald Tribune Books. 1942. 25 January. P. 12 (перевод А. Спаль). Мария Толстая{81} Рец.: The Real Life of Sebastian Knight. Norfolk, Conn.: New Directions, 1941 Особенности В.В. Набокова-Сирина как писателя русской публике известны очень хорошо. Как у всякого крупного и острооригинального таланта, у него есть много почитателей и столько же противников — людей, которые «по тысяче причин» его творчество «принять не могут», раздраженно недоумевая над каждым его новым произведением. Критики уже давно высказались о нем, поставив ему в упрек все, что только в упрек ему поставить было можно (главное — что он пишет не совсем так, как это полагается «настоящему российскому писателю», как-то слишком по-европейски, т. е. то, в чем упрекать нельзя никого), и отметив его исключительное дарованье с некоторым подчеркиванием его необычайного (порою просто ошеломляющего) словесного мастерства. Эпитет «блестящий» сопутствует ему уже много лет; и, право, трудно найти в современной русской литературе кого-либо другого, кому бы этот эпитет так был к лицу, как Сирину. Правда, у иных критиков вслед за ним часто чудится (а иногда и произносится): «но холодный» или даже «но поверхностный», что — если и не явный вздор, то, во всяком случае, — очевидное недоразумение. Американскому читателю Сирин до своего приезда в США был почти неизвестен; говорю «почти» потому, что одна его книга «Камера обскура» была здесь издана в 1938 г. под названием «Laughter in the Dark». Но как раз этот роман не принадлежит ни к самым сильным, ни к наиболее типичным вещам писателя, и, судя по нему, американцы получили бы и не совсем полное, и не совсем верное представление о характере сиринского творчества. Было уже сказано кем-то (если не ошибаюсь, В. Вейдле), что основная тема Сирина, так сказать, «самое главное» в его творчестве — само творчество. Его главные герои, кем бы внешне они ни были (от шахматного маэстро Лужина до приговоренного к смерти героя лучшего, на мой взгляд, сиринского романа «Приглашение на казнь»), они являются в каком-то плане символами творца, художника и, в конце концов, героями, несомненно, лирическими. Его главный конфликт — взаимоотношения, сложные и мучительные, между творцом и его творениями, людьми и предметами, населяющими сотворенный им мир; власть творца над своим миром и его обреченность жить в нем вместе с призрачными его обитателями, в жизнь которых он поверить не может, ибо они созданы чудесной прихотью его, творца, и от которых ему некуда уйти, ибо они — частицы его собственного творческого «я». И, жалкий чародей, перед волшебным миром, В этом, быть может, основная трагедия художника, которую Сирин с огромной силой выразил в своем творчестве. Этими же ощущениями, осложненными и обостренными другими, привходящими, но для понимания Сирина отнюдь немаловажными (как, напр., трагедия отщепенца, человека, вырванного из родной стихии), проникнут и последний роман писателя, написанный им по-английски. Очень трудно, да, в сущности, и не имеет никакого смысла, передавать «своими словами» содержание сиринских романов. В них, почти как в стихах, сюжет (или то, что можно было бы назвать сюжетом) чаще всего играет, если и не второстепенную, то, во всяком случае, служебную роль. Главное — в самой ткани повествования, в том, что, и как, и почему говорит автор о тех или иных вещах, а не в них самих и не в персонажах, о правдоподобии которых, об их примитивной жизненности, автор и не очень заботится. В «Истинной жизни Себастьяна Найта» сводный брат знаменитого английского писателя Найта (наполовину русского по происхождению), персонажа, конечно, вполне вымышленного, пытается написать его биографию. Сам он знал Найта только в детстве и лишь изредка встречался с ним позднее; после смерти Найта выяснилось, что, в силу замкнутости характера, у него не было близких друзей, которые могли бы хоть как-нибудь осветить его жизнь, и его брату приходится восстанавливать ее, собирая отрывочные сведения и крохи фактов среди лиц, так или иначе соприкасавшихся с Найтом, используя произведения покойного, которые, по его мнению, автобиографичны. Процесс создания этой биографии и составляет буквальное содержание романа. Но внутренний, «сокровенный» смысл его, разумеется, не только в этом. «Истинная жизнь Себастьяна Найта», как и большинство русских вещей Сирина, посвящена, по существу, по-прежнему «выяснению отношений» между творцом и его созданием. Движимый вначале простой братской привязанностью к Найту, усиленной преклонением перед ним как перед замечательным писателем, брат Найта в процессе своей творческой работы над его жизнью в конце концов настолько оказывается во власти его личности, что уже отождествляется с ним, делается его двойником, его тенью, его живым призраком. Английский язык Сирина превосходен. Его основной литературный прием — чередование различных стилей — удался блестяще, как и все построение романа, основанное на двойном, сначала резко отличном, а потом все более и более сливающемся видении мира. Жаль, что у этой книги нет русского оригинала. Новый журнал. 1942. № 2. С. 376–378 Уолтер Аллен{82} Рец.: The Real Life of Sebastian Knight. London: Edition Poetry, 1945 Русский писатель Владимир Набоков получил образование в Кембридже и пишет на английском, французском и немецком языках так же хорошо, как на русском; Себастьян Найт — герой его романа — русский писатель, образование получил в Кембридже и писал на английском. Г-н Эдмунд Уилсон написал к книге рекламную аннотацию, в которой то и дело, к месту и не к месту, повторяет: «Если бы я сказал, что Набоков в чем-то подобен Прусту, в чем-то подобен Кафке, в чем-то подобен Гоголю…» Если бы г-н Уилсон действительно сказал нечто в этом роде, он, вероятно, ввел бы читателя в заблуждение. Г-н Набоков, несомненно, блистательнейший писатель, не похожий ни на кого из названных, но имеет, правда, нечто общее с Пиранделло, писателем не столь выдающимся. Себастьян Найт — гениальный писатель. Г-н Набоков цитирует его произведения, и если он не убедил нас в гениальности своего героя, то, по крайней мере, преуспел в показе замечательного таланта, в котором есть нечто от девятнадцатого века. Повествователь в романе — сводный брат Найта, русский в изгнании, в Париже, который после ранней смерти Себастьяна вознамерился воссоздать в своем писании его жизнь; жизнь эта загадочна, хотя, возможно, не более загадочна, чем та, что затемнена дешевой биографией. После некоторых разысканий, которые потребовали поездок в Кембридж, Лондон, Париж, небольшой курорт минеральных вод в Германии, он накапливает относящиеся к делу факты. Иными словами, это художественный эквивалент книги А.Д.А. Саймонса «В поисках Корво»{83}. Но какую тайну хранят эти факты? Возможно, эту: «В чем бы ни состояла его тайна, одну тайну усвоил и я, а именно: что душа — всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние, — что всякая душа может стать твоей, если уловить ее биенье и следовать за ним. Посмертное существование — это, может быть, наша полная свобода осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ, — и ни одна из них не заподозрит об этом попеременном бремени. Вот почему Себастьян — это я. У меня такое чувство, будто я воплощаю его на освещенной сцене…» Уверенность, которую, если я ее правильно понял, я всецело разделяю. Метафизические вкрапления серьезно вредят «Истинной жизни Себастьяна Найта» как роману. Правда, в результате может появиться ощущение тождества: повествователь в конце концов сумеет издать такую же восхитительную книгу, как и книги Найта, о которых можно судить по цитатам из них; но так как г-н Набоков написал и то и другое, это неудивительно, да и к тому же ничего не доказывает. Точно так же, как и тщательная реконструкция, цитаты из дешевой книжонки «Жизнь Найта», в свое время развенчанной повествователем, помогают создать лишь иллюзию реального Найта. Мы оставляем все это с мыслью, как у Пиранделло: «Это все делается зеркалами», и с унылым чувством, которое так часто вызывает техническая виртуозность, не сопровождаемая соответствующим содержанием. Г-н Набоков совершил крайне даровитый, но крайне неудовлетворяющий подвиг — написал роман, в котором почти все трудности, которые писатель должен разрешать, были избегнуты. Его талант очевидно велик; он может объединиться с издателем в надежде, что тот издаст по-английски и другие его романы; но, сотрудничая с этим человеком, издатель наверняка почувствует себя обманутым и, следовательно, будет огорчен. Walter Allen // Spectator. 1946. № 6149 (May 3). P. 463–464 (перевод А. Спаль). НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ NIKOLAI GOGOL
«Николай Гоголь» — первая книга, написанная В. Набоковым в Америке. Годы Второй мировой войны были отмечены в США невиданным доселе всплеском интереса к России и русской культуре. «Русская» тема (пусть порой и с ядовито-красным советским окрасом) стала особенно популярной среди американских интеллектуалов. Почувствовав конъюнктуру, Джеймс Лафлин, глава издательства «Нью Дайрекшнз», выпустившего «Истинную жизнь Себастьяна Найта», при встрече с Набоковым в мае 1942 г. попросил его написать популярное учебное пособие для американских студентов о жизни и творчестве наименее известного в Америке русского классика — Н.В. Гоголя. Набоков, для которого Гоголь всегда был одним из самых любимых авторов, охотно согласился, тем более что прежде уже обращался к исследованию гоголевского творчества: осенью 1941 г., в Уэлслейском колледже, где он получил место преподавателя, им была прочитана лекция «Гоголь как западноевропейский писатель»[90], посвященная главным образом «Шинели». Еще раньше, в свою берлинскую эпоху, в 1927 г., на вечере молодых русских литераторов, группировавшихся вокруг Ю. Айхенвальда, Набоков прочел доклад «Гоголь», в котором, по его собственному выражению, «смаковал» лучшее гоголевское произведение — «Мертвые души»[91]. Набоков с энтузиазмом взялся за свой первый литературоведческий труд уже в конце мая[92], планируя закончить книгу к середине июля. Впервые за много лет у него были почти идеальные условия для работы: лето 1942 г. писатель вместе с семьей провел на вермонтской даче М.М. Карповича, главного редактора «Нового журнала» (некоторое время спустя это идиллическое место будет описано в романе «Пнин»). Однако в процессе написания книги Набоков, все более и более увлекаясь замыслом, столкнулся с непредвиденными трудностями. О некоторых из них он поведал в письме Джеймсу Лафлину от 16 июля 1942 г.: «Хотя я ежедневно уделяю „Гоголю“ от восьми до десяти часов напряженной работы, я вижу, что никак не смогу завершить книгу к осени. Мне понадобится, вероятно, месяца два, а то и больше, и затем по меньшей мере две недели для диктовки. Причина этой досадной отсрочки в том, что я сам вынужден переводить все цитаты: многое у Гоголя (письма, статьи и проч.) вообще не переведено, а остальное переведено до такой степени отвратительно, что я не могу это использовать. Я потратил почти целую неделю, переводя нужные фрагменты из „Ревизора“, поскольку не хочу иметь дело с сухим дерьмом Констанции Гарнет. У меня дурная привычка (хотя, скромно замечу, не такая уж дурная) выбирать наиболее трудный путь для моих литературных путешествий. Эта книга будет чем-то совершенно новым от начала до конца: насчет Гоголя я расхожусь во мнениях с основной массой русских критиков и не использую никаких источников, кроме текстов самого Гоголя.<…> Очень жаль, что я не могу опубликовать книгу на русском. Книжный рынок эмиграции не заслуживает беспокойства, а в России, как ты знаешь, мои сочинения запрещены»[93]. Прося у покладистого издателя отсрочки, Набоков не решился назвать истинную причину своих затруднений, о которой честно написал Уилсону: «Книга продвигается медленно главным образом потому, что я все больше и больше недоволен своим английским»[94]. Не уложившись в обещанный срок, Набоков шлет Лафлину очередное письмо (от 13 ноября 1942 г.), в котором опять извиняется за задержку: «Надеюсь, я смогу прислать тебе манускрипт к Рождеству. Книга почти готова. Имей я две недели для последнего рывка, и еще дней десять, чтобы продиктовать написанное моей жене (сам я не умею печатать), тогда я был бы уверен, что все будет готово вовремя. Я прочитал один из отрывков Уилсону, и его реакция была в высшей степени доброжелательной»[95]. Несмотря на все заверения, работа над книгой затянулась вплоть до мая 1943 г., когда манускрипт наконец был выслан ангельски терпеливому издателю. «Только что послал тебе по почте моего „Гоголя в Зазеркалье“, — пишет Набоков Лафлину 26 мая 1943 г. — Эта маленькая книга стоила мне гораздо больших усилий, чем любая из моих прежних вещей. Причина проста. Я должен был сначала создать Гоголя (перевести его), а затем уже обсуждать его (переводить на английский мои русские мысли о нем). Постоянные судорожные переключения с одного вида работы на другой совершенно измотали меня. На написание книги у меня ушел целый год. Я никогда не принял бы твоего предложения, знай я, сколько моей крови и моих мозгов поглотит этот труд; да и ты никогда не сделал бы мне этого предложения, если бы знал, сколько тебе придется ждать (думаю, твое терпение — качество настоящего художника). Вероятно, то тут, то там в книге могут встретиться погрешности. Хотел бы я увидеть англичанина, который мог бы написать книгу о Шекспире на русском языке. Я очень слаб и слабо улыбаюсь, лежа в своей частной родильной палате, и ожидаю роз»[96]. Они и не замедлили явиться, когда в августе 1944 г. «Николай Гоголь» (от прежнего названия Набокову пришлось отказаться) вышел из печати. Первым пышную критическую розу Набокову преподнес Эдмунд Уилсон <см.>, все еще продолжавший играть роль набоковского ангела-хранителя. В целом Уилсон был самого высокого мнения о книге, однако у его критической розы все же нашлось несколько колючих шипов: едва ли самолюбивого автора порадовали уилсоновские замечания относительно его «ужасных каламбуров» и «грамматической небрежности». Зато рецензия Марджери Фарбер была выдержана в розово-комплиментарных тонах и не была омрачена никакими серьезными замечаниями: «Владимир Набоков не только выдающийся двуязычный поэт и романист, владеющий английским языком столь же безупречно, как и родным русским, — он еще и верный гоголевский поклонник (как бы Набоков ни отпирался, в его новом романе „Истинная жизнь Себастьяна Найта“ слишком много доказательств этого). Он способен представить нам своего великого соотечественника так, как не может никто из англоязычных критиков, и таким способом, который доступен далеко не каждому автору, пишущему на родном языке. Его текстовой разбор „Мертвых душ“, „Ревизора“ и „Шинели“ изумительно точен, а прочувствованный анализ стиля никогда не отделяет язык от основного авторского замысла, что является ценным вкладом в золотой фонд литературной критики» (Farber M. Nikolai Gogol: The Man and His Nightmares // NYTBR. 1944. 5 November. P. 29). «Николай Гоголь» не остался незамеченным и в эмигрантской литературной среде, о чем свидетельствует вдумчивая рецензия Г. Федотова <см.>. Несмотря на свое уважение к автору книги, Федотов не побоялся оспорить его гиперэстетскую трактовку гоголевского творчества и пришел к вполне обоснованному выводу: «Попытка Набокова отрицать, наравне с реализмом, человечески нравственное содержание Гоголя обессмысливает и его искусство, и его судьбу». Но больше всего критических замечаний содержалось в колючей рецензии Филипа Рава, редактора леворадикального журнала «Патизэн ревью». Социально ангажированного критика явно не устраивала набоковская интерпретация гоголевского творчества: «„Николай Гоголь“ Владимира Набокова — исследование неадекватное великому писателю. Прекрасно разбираясь в гротескном начале творчества Гоголя и во всем том, что связывает его с поэзией иррационального, духом абсурда и мистификации, Набоков абсолютно слеп по отношению к социально-историческому и, особенно, национальному фону гоголевской тематики. Демонстрируя дурного сорта софизмы и еще более никудышную логику, он отбрасывает как раз те аспекты гоголевского творчества, которые вписывают его в русский контекст. В Набокове чувствуется что-то вроде панического страха перед всякого рода литературной терминологией, которая при использовании не принимает изящно-литературной формы, — страха, следствием которого является строго односторонний подход эстета-модерниста, воспринимающего литературный акт только в качестве феномена „языка, а не идей“. (Формула эффектная, но едва ли оригинальная — запоздалый отголосок теорий, выдвинутых русскими формалистами (Шкловский, Жирмунский и др.), теорий, давным-давно показавших свою несостоятельность.) Более того, утверждая, что „гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, их воображаемая среда и социальные условия не имеют никакого значения“, Набоков доходит в своем формализме до полного абсурда. Столь же горяч он и в отрицании того, что Гоголь может быть каким-либо образом охарактеризован как реалист. Разумеется, Гоголь не задавался целью описывать свое социальное окружение, однако суть заключается в том, что его субъективный метод гиперболизации, карикатуры и фарса привел к созданию образов ленивых, омерзительно самодовольных ничтожеств, достаточно полно выражающих подлинную сущность феодально-бюрократической России» (Rahv F. Strictly One-Sided // Nation. 1944 Vol. 159. № 22 (November 25). P. 658). Выплеснув эти упреки, а также посетовав на то, что Набоков не обратил совершенно никакого внимания на народность гоголевского творчества, придирчивый критик в конце концов смягчился и в завершение своей рецензии милостиво решил, что «это неадекватное исследование может быть рекомендовано читателю, поскольку здесь тщательным образом изучается стилистическое великолепие Гоголя и его формальные приемы» (Ibid). Несмотря на сравнительную немногочисленность откликов (впрочем, едва ли сам Набоков ожидал, что его книга станет бестселлером и вызовет шквал восторженных отзывов), «Николай Гоголь» значительно укрепил позиции Набокова и способствовал его признанию — не только среди американской литературной элиты, но и в академических кругах (что косвенным образом содействовало его успешной преподавательской карьере). Много лет спустя, в «Заметках переводчика» (1957), Набоков с небрежным кокетством отозвался о своей первой литературоведческой работе как о «довольно поверхностной <…> книжке, о которой так справедливо выразился в классе старый приятель мой, профессор П.: „Ит из э фанни бук — перхапс э литтел ту фанни“. Писал я ее, помнится, в горах Юты, в лыжной гостинице на высоте девяти тысячи футов, где единственными моими пособиями были толстый, распадающийся том сочинений Гоголя да монтаж Вересаева, да сугубо гоголевский бывший мэр соседней вымершей рудокопной деревни, да месиво пестрых сведений, набранных мной Бог весть откуда во дни моей всеядной юности»[97]. Эдмунд Уилсон{84} Рец.: Nicolai Gogol. Norfolk, Conn.: New Directions, 1944 Если вы читали книгу Вогюэ{85} «Русский роман», то знаете, что Николай Гоголь был зачинателем русского реализма; если читали о нем эссе Мериме, то можете сказать, что он был первейшим из сатириков, который если бы писал на более распространенном в мире языке, то «приобрел бы репутацию, приравнивающую его к лучшим английским юмористам»; и эти два мнения остаются главными элементами нашего западного понимания Гоголя, особенно если мы его не читали. Когда же мы прочитаем его, то, вероятно, придем в замешательство, ибо увидим, как далеко ушли от того, что обычно считается русским реализмом, ярким образцом которого являются произведения Толстого. Герои Гоголя — это социальные типы, но они также мифические монстры; им соответствует пошло-плебейский фон, что явилось совершенно новым в русской литературе того времени, но низменные детали эффектно подчеркнуты, делая совершенно невозможной любую иллюзию, будто мы наблюдаем жизнь обыкновенных людей. Герои и среда, в которой они действуют, посредством удивительного гомерического разрастания, беспрерывно порождающего гигантские сравнения, вовлекающего в себя героев и сцены их жизни, — все это придает вещи в целом странное иное измерение. И, смеясь над «Ревизором», мы можем вдруг обнаружить, что выдумки Гоголя внушают нам не веселье, а ужас, нечто скорее трагичное, чем сатирическое. Там же мы найдем большие, пронизанные лиризмом фрагменты прозы, которые, вероятно, превосходят все написанное в этом роде в девятнадцатом столетии. Поэтому правда в том, что Гоголь, назвавший свои «Мертвые души» поэмой, прежде всего поэт, и это помещает его несколько обособленно от других известнейших русских писателей, хотя у него и есть нечто общее с Достоевским. Герои Гоголя, его гротесковые детали — это символы душевных состояний; его намерения и настроения сложны. Творя во времена Мелвилла и По, он много ближе к ним, нежели к позднейшим реалистам. Да, он писал гораздо более масштабно, чем По, и как художник реализовал себя полнее Мелвилла, но петербургские мелкие чиновники рассказов Гоголя неизъяснимым образом принадлежат тому же миру, что и отвратительные вирджинские джентльмены По, а роман «Мертвые души» — вопреки явным различиям сюжетов — больше всего напоминает «Моби Дика», в котором погоня Ахава за белым китом не более чем обычная рыболовецкая экспедиция, как и путешествие по России Чичикова, скупающего списки мертвых крепостных, просто путешествие мошенника. И этот замечательный акцент Владимир Набоков поставил в своей новой книге «Николай Гоголь», ставшей одной из лучших в занимательной серии «Творцы новой литературы», выпускаемой издательством «Нью Дайрекшнз». Будучи сам поэтом сложной образности и романистом не реалистического толка, Набоков написал такого рода книгу, какую только и мог написать один художник о другом, и его эссе заняло свое законное место в весьма негустом ряду первоклассных исследований русской литературы на английском языке. Набоковского «Гоголя» должны теперь прочитать все, кто имеет хоть сколько-нибудь серьезный интерес к русской культуре. Автор не просто по-новому осветил традиционный портрет Гоголя, выявив его реальный гений так, как никто из других англоязычных авторов не сумел, он еще передал читателю весьма точное ощущение гоголевского стиля — ту особенность его мастерства, которую не способно было передать большинство английских переводов. Гоголь придавал особое значение языку и в этом в какой-то степени был сродни Джойсу. Все главные герои «Мертвых душ» по сути своей собиратели, да и сам Гоголь — собиратель слов. Он любил жаргоны определенных профессий и определенных социальных групп; любил использовать неожиданные глаголы; изобретал собственные слова; и он тщательно обрабатывал и правил некоторые фрагменты, доводя их до степени такой же спутанности и насыщенности скрытыми значениями, какой обладают садовые дебри имения выжившего из ума помещика Плюшкина или, подчиняя их ритму и сдерживаемым до поры силам, подобным тем, что обратили в бегство Чичикова, отъехавшего в своей коляске, которая понесла его по окрестностям провинциального городка и вынесла наконец в степь, где «вороны как мухи и горизонт без конца» и где кульминация являет образ России, летящей сквозь мир как тройка, пока другие народы смотрят на нее в изумлении. Г-н Набоков описал нечто, показывающее устройство этого стиля, и перевел на английский несколько известных отрывков, пытаясь передать их как можно более точно, дабы читатель получил некоторое представление о том, почему россияне с восторгом подчас читают подобные отрывки наизусть. (Кстати, г-н Набоков в своей работе отмечает, что наконец появился хороший перевод «Мертвых душ», тот, что исполнен Б.Д. Герни и издан «Читательским Клубом».) Главный же недостаток книги г-на Набокова обусловлен тем, что он в основном беллетрист, а Гоголь, будучи реальным человеком, не предоставлял свою личность в распоряжение биографа, пусть и достигшего совершенства в методе внезапных озарений и странных нагромождений мимолетных впечатлений, но позволяющего себе проделывать это по отношению к реальному лицу с той же легкостью, с какой он проделал бы это с выдуманным им героем. Созидая своего Гоголя, с изрядной долей пылкости пытаясь применить к нему свои особые методы портретирования, Набоков значительно вышел за рамки жизни и творчества Гоголя, а некоторые аспекты, которые он брался трактовать, и вообще кажутся подчас избранными по какому-то капризу. К тому же в его работе есть определенная, нередко вызывающая раздражение демонстрация поз, извращенностей и суетностей, которые выглядят так, будто он вынес их из Санкт-Петербурга далекого девятнадцатого столетия, из того дореволюционного времени, которое он набожно хранил в своей памяти в изгнании, и вместе с тем нечто вроде ворчания и рычания на первопричину всего того, что связано с русской революцией, так что похоже, что здесь с грязной водой выплескивается и ребенок, будучи виновным в своего рода остроумии, к которому Набоков привержен и которое также не вдет на пользу его книге. Его каламбуры бывают просто ужасны. Когда он пишет по-английски, то не ощущает подчас, как неприятно раздражают англоговорящих читателей фразы типа «the government specter» («государственный призрак») или «Gogol's spas were not really spatial» — «Гоголевские минеральные воды нигде реально не существовали». Но, за исключением этого, его владение английским в общем изумительно и блестяще, как знают все, читавшие в этом журнале его стихи. Жаль, что некоторые его грамматические небрежности и своевольные идиоматические обороты не были выправлены в «Нью Дайрекшнз». Г-н Джеймс Лафлин, издающий столь значительные книги, мог бы пополнить свой штат людьми, способными считывать и бережно редактировать рукописи. Г-н Набоков не только допустил множество синтаксических ошибок, но и фамилию Жуковского приводит в трех разных написаниях, а имя Isabel Hapgood{86} постоянно пишет как Isabel Hepgood. Edmund Wilson // New Yorker. 1944. Vol. 20. September 9. P. 72–72 (перевод А. Спаль). Георгий Федотов{87} Рец.: Nicolai Gogol. Norfolk, Conn.: New Directions, 1944 Новая книга о Гоголе, написанная изумительным английским языком, полная блеска, остроумия, тонких догадок и интуиций, — начинается главой о его смерти; последний абзац пятой, в сущности последней, главы — словами: «Гоголь родился 1 апреля 1809 года». Это не значит, что книга написана сзади наперед, против течения времени, по недавно создавшейся моде. Это значит только, что автор не думал писать ни биографии, ни популярного очерка гоголевского творчества. Да, по правде сказать, было бы жаль, если бы набоковское (сиринское) перо тупилось на такой работе: говоря известным сравнением, для чего приколачивать гвозди золотыми часами? Предоставим американским критикам защищать американского читателя. Книга Набокова, несмотря на все дополнительные «комментарии», «хронологии» и «индексы», написана для читателя (если вообще для читателя), хорошо знакомого с Гоголем и способного увлечься трудными проблемами гоголевского творчества. То, что имеем здесь и за что должны быть благодарны автору, это, прежде всего, заметки на полях трех величайших созданий Гоголя: «Ревизора», «Мертвых душ» и «Шинели». Заметки, посвященные анализу творческого воображения Гоголя и его стиля. Ценность их определяется конгениальностью обоих художников. Один из самых больших, если не самый большой, русский писатель наших дней, и притом искушенный в рефлексии на проблемы искусства, пишет о самом великом мастере русского слова; в Гоголе главная связь самого Сирина с русской литературной традицией. Заметки Набокова освещают целый ряд проблем поэтики Гоголя: например, стремление случайных образов к разрастанию и воплощению в живых лицах; гоголевские имена, символика «Носа» и многие другие. Чего стоит одно открытие лирического смысла окрика ямщика «Эй вы, залетные!» в «Ревизоре». И при всем том основное в поэтике Гоголя остается по-прежнему нераскрытым и загадочным. Со времени символистов доказывать, что Гоголь не был реалистом, что он творил воображаемые миры, — значит ломиться в открытые двери. Набоков не хочет отказать себе в удовольствии лишний раз поиздеваться над читателем-тупицей, который этого не понимает. Но такой читатель ничего не поймет и в книге Набокова. Однако, столь же резко отказываясь говорить о «юморе» или «комическом» у Гоголя, он не замещает образовавшейся пустоты никакой новой концепцией. И Гоголь, и Набоков — творцы воображаемых миров. Однако эти миры совершенно различны. Каковы законы, управляющие мирами Гоголя? Комическое, как и трагическое, несомненно, входят в их состав. Всякий смеется, читая Гоголя; и Гоголь-художник рассчитывает на этот смех. Но есть множество родов комического, как и трагического, и мы ждем, чтобы кто-нибудь дал точное описание трагикомического у Гоголя. Трагикомическое искусство есть прежде всего человечески окрашенное искусство. Евклидова природа и неевклидова геометрия равно чужды комедии и трагедии. Попытка Набокова отрицать, наравне с реализмом, человечески-нравственное содержание Гоголя обессмысливает и его искусство, и его судьбу. Различие между Гоголем и Сириным существует; более того, это различие огромно, и, может быть, анализ его даст лучший ключ к пониманию Гоголя. Верить Гоголю в его наивно-моралистической интерпретации своего искусства невозможно. Набоков убедительно доказывает — не он первый — недостоверность и даже лживость Гоголя. Но, сводя личную драму и гибель Гоголя к «иссяканию творческих сил», Набоков отказывается от ее объяснения. Это иссякание становится чем-то внешним, как физическая болезнь. Но мы ясно чувствуем, что иссякание было следствием какой-то основной порочности творческой личности. Искусство несводимо на нравственность, как пытались у нас сводить его Гоголь и Толстой. Но искусство — почти всегда — вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь. Засыхание личности неизбежно должно привести и к гибели искусства. Ключ к Гоголю-художнику, в последнем счете, дается его религиозной драмой. Замечательно, что, когда Набоков подходит к интерпретации «Мертвых душ», он не может избавиться от внеэстетических, а именно религиозных, категорий. Для него — а не для Гоголя только — Чичиков есть выходец из ада, воплощение злого духа. Автор повторяет это чуть ли не на каждой странице. Не знаю, верит ли Набоков в черта, как верил Гоголь, но не означает ли это, что вне религиозных, хотя бы отрицательных, категорий мы не можем дать адекватного описания гоголевского искусства. Новый журнал. 1944. № 9. С. 368–370 ПОД ЗНАКОМ НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ BEND SINISTER
Свой второй англоязычный роман Набоков начал писать в декабре 1941 г. Работа над первыми главами продвигалась, как и прежде, в Европе, стремительно, и писатель уже поспешил заверить Джеймса Лафлина, что роман будет готов в течение трех-четырех месяцев[98]. Но прошло полгода, год, а «Человек из Порлока» (так поначалу назывался набоковский роман) все еще не был завершен. Не удовлетворенный написанным, Набоков на некоторое время отложил работу. По-видимому, именно к «американскому» периоду середины сороковых годов применимо выражение «внутренний творческий кризис». Как заметил современный исследователь набоковского творчества: «Шок от перехода в новое социально-культурное и психологическое пространство был слишком силен, и писатель на достаточно длительное время как бы утратил дар творческой речи»[99]. Положим, «дар творческой речи» Набоков все же не утратил, ведь именно в этот, далеко не самый простой для него, период им были написаны его лучшие англоязычные рассказы: «Помощник режиссера» («The Assistant Producer», впервые: Atlantic Monthly. 1943. May), «Что как-то раз в Алеппо» («That in Aleppo Once», впервые: Atlantic Monthly. 1943. November) и «Забытый поэт» («Forgotten Poet», впервые: Atlantic Monthly. 1944. October). Однако что правда, то правда с новым романом дела у Набокова явно не заладились. После значительного перерыва (заполненного в основном энтомологическими изысканиями и преподавательской деятельностью) Набоков вновь берется за роман, на этот раз получивший рабочее название «Solus Rex». Согласно набоковскому предисловию к третьему изданию романа, большая часть книги была написана зимой и весной 1945–1946 гг. В июне 1946 г. писатель закончил отделку романа и чуть позже, когда тот уже был в печати, подыскал ему новое заглавие: «Под знаком незаконнорожденных». Первое американское издание романа, появившееся на свет в июне 1947 г., вызвало столь же вялую реакцию читателей и критиков, что и «Истинная жизнь Себастьяна Найта», хотя урожай положительных рецензий был все-таки побогаче, чем прежде. К числу наиболее благоприятных отзывов смело можно отнести рецензию Хэла Борлэнда «Стратегия террора», где «сильный и волнующий роман о положении цивилизованного человека в деспотическом государстве» был удостоен самых высоких похвал. «Плохо будет, если эта книга не найдет своего читателя на том основании, что, мол, битва с деспотическими государствами уже окончена. Война продолжается, и сама проблема — борьба свободной мысли против тоталитарной власти — все еще актуальна для нас. Никто из прочитавших „Под знаком незаконнорожденных“ не сможет от этого отмахнуться», — на этой патетической ноте завершалась рецензия Борлэнда (Borland H. Strategy of Terror // NYTBR. 1947. June 15. P. 10). Вряд ли она понравилась расхваливаемому автору. Недаром же в своем предисловии 1963 г. он с таким отчаянным остервенением открещивался от тех трактовок, в которых его роман представал как антиутопия и сатира на советско-германский тоталитаризм: «Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания. <…> Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства <…> признаки „оттепели“ в Советской России, Будущее Человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным. Как и в случае моего „Приглашения на казнь“, с которым эта книга имеет очевидное сходство, — автоматическое сравнение „Под знаком незаконнорожденных“ с твореньями Кафки или штамповками Оруэлла докажут лишь, что автомат не годится для чтения ни великого немецкого, ни посредственного английского автора. <…> Влияние эпохи на эту книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние моих книг или, по крайней мере, этой моей книги на эпоху. <…> На самом деле рассказ в „Под знаком незаконнорожденных“ ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. Мои персонажи не „типы“, не носители той или иной „идеи“. Падук, ничтожный диктатор и прежний одноклассник Круга <…> агент правительства д-р Александер <…> ледяной Кристалсен и невезучий Колоколитейщиков, три сестры Баховен, фарсовый полицейский Мак, жестокие и придурковатые солдаты — все они суть лишь нелепые миражи, иллюзии, гнетущие Круга, пока он недолго находится под чарами бытия, и безвредно расточающиеся, когда я снимаю заклятье. Главной темой „Под знаком незаконнорожденных“ является, стало быть, биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающая его…»[100] — и т. д. и т. п. — вполне жульнические заявления, с помощью которых писатель (к моменту написания предисловия — всемирно известный автор «Лолиты») пытался нейтрализовать откровенную идеологическую начинку своего романа. Позднее многие западные исследователи с готовностью пошли на поводу у автора, однако первые американские рецензенты, по простоте душевной (как-никак книга на сей раз вышла в самый подходящий момент — в разгар «холодной войны» и набиравшей силу антисоветской кампании), увидели и оценили в романе прежде всего «горестно-иронические выпады против узости и тупости тоталитарной мысли и действия» (Ричард Уаттс мл., <см.>). Впрочем, иные критики, не обратив особого внимания на антитоталитарный пафос произведения, обрушились на Набокова с язвительной критикой. Особенно отличилась здесь писательница Диана Триллинг. Найдя чрезвычайно скучным набоковское произведение, «чей путь был приуготовлен предыдущим романом г-на Набокова „Истинная жизнь Себастьяна Найта“, получившим восторженное признание в определенных критических кругах», Триллинг ехидно замечала: «Полагаю, что тщательно разработанный прозаический метод г-на Набокова убедил его издателей, будто и „Под знаком незаконнорожденных“ столь же выдающееся литературное произведение; смею высказать мысль, что значительная часть публики с ними согласится. Имеется в виду публика, утомленная скучной прозой и приемами современного натурализма и поэтому готовая приветствовать любую перемену как перемену к лучшему. Но то, что в стиле г-на Набокова кажется столь высоко ценимой чувствительностью, в сущности, всего лишь надуманность, вычурная образность и глухота к музыке английского языка, а то, что выглядит новаторством стиля, — просто разновидность уже вполне сложившегося у этого автора метода бесплодной условности» (Trilling D. // Nation. 1947. Vol.164. June 14. P. 722). Не понравился роман и Эдмунду Уилсону. Со свойственной ему прямотой он написал об этом Набокову сразу по прочтении рукописи: «Тебе не удаются вещи, касающиеся вопросов политики и социальных процессов, ибо ты никогда не интересовался этими предметами и не давал себе труда вникнуть в них. В твоем понимании диктатор вроде Падука — это просто вульгарная и одиозная фигура, которая до смерти запугивает серьезных, высокоинтеллектуальных людей наподобие Круга. У тебя нет ни малейшего представления, почему и как Падуку удалось захватить власть, или что представляет собой совершенная им революция. Именно это делает изображение событий столь неудовлетворительным. И не говори мне, что подлинный художник не имеет ничего общего с политикой. Художник может не принимать политику всерьез, но, если уж он обращается к таким вопросам, ему следует знать, о чем идет речь. Трудно представить себе человека более созерцательного, или хладнокровного, или более поглощенного проблемами чистого искусства, чем Уолтер Пейтер, чей роман „Гастон де Лякур“ я как раз читаю; но я утверждаю, что он куда глубже проник в суть борьбы между протестантами и католиками, которая развернулась в XVI веке, чем ты — в конфликты XX века. Не думаю, что твоя вымышленная страна сослужила тебе добрую службу. Твоя сила — это, большой степени сила точной наблюдательности… а получилось нечто ирреальное, что особенно заметно при неизбежном сравнении написанного с жуткой современной действительностью. На фоне подлинной нацистской Германии и подлинной сталинской России злоключения твоего несчастного профессора отдают бурлеском… В конце концов получилась лишь сатира на события столь ужасающие, что они не поддаются сатирическому обличению — ибо для того, чтобы сделать нечто предметом подобного обличения, следует представить сущее еще более ужасным, чем оно есть на самом деле»[101]. К чести Уилсона, несмотря на свое разочарование, он рекомендовал «Под знаком незаконнорожденных» Алану Тейту, одному из руководителей издательства «Генри Холт», которое в конце концов и выпустило в свет первый «американский» роман Набокова. Характерно, что и другая поклонница Набокова, Нина Берберова, также не слишком высоко оценила это произведение, усмотрев в нем «реминисценции „Приглашения на казнь“, несколько обедненные». В эссе «Набоков и его „Лолита“» она высказала мнение о том, что первые англоязычные романы «были остановкой на пути» творческого развития писателя — «если и не неудачами, то во всяком случае — торможением того движения, которое было свойственно Набокову с самого начала писательского пути. Обаятельные мелочи не смогли скрасить некоторой напряженности тона и слабости сюжетной линии <…> не чувствовалось эволюции творческих приемов и той точности и совершенства словесной ткани, которая была в прежних книгах» (Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // НЖ. 1959. № 57. С. 95). В 1960 г., на волне сенсационного успеха «Лолиты», «Под знаком незаконнорожденных» были переизданы лондонским издательством «Уэйденфельд и Николсон», что не могло не вызвать второй — куда более внушительной — волны критических откликов. Правда, ситуация уже несколько изменилась: рецензировался уже не безвестный писатель-эмигрант, а прославленный на весь мир создатель скандального бестселлера. Это не могло не отразиться на позиции критиков, которым приходилось считаться с высоким статусом автора «Под знаком незаконнорожденных». Однако английские критики — это английские критики: уснастив свои опусы комплиментами автору «Лолиты», они тем не менее выпустили тучу критических стрел по автору «Под знаком незаконнорожденных». Тринидадско-английский беллетрист В.С. Нейпол <см.> посчитал роман слишком рассудочным, а авторский стиль — чересчур громоздким и вычурным. Джон Колмэн, рецензент из старейшего британского журнала «Спектейтор» нашел, что постоянные авторские вторжения в повествование и прочие «остраняющие» эффекты не идут на пользу ни автору, ни читателю, поскольку последний лишается возможности эмоционального вовлечения в художественный мир произведения. По мнению критика, «темные аллюзии», слова-портмоне, соединяющие в себе русские и германские корни, бесчисленные каламбуры и прочие языковые забавы автора сообщают всему произведению «привкус бесстыдного презрения по отношению к читателю». Правда, напоследок Колмэн решил подсластить пилюлю и закончил рецензию на оптимистической ноте, заявив, что утомительный маньеризм автора все же не смог заглушить важной темы: «Сквозь вычурное покрывало проступает грубый костяк деспотизма» (Coleman J. Style and the Man // Spectator. 1960. № 6874 (March 25). P. 444). Такой же кисло-сладкой получилась рецензия и у Малкольма Брэдбери: «Роман „Под знаком незаконнорожденных“ — это, фактически, комедия о тоталитаризме; уродливые события просматриваются сквозь завесу фарса. Адам Круг, выдающийся философ, живя в маленьком государстве, пытается отстраниться от проблемы coup d'etat[102], который привел партию эквилистов к власти. Здесь сатира обращается на Запад, к Америке, ибо эквилисты покончили, кажется, с противостоянием интеллекта и превосходства личности — однако они парадоксально нуждаются в том, чтобы великий ум славословил их новый режим. Фабула передана с риторическим шиком, что подчас оскорбительно; Набоков играет в своем сочинении, выделывает трюки, становится на голову. Но сюжет не может развиваться только благодаря тем остротам, которые писатель выдумывает в своем кабинете. Тем не менее напряжение между стилем и фабулой многозначительно; это мораль фабулы, говорящая на аморальном языке»[103] (Bradbury M. // Punch. 1960. April 20. Р. 562). Более жесткую и непримиримую позицию по отношению к набоковскому роману занял обозреватель манчестерской газеты «Гардиан» У.Л. Уэбб: «Простой сюжет этой ужасной истории сработан вполне искусно, с той самой нервной и экстравагантной клоунадой, что в „Лолите“ подчас выходила из повиновения, да и здесь ведет себя так же, только чаще <…> В целом тон и замысел книги кажутся не совсем точно просчитанными. Набоков пытался выработать особый род эмигрантского юмора — прибежище истеричной и самоедской комедии, отчаянная месть политического бессилия, — но результат с художественной точки зрения получился неприглядным, дисгармоничным, чего не было в „Лолите“» (Webb W. L. Shot in glorious Nabokolor // Guardian. 1960. March 18. P. 9). Словно перенимая эстафету у Константина Зайцева, английский критик уличал Набокова в жестокости и даже садизме, поскольку именно «созерцание садизма и жестокости» вдохновляет Набокова и «способствует созданию блаженных эстетических состояний». Словно острый осиновый кол, предназначенный для распоясавшегося вурдалака, рецензию венчал убийственно назидательный вывод. По мнению критика, нездоровое пристрастие к жестокости «явственно отражается и в стиле Набокова, даже если он касается других тем <…> По причинам вкуса, моральных соображений или чего бы то ни было еще, многие читатели могут оказаться неспособными разделить с автором подобные радости <…> Жестокость, порочность и неотступный эксгибиционизм стиля — в той же мере антиискусство, в какой и те увлечения, которые его питают — антижизнь» (Ibid.). Менее эмоциональный, зато более вдумчивый и аргументированный отзыв дал Фрэнк Кермоуд <см.>. Не питая особых иллюзий насчет тех чувств, которые Набоков испытывает по отношению к своим читателям, Кермоуд попытался рассмотреть «Под знаком незаконнорожденных» не в качестве антиутопии или сатирического памфлета против тоталитарных режимов, а просто как «произведение искусства», продолжающее традиции Стерна и Джойса. Суммируя все вышеизложенные точки зрения, следует признать: в корпусе англоязычных романов В. Набокова «Под знаком незаконнорожденных» занял далеко не самое видное место; ни его последующие переиздания, ни запальчивое авторское предисловие, объясняющее недогадливым читателям, как надо и как не надо воспринимать роман, ни дотошные исследования специалистов-набоковедов не смогли изменить сложившегося положения вещей (и в этом, вероятно, виноваты не одни читатели). Ричард Уаттс, мл.{88} Комиксовый диктатор Рассказ о свободном человеке в тоталитарном государстве — все еще классическая трагедия нашего века, а в романе «Под знаком незаконнорожденных» дана поразительно оригинальная ее трактовка, одновременно и трогательная, и сильная, и странно раздражающая. Этот роман — второй из написанных по-английски Владимиром Набоковым, американским гражданином русского происхождения — сардоническая история об интеллектуале, презирающем тирана своей нации, отличается мрачной, кошмарной добротностью и склонностью к беспощадному юмору. Сочетание этих качеств делает вещь гораздо более значительной, чем перегретый труд Артура Кёстлера{89}, подчас казавшийся вещью на грани приличия. Роман «Под знаком незаконнорожденных» написан с той беглостью речи, которая обычно изобличает относительно неполное знакомство автора с языком, но главный промах Набокова в том, что очевидная зачарованность собственными лингвистическими достижениями иногда заставляет его слишком увлекаться словесными причудами. В качестве драматической фантазии о тоталитаризме роман «Под знаком незаконнорожденных» прост и в то же время тщательно разработан. Простота — в самой трагической истории (одно из слагаемых успеха романа в том, что Набоков, создав профессора Круга, вывел умного героя, чей интеллектуальный уровень совершенно не вызывает сомнений), истории философа с мировым именем, который твердо убежден, что его известность в сочетании с моральной стойкостью смогут защитить его от грубого надругательства полицейского государства. Это искусно исполнено и выдержано в том стиле и той манере, с помощью которых Набоков сконструировал абстрактную тоталитарную страну, в смысле языка похожую и на Россию, и на Германию, но в смысле истории, теории и практики скорее национал-социалистическую, нежели коммунистическую. <…> Набоков превосходен в своих горестно-иронических выпадах против узости и тупости тоталитарной мысли и действия, в этих залпах сатирического презрения. Самые его страшные сцены, с их инфернально искаженными огнями и тенями, производят сильное впечатление, а его повествование о медленном, неумолимом давлении, которое оказывается на Круга, поражая ужасами полицейской страны, исполнено в той манере письма, которую не просто забыть. После того, как друзей героя волокут в тюрьму, будто предвещая худшие беды, когда сын философа взят от него, пытаем и затем по ошибке убит, причем именно в тот момент, когда Круг уже готов сдаться, атмосфера сожаления и ужаса достигает в романе потрясающей силы убедительности. И именно потому, что Набоков способен создавать столь зловещие и комические эффекты, какие мы видим в романе «Под знаком незаконнорожденных», эта его проказливая приверженность к искусственности языка кажется такой возмутительной. Richard Watts, Jr. Comic-strip Dictator // New Republic. 1947. Vol. 117. July 7. P. 26–27 (перевод А. Спаль). Натан Л. Ротман Марионетка под гнетом тирана Г-н Набоков — писатель огромной технической мощи, и едва ли нужно доказывать, что действительная фабула романа далеко не самое в нем главное. В этом легко убедиться. Набоков в совершенстве владеет всеми видами виртуозности, которые были разработаны в нашем столетии. Естественно, он многим обязан Джойсу; это становится очевидным в отступлениях и отдельных (одномоментных) погружениях в глубины сознания, в певучих фразах, в непрерывных литературных аллюзиях (которые вполне уместны здесь, где главный герой — Адам Круг, университетский профессор). И есть, конечно, в романе решительный финальный аккорд — сознательная, я бы сказал, дань мастеру, — когда Набоков прерывает свое холодное, безучастное повествование долгим и странным диалогом на тему Шекспира и «Гамлета», как это делал Джойс в «Улиссе».{90} Естественно, я не имею в виду подражание. Здесь продолжение идей первоисточника. Набоков — художник, имеющий на это право, ибо всецело и непринужденно ориентируется в мирах сознания и подсознания, высвечивая их демонстрацией такого литературного фейерверка, которым не может не наслаждаться всякий образованный человек. Он неровня Джойсу, да и не нуждается в подобной характеристике, но можно ли твердо сказать, что автор «Улисса» также не скрывал за своими фейерверками и в своих лабиринтах глубоко страдающую душу? У меня дух захватывало, когда я читал книгу Набокова, особенно в ожидании обещанной программы: роман о человеке под гнетом тоталитарного государства. Круг — стойкий анархист, ведет себя в отеческом государстве независимо и заносчиво. Он беспечен, презрителен, безрассудно храбр. Он знает диктатора Падука с тех пор, как они были одноклассниками, и относится к нему как к омерзительной гадине, которой тот был и раньше. Размышления Круга, его сложная и весьма экспрессивная умственная жизнь всего лишь комментарий к Падуку и его фашистскому режиму (в этой безымянной стране, со своим уникальным языком, созданным Набоковым для такого случая). Вот и вся книга: Круг против государства. Эту драму мы знаем слишком хорошо. И, когда читаем о ней, она кажется чем-то засушенным, бесплотным — далеким гулом воспоминания, отдающимся в нас эхом презрения. Или, предлагаю другую аналогию, все это кажется образом, отступившим слишком глубоко внутрь, слишком, если уж быть точным, отдаленным. Вещь, имеющая измерение фантазии, видна сквозь уменьшающий конец подзорной трубы. Реален сам Круг, наблюдатель, а не Падук, не его фавориты, не его преступления и жертвы, даже не целая панорама его дьявольского государства. Иное дело — тяжелые утраты Круга, его опасения, его слезы. Здесь присутствует тень страха и отзвук громкого протеста — но все это существует в бездонной памяти очевидца Круга, освобожденной от телесной оболочки. А когда сам Набоков в конце умышленно вмешивается в сюжет и, подобно кукловоду, дернув за веревочки, удаляет Круга, то ощущение утраты иллюзий здесь полное. Блестяще, блестяще, но в конце концов это не было реальностью, он не причинил нам боли, нам нет нужды тревожиться, есть ведомая марионетка, и есть сам мастер, огромный как жизнь, смеющийся над нами. Nathan L. Rothman. Puppet Under Tyrant // Saturday Review. 1947. Vol. 30. August 2. P. 33. (перевод А. Спаль). В.С. Нейпол{91} Рец.: Bend Sinister. London: Weidenfeld & Nicolson, 1960 «Под знаком незаконнорожденных» — второй роман Владимира Набокова, написанный им по-английски, — был издан в Америке в 1947 г. И хотя ясно, что сочинение обладает недюжинными качествами, легко понять, почему оно так долго ожидало издания в этой стране. Оно причудливо, сложно и подчас ставит в тупик… Его нельзя отнести к произведениям реалистическим, сатирическим или пророческим; это не «Слепящая тьма», не «Скотный двор» и не «1984». Это и не политический роман. Создается впечатление, что полицейское государство с его противоестественным механизмом задействовано лишь как декорация для современного повествования, исполненного тайны и вымысла. Но и в качестве фантастики оно не кажется мне успешным. Слишком уж многое тут озадачивает. В чем ценность удивительной, но чересчур затянутой интерпретации «Гамлета»? Что это за «я», которое снует время от времени между читателем и романом? Сам ли это г-н Набоков, или его безумный Круг выламывается из третьего лица в первое, как нередко происходит в рассказах, написанных детьми? Мастерство, с которым г-н Набоков создает свои фантастические эффекты, просто восхитительно: окольный повествовательный метод сочетается с минутным исследованием маленьких сцен, точная деталь следует за точной деталью, опять и опять растворяя реальность в кошмаре. Но это произведение слишком рассудочно, чтобы вызвать немедленный отклик. Слишком многое здесь приходится расшифровывать, слишком много путаницы. Стиль г-на Набокова излишне, пожалуй, хорош для романа. Его словарный запас требует к себе чересчур много внимания, а его ботанические термины то и дело отсылают простодушного буквоеда к словарям. Он не способен к легкости; его фразы перегружены, и сама точность, с помощью которой он добивается своих эффектов, в конечном итоге утомительна. Временами он высокопарен, как популярный спортивный комментатор: луна у него «кремнистый спутник наш», газетные вырезки — «туземные околичности», а использовать промокашку — значит «приложить пиявку». Роман «Под знаком незаконнорожденных» непрост для чтения и недостаточно вознаграждает за труды. При всем его блеске это не более чем экзерсис. K. S. Naipaul // New Statesman. 1960. Vol 59. March 26.P. 461–462 (перевод А. Спаль). Фрэнк Кермоуд{92} Эстетическое наслаждение Г-н Набоков значительный романист, доказательства тому существуют, но стали очевидными далеко не сразу, а лишь по выходе в Британии его прежних романов. Вероятно, он не будет всеобщим любимцем; личность, контролирующая нас своей работой, не очень-то приятна. Мы не особенно рвемся быть объектами авторского презрения, а это, попросту говоря, кажется именно тем чувством, которое Набоков к нам испытывает. Не совсем обычно для человека воистину подавляющего интеллекта писать романы; и особенно если он к тому же человек нетерпеливый, ибо на этом пути ему, вероятно, приходится сталкиваться с весьма острыми проблемами. Сам материал может раздражить его своими ассоциациями с низменными развлечениями, да еще это вечное подстрекательство читателей к «отождествлению» с персонажами. Читатель — это вообще большая проблема. Размышления и удовольствие, которым они сопровождаются, недолго длятся в счастливом уединении, а отдаются в распоряжение других, немногие из которых способны понять и разделить их с автором. Роман ведет себя вызывающе по отношению к автору. Автор же полагает своего читателя существом морально глухим, подобно домохозяйке в пьесе г-на Пинтера, которая настолько уверена, что все будет хорошо, что едва ли замечает попытку задушить ее. В своем послесловии к «Лолите» Набоков подбрасывает нам эстетику: «…Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма. Все остальное — это либо журналистическая дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну». Это выражено небрежно, ничего особенного здесь нет, но мы отметим такие фразы, как «доставляет мне» и «формы бытия», предполагающие, что другие люди способны разделить это наслаждение. (Кстати, странное обозначение «любознательности» как толкования «искусства» помогает попутно объяснить страстное влечение Набокова к цветистым выражениям, свойственным заумной учености.) Список гипсовых писателей — в который мы можем добавить Конрада — более интересен. Роман слишком уж покладист. Он может быть набит фактами, фотографиями, содержать в себе доктрины или памфлеты; он может быть старательно отлит в форму некоей неотступной моралистической мысли, но Набоков находит все это презренным и препятствующим эстетическому наслаждению. Вот почему его сочинения сплошь причудливо-фантастичны; и все в них — род шутки. Он использует благодатную почву прозы, его невероятные извивы и цветения сами по себе — пародии на преобладающие повествовательные стили; когда все это живо движется, то имеет эффект фарса, а когда утончено, то пародирует самое себя. Моральные donnees[104] его романов абсурдно двусмысленны, отсюда наше длительное замешательство перед «Лолитой». Гумберт выказывает великую утонченность, испытывая отвращение к гостям, чья благопристойность не позволяет им спустить воду в уборной, или к нарочито британскому произношению Куильти с его «густой кровью», вытекающей из него, когда в его тело вонзаются пули; но вся эта утонченность не поможет уцелеть восхитительной крошечности Лолиты. Скверно то, что мы все (жители обоих полушарий земли) будто бы не находим ничего особенного в любовной связи с девочкой — что продемонстрировано с утонченным негодованием — и даже относимся к этому с одобрением: «Нет ровно ничего дурного (твердят в унисон оба полушария) в том, что сорокалетний изверг, благословленный служителем культа и разбухший от алкоголя, сбрасывает с себя насквозь мокрую от пота праздничную ветошь и въезжает по рукоять в юную жену». Гумберт не изверг и не пьяница, ему нет сорока, он чистоплотен и не женат. Он, как и его создатель-романист, морально ограничен интересами наслаждения. И хотя его трактовка нашего «нормального» отношения к этому отвратительна и смехотворна, его изоляция неизбежно трагична. Набоковский жанр фактически — трагифарс. И здесь даже просматривается некоторое его сходство с Грэмом Грином, который также был способен всматриваться в бездну сквозь шутку; но гораздо больше общего у него со Стерном. В романе «Под знаком незаконнорожденных» это заметно очень сильно, отчасти из-за совпадения тем; ибо автор книги «Под знаком незаконнорожденных» обращается, как делал и Стерн, к «столкновению между миром учености и тем, что творит человечество» (Дуглас Джефферсон). Герой романа — известный философ Адам Круг, некто, во всем подобный Набокову, с его собственными высшими способностями. <…> В сущности, это Шенди, только трагический; гибель его сына — это следствие одержимости интеллектом, привычной уверенности, что все происходит в соответствии с предвидением разума, равно как и Тристама ввергли в катастрофу озабоченность его отца книжными знаниями и одержимость дяди Тоби исследованиями. Разница между комедией Стерна и трагедией Набокова лишь в том, что неопровержимые факты, о которые ушибается Шенди, благонравны и достойны уважения; тогда как силы, победившие Круга, бесцельны, банальны и направлены на разложение философии. Различие существенное, но оно не умаляет впечатления лингвистического и формального сходства между произведениями Набокова и Стерна. Оба, к примеру, используют научный язык для создания фарсах…> Набоков вносит в свое повествование дьявольский беспорядок и делает это в той же манере, что и Стерн. Например, автор адресует себе краткие замечания. «Описать спальню. <…> Последний шанс описать спальню». Или вмешивается из жалости: «именно в этот миг я ощутил укол сострадания к Адаму и соскользнул по косому лучу бледного света, вызвав мгновенное сумасшествие». Он вводит пространные отступления, вроде большого фрагмента, посвященного «Гамлету», которым, несомненно, пытается превзойти эпизод «Сцилла и Харибда» из «Улисса». «Подлинная интрига пьесы (по мнению профессора Гамма, ученого, принявшего новый режим) становится ясной, как день, если понять следующее: Призрак, явившийся на зубчатые стены Эльсинора, — это вовсе не тень отца Гамлета. Это тень отца Фортинбраса». Он будто бы пришел ослабить моральное состояние Дании и приуготовить путь для успеха Фортинбраса-младшего. Круг прислушивается к данному аргументу, и «замысловатость кружения этой беспримерной глупости» напоминает ему о новом режиме. Потом он набрасывает сценарий (до Оливье) фильма «Гамлет»: декорация — заросший чертополохом сад, «Гамлет в Виттенберге, вечно опаздывающий, пропускающий лекции Дж. Бруно» упоминает «старого здоровяка короля Гамлета, разящего боевым топором полчища полячишек» и «заболоченную равнину, где растет Orchis mascula». Затем идет этимологическая игра: Офелия, вполне вероятно, «анаграмма имени Алфея (Alpheios — Ophelia — с „s“, затерявшейся в мокрой траве), — Алфей, это был речной бог, преследовавший долгоногую нимфу, пока Артемида не обратила ее в источник (ср. „Озеро Виннипег“, журчание 585, изд-во „Вико Пресс“)». Под конец обсуждаются переводы из «Гамлета» на нововведенный язык. После всего этого за окнами появляются два шарманщика, и необычайно отвратительные офицеры полиции прибывают арестовать друга профессора Круга. Функция сего отступления крайне усложнена. Деликатный способ не говорить о жене Круга, которая только что умерла. Бесполезное, хотя и забавное, упражнение интеллекта, призванное контрастировать с вкрадчивым скотством полиции. Это забавно. Но тема переводов не просто бессмысленная демонстрация глоссолалии, а еще одно ответвление главной темы перед самым прибытием полиции. Диктатор Падук поощрял пользование специальной машинкой, разновидностью пишущей машинки, воспроизводящей любой почерк. Восполняется ли надрывающий сердце труд перевода, поскольку он «предполагает добровольное ограничение мысли, подчинение чужому гению», удовольствием от такой отдачи, или же все это не более чем «преувеличенное и одушевленное подобие пишущей машинки Падука»? Здесь намечается теологически значимый вопрос о границе между территориями Кругов и Падуков. Но он так и не выявлен, ибо прерван зловещей двойственностью шарманщиков и приходом полиции. Здесь налицо явная бессмысленность; но бессмысленность налицо и в огромном подобии кардиографа, по которому избранные медики изучают деятельность сердца Падука, и в попугае, доставляющем полицейские депеши, и в концовке романа, где пули врезаются в безумного Круга, а автор прерывает рассказ и переключает внимание читателя на мотыльков у своего окна. Но легко обнаружить разницу между этим родом бессмысленностей и, к слову сказать, трудом г-на Бретби{93}. Писать центробежно, терзать линию повествования, разрушать иллюзию несообразностью представлений просто — все это в пределах возможностей недоразвитого, слегка извращенного таланта. На это способен каждый, кто, как многие, думает, будто для создания литературного произведения не художник нужен, а наблюдатель. Но это не путь Набокова. В конце концов, роман «Под знаком незаконнорожденных» является не более бессмысленным, чем произведения Стерна. В нем существует довольно строгая подчиненность всех этих ошеломляющих и риторических экзерсисов форме в целом. Набоков пользуется, никогда, впрочем, не злоупотребляя ими, общеизвестными приемами устроения «пространственного» замысла — тем, что г-н Форстер называл «ритмами». Лужица, «оставленная лопатой лунка» из первого абзаца — одна из таких сквозных тем; жена Круга, снимающая свои драгоценности, — это коварное наваждение маститого ученого — вторая. И сама трагичность повествования не в силах, кажется, это прервать. Книга открывается с застенчиво прекрасного воскрешения в памяти героя его горя, нечто вроде виртуозного развития образа лесного молочая у Россетти; это продолжается в отвлеченных размышлениях Круга на мосту, в его терпении и шутках с неотесанной солдатнёй. Круг не спасет от диктатора ни свой университет, ни себя, ни, в конце концов, своего сына, ибо он не способен понять, что глупость и продажность могут стать всемогущими; ведь еще в школе он заслужил право сидеть на голове Падука, Среднего Человека. <…> Бросаясь на Падука, он не умирает только потому, что вмешивается автор, дабы сообщить нам, что Круг умер хорошо и что он оставил свой отпечаток «в тонкой ткани пространства». Он описывает мотылька снаружи своего окна и заключает: «Добрая ночь, чтобы бражничать.» Мы не на стороне Круга, не на стороне Набокова. В лучшем случае мы, из уважения к автору, находимся там же, где Круг размещает своего буржуазного друга Максимова: «…когда Круг однажды заметил, что слово „лояльность“ напоминает ему звучанием и видом золоченую вилку, лежащую под солнцем на разглаженном бледно-желтом шелке, Максимов ответил довольно холодно, что для него лояльность исчерпывается ее словарным значением. Здравый смысл оберегала в нем от самодовольной вульгарности тайная тонкость чувств, а несколько голая и лишенная птиц симметрия его разветвленных принципов лишь чуть-чуть колебалась под влажным ветром, дующим из областей, которые он простодушно полагал не сущими». Будем же добрыми, как Максимов, который оказался столь удобен Набокову. Мы можем не любить этого; но, читая роман «Под знаком незаконнорожденных», необходимо помнить, что его автор мог бы назвать книгу о притеснении человеческого духа тупым и грубым государством «злободневным вздором». Это произведение искусства, и больше ничего. Frank Kermode. Aesthetic bliss // Encounter. 1960. Vol. 14. June. P. 81–86 (перевод А. Спаль). ЛОЛИТА LOLITA
Роман, вознесший Набокова на вершину литературного Олимпа, имеет длительную предысторию. Его фабульный зародыш содержится в третьей главе «Дара» — в прочувствованном рассказе Щеголева, пошловатого «вотчима» Зины Мерц: «Вот представьте себе такую историю: старый пес, но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума можно сойти…». Год спустя после журнальной публикации «Дара» рассказ «бравурного пошляка» Щеголева оформился в заведомо непроходимую для целомудренной эмигрантской печати новеллу «Волшебник» (написана в Париже, в октябре — ноябре 1939 г.). Забраковав свою «пра-Лолиту» (в английском переводе Д. Набокова новелла была опубликована лишь в 1986 г.), писатель вернулся к разработке прежнего замысла, уже будучи американским писателем. В 1946 г. им был написан черновик первых 12 глав романа, получившего рабочее название «Королевство у моря». В письме к Эдмунду Уилсону (7 апреля 1947 г.) Набоков сообщает, что работает над «небольшим романом о мужчине, который любил маленьких девочек»[105]. Вскоре работа над романом была отложена и возобновилась лишь в 1949 г. По признанию, сделанному Набоковым в послесловии к американскому изданию «Лолиты», «книга подвигалась медленно, со многими перебоями <…>. Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика, и помню, как я уже донес мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казненной книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней. <…>. Гумберт Гумберт написал ее в тридцать раз быстрее меня. Я перебелил ее весною 1954-го года в Итаке, жена перестукала ее на машинке в трех экземплярах, и я тотчас стал искать издателей»[106]. Последующие злоключения «Лолиты» (которую Набоков предполагал издать под псевдонимом) неоднократно описывались и самим автором, и его многочисленными исследователями. Первые попытки издать «Лолиту» в США окончились полным провалом: роман был последовательно отвергнут четырьмя издательствами. Первым от набоковского детища отказался редактор нью-йоркского издательства «Викинг пресс», мотивируя это тем, что в случае публикации романа «мы все отправимся за решетку». Вслед за «Викинг пресс» роман был отвергнут издательствами «Саймон энд Шустер» и «Нью Дайрекшнз». Представители первого издательства сочли «Лолиту» «чистейшей порнографией», а старый приятель Набокова Джеймс Лафлин признал, что «„Лолита“ — это проза высочайшей пробы» и что ее следует опубликовать, однако сделать это наотрез отказался, поскольку тревожился о «возможных карах, ожидающих и издательство, и автора». Получив отказ от Лафлина, Набоков тут же предложил рукопись Роджеру Страусу, главе издательства «Фаррар, Страус энд Жиру»: «Дорогой г-н Страус. Некоторое время назад в своем письме Вы любезно проявили интерес к моему новому роману. В то время я не мог Вам ничего обещать, так как у меня было обязательство перед Джеймсом Лафлином из „Нью Дайрекшнз“ показать ему рукопись первым, хотя я и не ожидал, что он захочет ее опубликовать. Он только что прислал мне ожидавшийся ответ, и я попросил его переслать рукопись Вам. По причинам, кои Вам станут очевидны по прочтении рукописи, я бы хотел опубликовать книгу под псевдонимом. И по той же самой причине я бы хотел попросить Вас о любезности прочитать эту рукопись самому и больше никому ее не давать, если только по ее прочтении Вы не решите, что книга представляет интерес для публикации. Надеюсь на Ваш скорый ответ»[107]. «Скорый ответ» не заставил себя долго ждать. Осторожный Страус деликатно отклонил рукопись: он не меньше других опасался скандального судебного разбирательства, способного подорвать престиж его издательской фирмы. Не увенчалась успехом и предпринятая Набоковым попытка опубликовать хотя бы некоторые главы «Лолиты» в передовом журнале американских интеллектуалов «Патизэн ревью». Филипу Раву, главному редактору журнала, роман очень понравился, однако по совету адвоката он вернул рукопись — на том основании, что вещи подобного рода не могли быть напечатаны анонимно, как того хотел Набоков, в то время опасавшийся, что публикация его «аскетически строгого создания» (как он аттестовал «Лолиту» Уилсону) может катастрофическим образом сказаться на его репутации в чинном Корнелле, повредив успешно складывавшейся преподавательской карьере. Не менее огорчительной, чем «страусовая» политика нью-йоркских издателей, для писателя была резко негативная реакция на его творение, последовавшая со стороны ближайших американских друзей: Эдмунда Уилсона и его экс-жены Мэри Маккарти. Уилсону, довольно торопливо прочитавшему присланную ему рукопись, «Лолита» показалась худшим произведением Набокова: «Из низких предметов могут вырастать прекрасные книги, но мне кажется, что ты не справился с темой. Не то чтобы ситуация и персонажи показались мне отталкивающими — они кажутся мне весьма надуманными. Разнообразные эскапады, а также кульминация страдают, с моей точки зрения, теми же недостатками, что и финалы „Под знаком незаконнорожденных“ и „Смеха во тьме“: они слишком абсурдны, чтобы быть ужасными или трагическими, и слишком отталкивающи, чтобы казаться забавными»[108]. Столь же обескураживающе отрицательной была и реакция Мэри Маккарти: в передаче Уилсона, она еще не прочитала рукопись до конца, но отозвалась о романе как об образчике «на редкость небрежного, поверхностного письма». С другой стороны, она сочла «Лолиту» загадочной: «Мне показалось, что повествование здесь превратилось в усложненную аллегорию или в серию символов, смысл которых я не смогла уловить. <…>. Мне показалось, что книга написана довольно-таки неряшливо, особенно во второй части. Роман перенасыщен тем, что преподаватели литературы называют „туманностью высказываний“, и несвойственными Владимиру плоскими шутками и каламбурами. Я даже подумала, а не специально ли он так написан — может, это и входило в замысел»[109]. Лишь жена Уилсона Елена нашла роман превосходным: «Маленькая девочка выписана точно и очень зримо, а ее привлекательность и соблазнительность кажутся вполне правдоподобными. <…> Отвращение героя книги к взрослым женщинам мало отличается от, скажем, отношения к ним Андре Жида, разница лишь в том, что Жид этим кичится, а Вашему герою приходится пройти сквозь ад. Описания пригородов, отелей, мотелей ужасно забавны»[110]. Несмотря на негативное отношение к «Лолите», Уилсон решил помочь Набокову издать ее. При встрече с представителем издательства «Даблдей» Джейсоном Эпстайном Уилсон вручил ему рукопись «Лолиты», сказав, что роман «отвратителен», но Эпстайну все равно нужно его прочитать. Эпстайна, по его собственному признанию, набоковский роман «очаровал»: «На меня он произвел впечатление ужасно смешного. И я не нашел в нем ничего отталкивающего. Мне книга показалась блестящей. И я не мог найти никаких убедительных доводов против возможности напечатать такое литературное произведение, хотя в то время, конечно, у меня появились определенные опасения, что у нас могут возникнуть проблемы с органами правосудия»[111]. Однако потенциально скандальное содержание романа отпугнуло руководство «Даблдей». Эпстайну так и не удалось «пробить» рукопись. Отчаявшись издать «Лолиту» в Америке, Набоков через посредничество парижского литературного агента — своей давней знакомой Дуси Эргаз — пристроил манускрипт в парижском издательстве «Олимпия-пресс», которое специализировалось на выпуске англоязычной литературной продукции. Репутация издательства была сомнительная: наряду с книгами де Сада, Генри Миллера, Сэмюэла Беккета, Уильяма Берроуза и других «продвинутых» авторов, оно выпускало откровенно порнографические опусы. Главу «Олимпии» Мориса Жиродиа «сразу покорило неотразимое очарование книги». «Я был поражен и захвачен этим невероятным феноменом, — вспоминал позже Жиродиа, — как это он, по видимости без всяких усилий, смог перенести русскую литературную традицию в современную английскую прозу. Это уже само по себе было проявление гения, но и повествование было магической демонстрацией чего-то такого, о чем я сам только мечтал, но никогда не обнаруживал в реальности: изображения одной из запретнейших человеческих страстей в совершенно искренней и абсолютно пристойной форме. Я сразу почувствовал, что „Лолите“ суждено стать величайшим произведением современной литературы, которая раз и навсегда покажет как всю бесплодность цензуры по моральным соображениям, так и неотъемлемое место изображения страсти в литературе»[112]. Так ли уж Жиродиа был уверен тогда в счастливой судьбе «Лолиты» — проверить трудно, однако факт остается фактом: рукопись была незамедлительно послана в набор, и уже летом 1955 г. Набоков вычитывал корректуру, присланную ему из Парижа. В благодарственном письме Морису Жиродиа (с которым ему очень скоро предстояло насмерть разругаться[113]) писатель настойчиво советовал издателю развернуть в Америке рекламную кампанию «Лолиты», которую назвал «серьезной книгой, написанной с серьезной целью». «Надеюсь, — добавлял Набоков, — публика воспримет ее именно в этом качестве. Меня огорчил бы succes de scandale»[114]. Выйдя из печати осенью 1955 г., «Лолита» поначалу не привлекла к себе особого внимания читателей и критиков — до тех пор, пока вокруг нее не разгорелся бурный скандал в английской прессе. Один из экземпляров романа, привезенный из Франции туристами наряду с другой литературной продукцией «Олимпии-пресс», попался на глаза Грэму Грину. Прочитав роман, Грин рекомендовал его английским читателям как лучшую книгу 1955 г. (Green G. Books of the Year 1 // Sunday Times. 1955. December 25. P. 4). Опросы относительно лучшей книги года устраивались среди английских писателей неоднократно, и далеко не все книги, отмеченные тем или иным именитым литератором, автоматически становились бестселлерами или вызывали резонанс в литературном мире. В Англии Набокова почти никто не знал. Русская фамилия автора расхваленного романа мало что кому говорила, и авторитетное мнение популярного писателя, высказанное в рождественском номере газеты «Санди таймc», вряд ли смогло бы привлечь к нему внимание читателей. Неизвестно, как сложилась бы судьба «бедной американской девочки» и ее создателя дальше, если бы не агрессивное выступление журналиста Джона Гордона, разнесшего в пух и прах и «Лолиту», и ее покровителя: «По рекомендации Грэма Грина я приобрел „Лолиту“. Без сомнения, это грязнейшая книжонка из всех, что мне доводилось читать. Это отъявленная и неприкрытая порнография. Ее главный герой — извращенец, имеющий склонность развращать, как он их называет, „нимфеток“. Это, как он объясняет, девочки в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет. Вся эта книга посвящена откровенному, бесстыдному и вопиюще омерзительному описанию его похождений и побед. Книжка вышла во Франции. Всякий, кто осмелился бы напечатать или продать ее в нашей стране, несомненно, отправился бы за решетку» (Gordon J. Current events // Sunday Express. 1956. January 29. P. 16). Грэм Грин ответил ироничным письмом в «Спектейтор», предлагая организовать «Общество цензоров Джона Гордона», которое будет «проверять и при необходимости запрещать все неприличные книги, пьесы, живописные полотна и керамические изделия» (Spectator. 1956. February 10. P. 182). От слов Грин перешел к делу и 6 марта 1956 г. действительно организовал первое заседание «Общества Джона Гордона». Вся эта история (очень скоро она стала известна во Франции и в Америке) сделала «Лолите» такую рекламу, о которой Набоков не мог и мечтать. Заинтригованные английские читатели в момент раскупили пятитысячный тираж книги. Цена на экземпляры «Лолиты», полулегально привезенные туристами из Франции, дошла у спекулянтов лондонского Сохо до десяти фунтов (по пять фунтов за каждый том). Просачиваясь сквозь таможни, «Лолита» прибыла в Америку, куда, благодаря многочисленным откликам в прессе, докатилась ее скандальная слава (в общей сложности «Лолите» было посвящено более двухсот пятидесяти заметок, рецензий и эссе). Среди первых отзывов выделим рецензию, появившуюся в журнале «Репортер» (Schickel R. A Review of a Novel You Can't Buy // Reporter. 1957. Vol. 17. November 14. P. 45–47); ее автор удостоился благодарственного письма от Набокова: «Я никогда не пишу критикам, вследствие чего обижаю друзей и разочаровываю врагов. Однако признаюсь, в данном случае было очень тяжело не написать Вам, прочитав Вашу статью в „Репортере“ — самый тонкий и артистический разбор всего, что касается моей нимфетки. Верю: „Лолита“ скоро будет опубликована в этой стране. Она должна появиться на датском и шведском языках, она переводится на итальянский, немецкий, нидерландский и французский»[115]. Ажиотаж вокруг «Лолиты» усилился еще больше после того, как в конце декабря 1956 г. Министерство внутренних дел Франции по личной просьбе британского министра внутренних дел, наложило арест на книжную продукцию «Олимпии-пресс», в том числе и на «Лолиту». На ее защиту, равно как и на борьбу против цензуры, дружно встала вся французская пресса. Между тем в Англии «Лолита», в свою очередь, угодила в пекло парламентских дебатов о новом цензурном законе. В Америке все складывалось менее драматично: несколько экземпляров романа были перехвачены бдительными таможенниками, однако затем благополучно возвращены своим владельцам, поскольку мудрые чиновники не усмотрели в «Лолите» никакой «непристойности». Ничего непристойного не нашли в ней и ее первые американские рецензенты: Джон Холландер <см.>, акцентировавший внимание на пародийно-сатирическом аспекте романа, и Говард Немеров, посвятивший творчеству Набокова статью «Этика творчества»: «Необходимо признать, что в „Пнине“, да и в других работах, этика интересует Набокова-художника не больше, чем секс; и то и другое, вместе и по отдельности, для него вопросы побочные, как проблема и предложение пикантных, заслуживающих внимания озарений, которыми эта проблема живет. Его вечная тема — это внутреннее безумие и то, как оно странно подчас соответствует или, напротив, не соответствует внешней абсурдности, и эту проблему, по его понятию, можно решить только художественными средствами. <…> „Лолита“ все же этически выдержанное произведение, если под этикой в литературе мы понимаем иллюстрацию к ростовщическому торгу между нашими гадкими вожделениями и добродетельными угрызениями совести, к процессу, в котором вожделение становится наказанием, а наши лица внезапно превращаются в подобие наших грехов. В мире американских грез „Лолита“ способна создать замечательный прецедент для выработки издательских этических норм, ибо если Гумберт Гумберт и грешный человек, то в конце романа он за это несет наказание. Впрочем, и в середине. И в начале» (Nemerov H. The Morality of Art // Kenyon Review. Vol. 19. № 2. P. 314). В то время как во Франции Морис Жиродиа отчаянно бился против судебного запрещения «Лолиты», в Америке фрагмент набоковского романа (где-то около трети текста) появился на страницах журнала «Энкор ревью» (1957. June) Публикацию дополнили послесловием Набокова «О книге, озаглавленной „Лолита“» и статьей американского критика Фреда Дюпи <см.>. За Набоковым уже начали охоту издатели, засыпавшие его заманчивыми предложениями о приобретении прав на американское издание романа. Наиболее расторопным среди них оказался Уолтер Минтон из нью-йоркского издательства «Дж. Патнэмз санз», которое и выпустило «Лолиту» летом 1958 г. К моменту выхода книги читательская публика была так накручена, что с молниеносной быстротой смела весь тираж. Только за первые три недели было продано более ста тысяч экземпляров — рекорд, перекрывший прежнее достижение «Унесенных ветром». «Лолита» в мгновенье ока сделалась бестселлером (она продержалась на первом месте вплоть до сентября, пока, к досаде Набокова, не была оттеснена на второе место английским переводом «Доктора Живаго») и принесла своему создателю целое состояние: только за права на ее экранизацию он получил от кампании «Харрис-Кубрик пикчерз» 150 000 долларов «Незаметнейший писатель с непроизносимым именем» (как шутливо аттестовал себя Набоков в интервью 1967 г.), чью фамилию еще год назад некоторые рецензенты писали с ошибками (например, английский критик Морис Крэнстон в хвалебной статье о «сильном, волнующем романе» называл его автора «Nabakov» (Cranston M. Obscenity in the only some beholders // Guardian. 1957. May 14. P. 5)), благодаря «Лолите» превратился во всемирно известного писателя — публичную фигуру, раздираемую на части интервьюерами из крупнейших англоязычных газет и журналов. Публикация «Лолиты» в Америке — звездный час для Набокова. После долгих лет неудач ему наконец-то повезло: он покорил американскую публику. Даже мелкие неприятности (вроде энергичных протестов пары-тройки высоконравственных сенаторов или запрета книги в Публичной библиотеке города Цинциннати) лишь еще больше подхлестывали читательский интерес и вызывали сочувственные отклики американских критиков, которые, надо отдать им должное, в подавляющем большинстве тепло приняли «Лолиту». Разумеется, признание не было всеобщим и безоговорочным. Не все шло так идеально гладко, как хотелось бы: на пути триумфального шествия «Лолиты» нет-нет да и возникали ухабы и кочки разносных рецензий, в которых желчно критиковался стиль Набокова или безапелляционно утверждалось, что его книга «не достойна внимания серьезных читателей: во-первых, она скучна, скучна и еще раз скучна своей претенциозной, вычурной и насмешливо-глуповатой манерой; во-вторых, это омерзительная высоколобая порнография» (Prescott О. Book of the Time // New York Times. 1958. August 18. P. 17). Однако немногочисленные лолитофобские отзывы буквально потонули в дружном хоре похвал. Писательская репутация Набокова выросла настолько, что уже в июне 1958 г. рецензент из журнала «Нью рипаблик» с полным основанием утверждал: «Владимир Набоков — художник первого ряда, писатель, принадлежащий великой традиции. Он никогда не получит Пулитцеровскую или Нобелевскую премии [в этом, увы, критик оказался провидцем. — Н. М.], но тем не менее „Лолита“ — вероятно, лучшее художественное произведение, вышедшее в этой стране <…> со времен фолкнеровского взрыва в тридцатых годах. Он, по всей вероятности, наиболее значительный из ныне живущих писателей этой страны. Он, да поможет ему Бог, уже классик» (Brenner С. Nabokov. The Art of the Perverse // New Republic. 1958. Vol. 138. June 23. P. 21). На первых порах восприятие набоковского романа критиками в значительной мере было обусловлено той ролью, которую он (совсем неожиданно для автора) сыграл в борьбе за свободу печати и творческого самовыражения, в борьбе против ханжеских цензурных запретов, благодаря которым многие выдающиеся произведения литературы десятилетиями не могли дойти до широкого читателя. По справедливому замечанию Эрики Джонг: «Оказавшись в фокусе внимания большинства рецензентов, „L'Affaire Lolita“ вытеснила в их восприятии на второй план роман как таковой. Скрещивая полемические копья в очередном раунде приевшейся дискуссии о совместимости порнографии и литературы (и о самих границах этих понятий), многие обозреватели вели себя так, будто и в природе не было язвительно-пародийного предисловия, предпосланного „Лолите“ Набоковым. Стоило ли удивляться, что логика их рассуждений при этом порой зеркально уподоблялась аргументации Джона Рэя-младшего, Д-ра философии?» (Джонг Э. «Лолите» исполняется тридцать // Диапазон. 1994. № 1. С. 13). Впрочем, подобное положение вещей было неизбежно, поскольку битва за «Лолиту» и не думала утихать. Издание романа в Англии, за которое с энтузиазмом взялись издатели Джордж Уэйденфельд и Найджел Николсон, стало возможным только в 1959 г., после принятия либерального закона о непристойных публикациях. «Основная наша задача заключается в том, чтобы точно рассчитать время, — писал Набокову Джордж Уэйденфельд, объясняя причины задержек с публикацией „Лолиты“. — Как Вы знаете, проект закона о непристойных публикациях сейчас находится в парламенте и в конце февраля его вынесут на Решающее обсуждение во втором чтении в комитет. Если наша информация верна, он должен вступить в силу в мае или в июне. Наши юрисконсульты или, точнее сказать, наши друзья-юристы, сходятся во мнении, что мы не должны форсировать публикацию книги до вступления закона в действие. Дело в том, что согласно ныне действующему законодательству литературные достоинства книги не принимаются во внимание, и на процессах по делам о непристойности защите не позволяется вызывать экспертов для дачи показаний относительно достоинств книги. По новому же закону не только литературные достоинства книг будут приниматься во внимание, но и защита будет иметь право приглашать экспертов для дачи показаний относительно художественной значимости произведений»[116]. О том, насколько зыбким было положение английских издателей «Лолиты», свидетельствует переписка между Найджелом Николсоном и Гарольдом Николсоном <см.>. (Мрачные предсказания последнего о тяжелых последствиях публикации романа для политической карьеры сына в полной мере оправдались; в ходе парламентских выборов Николсон-младший потерпел поражение: многие избиратели не простили ему популяризации скандальной книги, «подрывающей моральные устои» доброй старой Англии.) Выходу лондонского издания «Лолиты» предшествовала жаркая дискуссия в английской прессе. В поддержку «Лолиты» и ее издателей от имени видных английских литераторов и критиков было послано письмо в старейшую газету Британии «Таймс»: «Мы встревожены предположением, что английское издание „Лолиты“ Владимира Набокова может так и не состояться. Наши мнения по поводу достоинств этого произведения различны, однако мы считаем, что будет крайне прискорбно, если книга, представляющая значительный литературный интерес, благосклонно принятая критиками и получившая поддержку в солидных и уважаемых изданиях, подвергнется запрету в нашей стране» (Times. 1959. January 23. P. 11). Среди «подписантов» были: Уолтер Аллен, Исайя Берлин, Фрэнк Кермоуд, Комптон Маккензи, Айрис Мердок, В.С. Притчетт, Питер Кеннелл, Герберт Рид, Филип Тойнби, Энгус Уилсон и др. Преодолевая сопротивление пуритан, ведущие английские критики неутомимо защищали набоковский роман, разъясняя его художественные достоинства и отметая обвинения в порнографии: «„Лолита“ — литературное достижение, которым должен гордиться послевоенный мир (не так уж избалованный шедеврами). Цельная, неослабевающе нравственная, искусно построенная, чрезвычайно живая и забавная, „Лолита“ по праву занимает место на вершине мировой нравоучительной литературы. <…>. Некоторые люди (иной раз даже не прочитав) признали „Лолиту“ непристойной и заявили, что ее не следует публиковать в этой стране, а если она все же будет опубликована, то издателей надо наказать. Довольно странное требование. Да, это правда, в „Лолите“ есть описания сексуальных действий повествователя и героини; но они гораздо менее подробны по сравнению с послевоенными американскими романами, которые не вызывали подобной шумихи. Да, это правда, в „Лолите“ мы имеем дело с видом любовной связи, в настоящее время запрещенной в Британии и практически во всех странах Запада. Но я думаю, никто не будет всерьез утверждать, что нужно запрещать книгу, в которой описывается преступление <…> Если „Лолита“ будет благополучно запрещена в нашей стране, это будет означать не только, что многих британских читателей лишат возможности познакомиться с одной из вех мировой литературы XX века, а смелые и благородные люди будут оскорблены; это будет означать, что Британия потеряет репутацию терпимой страны, и это гораздо более трагично» (Levine B. Why All The Fuss? // Spectator. 1959. № 6811 (January 9). P. 33). Впрочем, иные заступники занимали более осторожную позицию. Среди них был литературный обозреватель газеты «Обзервер» Филип Тойнби, нашедший финальное перерождение главного героя неубедительным, но тем не менее признавший высокие художественные достоинства набоковского произведения: «„Лолита“ представляется мне в высшей степени оригинальным и выдающимся романом, по своим достоинствам сопоставимым с такими произведениями, как „Опасные связи“ или „Самопознание Дзено“ Свево. В то же время это книга, которая очень ярко показывает нам жестокость, граничащую с садизмом. Высказывалось предположение, что книга Набокова — это атака на то зло, которое было в ней описано или, по крайней мере, сатира на то общество, в котором становится возможным творить такие вещи. Думаю, это означает полное непонимание намерений и достижений Набокова. Вполне очевидно, что он не моралист, и об этом он открыто объявляет в своем послесловии <…> „Лолита“ ни дидактична, ни трагична. Зато в самом широком смысле это глубоко комическое произведение искусства <…>. Нам говорят, что книга „непристойна“, словно это намеренно порнографическое произведение. Ничего подобного. По причине, препятствующей тому, чтобы книга превратилась в преднамеренное осуждение описанного в ней порока, Набоков не является ни пропагандистом, ни яростным обличителем чего-либо, в его намерения не входило возбуждать нашу похотливость <…> Набоков написал свою книгу не для того, чтобы вызвать у читателей те же чувства, которыми одержим его герой. Но, как и все хорошие писатели, он проникается сознанием этого героя и ярко высвечивает природу его желаний. И мы, вероятно, согласимся, что совокупления взрослого мужчины и незрелой девочки не только нежелательны, но неизбежно включают в себя элемент жестокости, вызывающей у нас глубокое отвращение <…> По моему мнению, нужно было бы обязательно запретить „Лолиту“, если бы можно было доказать, что хоть одна маленькая девочка стала жертвой совращения в результате данной публикации. Впрочем, не уверен, что этого не удастся доказать. В защиту можно сказать, что книги никак не влияют на поведение читателей. <…> Последствием запрета этой ценной книги будет не только явная потеря в сфере художественных впечатлений, но и посягательство на нашу свободу» (Toynbee Ph. Two Kinds of Extremism // Observer. 1959. February 8. P. 20). Когда в ноябре 1959 г. «Лолита» все-таки вышла в Англии, полемика вокруг нее разгорелась с новой силой. В большинстве своем английские критики с энтузиазмом восприняли «Лолиту», увидев в ней образец «в высшей степени живой, образной и прекрасной английской прозы» (Филип Тойнби <см.>). Однако некоторые рецензенты встретили «бедную американскую девочку» крайне недружелюбно. Кингсли Эмис придирался к стилю Набокова, к тому, что в романе все персонажи изъясняются в одинаковой манере (кстати, этот же упрек в свое время предъявлялся критиками Ф.М. Достоевскому), и в довершение всего указывал на «атрофию нравственного чувства» автора (Amis К. She Was a Child and I Was a Child // Spectator. 1959. № 6854 (November 6). P. 635–636). Кислыми Рецензиями одарили Набокова Ребекка Уэст <см.> и анонимный автор из литературного приложения к «Таймс». Последний, высоко оценив пронизывающее весь роман «неисчерпаемое чувство комического и абсурдного», посчитал, что в своем «стремлении использовать иронию и комические эффекты для создания трагической картины» Набоков потерпел неудачу, а борьба критиков против цензуры — еще не повод для объявления «Лолиты» великим произведением искусства (Sense of the Absurd // TLS. 1959. November 13. P. 657). В Англии после выхода лондонского издания «Лолиты» тема борьбы против цензуры в какой-то мере потеряла свою остроту, чего не скажешь о многих других странах. В Аргентине вышедший перевод «Лолиты» был запрещен цензурой, что вызвало оживленную дискуссию в печати. Свидетельством этому служит «Дело „Лолиты“» <см.> — блок материалов, посвященных судьбе Набоковского романа в Аргентине и проблеме свободы печати: туда входила анкета, на вопросы которой отвечали ведущие аргентинские писатели, а также открытое письмо от имени аргентинских интеллектуалов с протестом против цензурного запрета «Лолиты». Цензурным гонениям «аскетически строгое создание» Набокова подверглось не только в странах с авторитарными режимами (как, например, Испания или ЮАР), но и во вполне демократических Австралии и Новой Зеландии. Однако рано или поздно во всех этих странах под напором общественности цензурные барьеры рухнули, и «Лолита» продолжила свое триумфальное шествие, завоевывая сердца все новых и новых читателей. В СССР, куда скандальная слава «Лолиты» докатилась уже в конце пятидесятых, роман был заклеймен как порнографический, как исчадие бездуховной культуры Запада: «Лолита — героиня модной и разрекламированной повести. Маленькая двенадцатилетняя девочка. В повести ее называют нимфой. Прочтя первые страницы, читатель убеждается в том, что ребенок понадобился автору книги для того, чтобы надругаться над ним перед лицом всей Америки. Он растлевает свою героиню, а заодно и молодых читателей — американских юношей и девушек. Сцены растления он смакует с такими подробностями, какие покоробили бы даже профессионального содержателя дома свиданий. <…> Журнал „Ньюсуик“ <…> напечатал пространное интервью с Набоковым, его портрет, сообщил кстати, с искренней радостью, что растлитель юношества, создатель известной садистской повести, является профессором Корнельского университета и что студенты стоят в очередях за его книгой. Где выкопали американские издатели такое могучее пополнение для литературы, где отыскали они Набокова? На эмигрантской помойке. Белогвардеец Набоков, до того, как он стал наставником и духовным отцом американского студенчества, промышлял антисоветской стряпней, выступая в пресловутом „Голосе Америки“» (Чаплыгин Ю. Чары Лолиты // Литература и жизнь. 1959. 5 апреля (№ 41). С. 3). Разумеется, о публикации в СССР «садистской повести» не могло быть и речи. Это хорошо понимал и сам «белогвардеец» Набоков, тем не менее создавший русскую версию «Лолиты». «Вопрос же — для кого, собственно, „Лолита“ переводится, относится к области метафизики и юмора. Мне трудно представить себе режим, либеральный или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы „Лолиту“.<…> Издавая „Лолиту“ по-русски, я преследовал очень простую цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга — или, скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг — была правильно переведена на мой родной язык. Это — прихоть библиофила, не более», — так меланхолично рассуждал Набоков в «Постскриптуме» к русскому изданию «Лолиты» (N.Y.: Phaedra, 1967). Экземпляры русской «Лолиты» довольно быстро просочились сквозь ржавеющий железный занавес и стали нелегально распространяться как среди представителей всемогущей советской номенклатуры, так и среди фрондерствующей интеллигенции Питера и Москвы. Более двадцати лет сохраняя сладкий привкус запретного плода, «Лолита» (как и другие книги писателя — главным образом довоенные романы, выпущенные издательством «Ардис») проникала на его «чопорную отчизну» нелегально. Благодаря ей Набоков сделался очень популярным в среде диссидентствующей столичной интеллигенции. Каноническая набоковская фотография (а бытование любого классика литературы немыслимо без утверждения канонического изображения, закрепляющего его образ) — ироничный наклон головы, лукавый прищур, откровенно декоративное пенсне — очень скоро вытеснила из интеллигентского иконостаса бородатого «старика Хэма», а романы Набокова вошли в «джентльменский список» просвещенной советской элиты. Широкой читательской аудитории «Лолита» стала доступна лишь в «перестроечную» эпоху, когда с потоком «возвращенной» и «разрешенной» литературы книги Набокова хлынули на родину. В то время как советская печать угрюмо отмалчивалась (процитированный выше курьезный фельетон в счет не идет), в эмиграции роман Набокова вызвал самый живой отклик. Печатные отзывы были по большей части положительными, чего не скажешь о тех оценках, которыми некоторые представители «первой волны» наградили Набокова в своих письмах. Первым на «Лолиту» откликнулся М. Слоним: «Говорить о том, что „Лолита“ — неприличный и даже „скабрезный“ роман, могут только те, кто не понимает серьезного замысла произведения и его выдающихся литературных достоинств. <…> Никакой особой половой смелости в „Лолите“ нет, и в этом отношении ее далеко опередили десятки американских и французских романов, не вызывающие протестов. <…> По существу, „Лолита“ — не эротический роман в обычном смысле этого слова, а печальный рассказ о человеческих страстях и силе пошлости. Безумие Гумберта, не раз попадавшего в специальные учреждения для душевнобольных, не сводится к физическому влечению к тринадцатилетним „маленьким нимфам“. Предмет его страсти не так уж важен: главное — это стремление человека вырваться из обыденного рассчитанного мира, страсть — как источник поэтического преображения действительности, общая природа творческого порыва и болезненного извращения. Ненормальность шахматиста Лужина и безумие Гумберта — явления одного и того же порядка. Вот почему в новом произведении Набокова так много печального и глубокого о темных корнях человека. Герои Набокова пытаются, каждый по-своему, совершить прыжок в царство свободы, их привлекает „предел“ возможного или дозволенного, и их деяния — прорыв из духоты и тесноты этого мира. И именно эту духоту, фальшь и пошлость жизни Набоков описывает с большим блеском» (Слоним М. «Лолита» В. Набокова // Новое русское слово. 1958. 19 октября. С. 8). Столь же высоко оценили набоковский роман Н. Берберова, посвятившая ему эссе «Набоков и его „Лолита“» (НЖ. 1959. № 57. С. 92—115) и Н. Армазов. Последний, в противовес большинству англоязычных критиков, причитавших по поводу преступных деяний «мясника» Гумберта, предложил принципиально иной подход к интерпретации образов главных героев романа (нынешних феминисток он явно разочарует). Главным «антигероем» произведения Армазов считал не Гумберта, а соблазнившую его Лолиту: «Лолита — новая версия проститутки. Той, старозаветной, что продавала свое тело из нужды или отчаяния, а затем либо каялась, либо катилась под уклон и превращалась в отбросы общества, уже нет. Лолита — просто эмоционально опустошенная школьница, без всякого „во имя“, очерствевшая в цинизме. Из любопытства узнать, „как это ощущается“, она еще раньше проделывает опыт с первым встречным мальчишкой. Узнав же, в чем дело, утолив любопытство и не испытывая отвращения, подкупленная мишурой нашей цивилизации, под гомон массового спроса, заглушающего личные желания, она не прочь испробовать свои чары на отчиме. <…> Когда „потребление“ — основная добродетель индустриального прогресса, а образ культуры — материальное благополучие, может ли человек совместить такое мировоззрение с целомудрием? Вполне естественно, что поколение, которое побуждают потакать своим инстинктам, обязательно будет искать убежища в удовлетворении низших инстинктов, как в доступных для всех временных наслаждениях и удовольствиях. Набоков не первый узрел это, но он убедительнее многих это изобразил. Не пытаясь ни судить, ни поучать. Он прибегает к более верному и действенному оружию — сарказму, высмеивая даже то, что в существе своем трагично. <…> Нельзя устоять перед набоковским „кривым зеркалом“ нашей реальности, когда с запальчивым юмором он рисует современный быт и „достижения цивилизации“, принявшей средства за цель» (Армазов Н. Участь страсти // Грани. 1959. № 42. С. 233). Злополучный набоковский нимфолепт, напротив, вызвал сочувствие у критика, считавшего, что Гумберт — «современный Тристан без Изольды — приговорен законом и жизнью <…>. Гумберт — не идиллическая натура. Не блюсти, а нарушать законы рвется мука его любви, которой нет исхода. После того, как весь реальный опыт прогорел дотла в скорби и мести, перед лицом казни <…> на краю реальной жизни, в теплом прахе пережитого курится и мерцает еще живое чувство, зачатое в детстве, — потребность любить и оставить след этой любви. <…> Огонь чресел догорел; свет жизни мерцает приговоренному» (Там же. С. 235). Из всех эмигрантских авторов, пожалуй, лишь З. Шаховская не слишком ласково обошлась с «бедной американской девочкой». В рецензии на французский перевод «Лолиты» она утверждала: «Набоков стоит большего, чем споры, вызванные вокруг этого, не самого лучшего его романа. Вырванный из-за скабрезности его сюжета из числа предыдущих книг и, может быть, и тех, которые за ней последуют, роман „Лолита“ угрожает Набокову легкомысленным причислением его к эротическим авторам»[117]. Как известно, после этой статьи Набоков «не узнал» свою давнюю знакомую на презентации французского перевода книги в издательстве «Галлимар». Его реакцию можно легко понять: сам он считал «Лолиту» своим вершинным достижением и неустанно защищал честь любимого детища в письмах и интервью: «Я знаю, что на сегодняшний день „Лолита“ — это моя лучшая книга. Я смиренно уповаю на собственную убежденность, что это серьезное литературное произведение и что ни один суд не сможет доказать, будто книга распутна и непристойна. Разумеется, все категории условны и между ними нет четкой грани: комедия нравов, написанная блестящим поэтом, может иметь некоторый элемент „непристойности“, но „Лолита“ — трагедия. Порнография же — это не вырванный из контекста образ. Трагическое и непристойное исключают друг друга» (из письма Морису Бишопу, 6 марта 1956 г.)[118]. В 1967 г. на вопрос интервьюера: «Если бы у Вас была возможность остаться в истории в качестве автора одной и только одной книги, какую бы из них Вы выбрали?» — из всех своих художественных произведений Набоков с полным основанием выбрал «Лолиту». Джон Холландер{94} Гибельное очарование нимфеток В предисловии к этой необыкновенной книге, являющем собой причудливый симбиоз воображаемого издательского предуведомления в духе славных 1830-х гг. и не менее пародийно поданного опуса из «Сатэдей ревью», без тени иронии констатируется: «Как описанию клинического случая, „Лолите“ несомненно суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы». Констатация, как нельзя более далекая от истины. Тени Ставрогина, Льюиса Кэрролла, императора Тиберия, Попая{95} (а то и еще более мрачных фигур, на которые намекает предисловие), наконец, дразнящий оттенок порнографичности, казалось бы неизбежной, коль скоро книгу выпустило в свет парижское издательство, специализирующееся на эротике, — все это не более чем обманчивые фантомы, тающие без следа едва ли уже не в первой главе. Было бы не совсем верно даже нейтрально констатировать, что ее главный герой — интеллигентный иммигрант из Европы, влюбленный в двенадцатилетнюю девочку: приняв к сведению подобную информацию, современный читатель волей-неволей поместит книгу во вполне определенный литературный ряд — и окажется неправ. Дело в том, что серьезность клинического, социологического или мифологического свойства в «Лолите» начисто отсутствует; пульсирующим нервом книги является совсем иное. Читателям предыдущих произведений г-на Набокова будет легче, нежели другим, соотнести столь необычную тему книги с ее стилистикой — вызывающей ровно в той мере, какую предполагало новаторское ее воплощение. Надеюсь, таким читателям будет ясно, что я имею в виду, говоря, что роман зачастую походит на полусерьезную версию «Манон Леско», созданную рукой Джеймса Тёрбера{96}. Ибо в «Лолите» пародийный характер носит все, за исключением лежащей в основе сюжета любовной истории, каковой дано стать пародией лишь на самое себя. <…> Внимание г-на Набокова все время сосредоточено на сентиментальном отображении данной любовной истории и, параллельно с нею, — на сгущенно сатирическом фокусировании того кича американской действительности, на фоне которого эта любовь расцветает. Возможность моментально переводить повествование из одной тональности в другую обеспечивает Гумберт, наделенный озадачивающе гибким и разнообразным даром рассказывать; так, после вполне лирического пассажа вроде: «…Так как я не расставался с ощущением ее теплой тяжести на моих коленях (вследствие чего я всегда „носил“ Лолиту, как женщина „носит“ ребенка)…» — нас встречает прямо противоположное: «Утренний завтрак мы ели в городе Ана, нас. 1001 чел.». Властвующая в романе комическая стихия таится прежде всего в его стиле, чередующем тургеневские и псевдо-Прустовские черты, перемежающем строгий, как у Бенжамена Констана, analyse de l'amour[119] с пародией и очевидной стилизацией. В книге есть моменты немыслимых по яркости и четкости озарений, сходных с теми, что встречаются в шедеврах сюрреалистов; однако, в отличие от последних, г-н Набоков никогда всецело не полагается на их драматический эффект, не предает забвению их фабульную функцию в романе как художественном целом. Похоже, эти моменты в «Лолите» — того же происхождения, что и в прозе Диккенса, у которого героиня «Холодного дома» Эстер Саммерсон, когда ей предстоит узреть пугающую картину хаоса и запустения в родном доме, прежде всего машинально отмечает, что одну из портьер м-с Джеллиби удерживает на ее законном месте в дверном проеме… вилка. Но самый эффектный, самый любимый стилевой прием автора — неутомимая игра словами. Снова и снова Гумберт испытывает на слух огласовки собственного имени («Гамбург», «Гамбаг», «Гомбург» и т. п.), да и всего на свете. «Убил ты Куилты», — бормочет он себе под нос, разражаясь монологом, завершающимся патетическим: «О, Лолита моя, все, что могу теперь, это играть словами». Подчас эти игры приобретают еще более джойсовское звучание — особенно в длинном пассаже, перечисляющем зловещие для героя псевдонимы, под которыми наступающий ему на пятки соперник, желая еще больнее ранить его, регистрируется в разных мотелях. Тут приходит на память маниакальная склонность Тёрбера к словесным играм, помогавшая ему избежать социальной конфронтации. В «Лолите», однако, игра словами неуклонно и неизбежно приводит к одному и тому же — прелюдии к любовной игре; эта игра словами — не что иное, как развернутая метафора горестного заблуждения. По мере того как последнее растет, порабощая душу персонажа, в потоке его неконтролируемого словоизвержения все чаще вспыхивает, открываясь новыми интеллектуальными обертонами, волнующий его «объект». Невозможность ввести «Лолиту» в русло одной из существующих романных традиций побудила некоторых из тех, кто ею восхищается, списать отличающее книгу эротическое и литературное «дикарство» на счет того обстоятельства, что в действительности речь-де идет в романе о неурядицах любовной привязанности г-на Набокова к Америке. Само собой разумеется, Долорес как личность, с ее вульгарными вкусами и отталкивающим жаргоном, вполне органично вписывается в то, что Оден некогда назвал «пестрым мусором» американского ландшафта; сквозь дебри этого «мусора» и пробивается она в компании своего галлюцинирующего любовника. Однако дело не только в этом; читателю «Лолиты», коль скоро он всерьез страшится увязнуть в вязком болоте сексуальных соблазнов, из которого не вынырнуть Гумберту, протянута еще одна, более надежная путеводная нить. Насколько мне известно, у специфического полового извращения, отличающего Гумберта, нет общепринятого в психиатрическом лексиконе научного обозначения (так что карманным пособием Крафт-Эбинга в той его части, каковая трактует «насилие над индивидуумами, не достигшими четырнадцати лет», тут дела не поправишь). И это, мне кажется, немаловажно. Недаром сам Гумберт без обиняков ставит нас в известность: «…Я не интересуюсь половыми вопросами. Всякий может сам представить себе те или иные проявления нашей животной жизни. Другой, великий сдвиг манит меня: определить раз навсегда гибельное очарование нимфеток». В самом деле, разве не симптоматично, что все непосредственно связанное с «сексом» подано в книге с нескрываемым оттенком нежности? Вспомним хотя бы реакцию персонажа на один из редких мелодраматических любовных жестов, какие дарит ему его избранница. Вот слова Гумберта: «Физиологам, кстати, может быть небезынтересно узнать, что у меня есть способность — весьма, думается мне, необыкновенная — лить потоки слез во все продолжение другой бури». Итак, кто единственно мыслимая в наши дни роковая женщина, как не вступившая еще в тинейджерский возраст девочка, настойчиво требующая от своего немолодого любовника, чтобы тот приносил ей мороженое и иллюстрированные киножурналы? Она непредсказуема, тиранична и, что самое главное, в каком-то смысле эфемерна (ибо в распоряжении любой нимфетки — не более нескольких лет безраздельного господства). Строго говоря, слово, каким можно было бы определить моральный феномен, лежащий в основе книги, все-таки существует, только искать его следует в сфере чистой литературной патологии. Это слово — наваждение, отчаянное влечение к недосягаемому, и оно издавна служило расхожим определением для весьма распространенного экзальтированного состояния личности. Не могу отделаться от сильного подозрения, что глубинным замыслом г-на Набокова было материализовать заложенный в этой сфере метафорический смысл, дав описание особой разновидности человеческих особей — существующих в реальной жизни нимфеток, способных подвигнуть своих истомившихся в безмолвном страхе обожателей на некое риторическое деяние, итог которого — романтическое письмо. Суинберн и По подарили своим потерянным возлюбленным имена; в глазах же самого г-на Набокова утраченное дитя и Владычица Боли слились воедино в облике «прекрасной, гадкой нимфы». Если и в самом деле уместен вопрос «о чем „Лолита“?», то она лишь о том, как г-н Набоков проникся страстной любовью к романтическому роману — недосягаемому ныне артефакту, оставившему по себе столь же долговечную память, сколь скоротечна была его красота. Но это обстоятельство, добавлю в заключение, не отклоняясь от темы, ничуть не помешало «Лолите» стать едва ли не самой смешной книгой из всех, какие мне довелось прочесть. John Hollander. The Perilous Magic of Nymphet // Partisan review. 1956. Vol. 23. Autumn. P. 557–560 (перевод Н. Пальцева) Ф.У. Дюпи{97} «Лолита» в Америке: письмо из Нью-Йорка Написав «Лолиту», Владимир Набоков создал поистине увлекательную повесть на заведомо отталкивающем материале, влив ощутимую дозу свежего, убийственно ядовитого эликсира в мехи давней и славной (хоть в последнее время и увядающей) традиции roman noir[120]. Автор нескольких романов, первоклассной книги воспоминаний о детстве, проведенном в России, и юности, прошедшей далеко за ее пределами, чуждого академичности эссе о Гоголе и ряда трудов по энтомологии, г-н Набоков — опытный и, без сомнения, широко начитанный литератор. Однако ни одно из его предшествующих произведений не сулило сокрушительного эффекта «Лолиты». Американские книгоиздатели, имевшие возможность прочитать роман в рукописи, были так ошеломлены, что «Лолиту» в конце концов опубликовало небольшое парижское издательство. И их вряд ли можно особенно винить. В «Лолите» и впрямь заключен нешуточный вызов, и обойти его молчанием значило бы не воздать книге должное. В целом расположенный к роману и его создателю рецензент «Патизэн ревью» (г-н Джон Холландер) констатирует: «Пульсирующим нервом книги является совсем иное». В чем бы ни заключалось это «иное» (читай: «неожиданное» и «извращенное»), пульсирует оно с устрашающей силой, то и дело грозя опалить каскадом пламенеющих искр рукава держащего книгу читателя. И это-то обстоятельство не дает утешить себя успокоительным соображением вроде того, что адресована она, дескать, только знатокам эротики или досужим потребителям порнографической литературы (примем на веру, что таковые действительно существуют и их мнение реально что-то значит). Нет, от источаемого «Лолитой» огня не защищено эмоциональное восприятие любого из нас во всех своих компонентах, включая чувство юмора. Вместо того чтобы умерить в крови жар тайных порывов, снизив их температуру до умиротворяющего тления, роман действует чуть ли не по принципу шоковой терапии, врачуя кровоточащие язвы скальпелем царящего в нем безжалостного смеха. Неизменно балансирующая на опасной грани веселости и ужаса «Лолита» — завораживающее, но очень специфичное чтение. Это сказка для взрослых; и, случись ей когда-нибудь быть опубликованной в США, она войдет в сознание американской читательской аудитории как образчик нового литературного жанра. Пока же диковинный плод воображения г-на Набокова циркулирует у нас в парижской обложке, удостаиваясь отзывов в высоколобых журналах, обретая широкую известность в узких кругах. Однако такого рода известность (коль скоро я правильно оцениваю ее характер) чревата для него едва ли не большим ущербом, чем цензурные препоны, ибо, как правило, укрепляет публику в убеждении, будто роман — не более чем великолепно разыгранная шутка, литературный бурлеск. В пользу такого прочтения «Лолиты» г-н Холландер приводит немало аргументов. Он считает, что помимо лихорадочного пульса, в котором оживают непривычное и извращенное, книга таит в себе неистощимое богатство пародийных приемов и образов; однако полагает, что «серьезность клинического, социологического или мифологического свойства в „Лолите“ начисто отсутствует». «Лолита» и впрямь заразительно смешна, исполнена бурлескной стихии. В то же время нельзя исключить, что объектом смеха могут в конечном счете стать ее рецензенты, отказывающиеся замечать, сколь значим тот сегмент повседневной реальности, что просвечивает сквозь занавес, на фоне которого разыгрывается невероятный теневой театр ее фабулы. В самом деле: неужели г-н Холландер полагает, будто к «серьезности клинического, социологического или мифологического свойства» сводится вся многозначность литературы в трактовке аномального, будто ей и вовсе неведомы иные аспекты «серьезности»? Г-н Набоков немало стараний прилагает к тому, чтобы «Лолита» будила в душах читателей те чувства и эмоции, которые я не могу определить иначе как «общечеловеческие». Спору нет, герой его — личность глубоко извращенная, а не просто достойный жалости человек, сбившийся с пути истинного, не страждущая душа, взыскующая сочувствия окружающих. Он столь аномален, что перед его недугом бессильна медицинская наука, и, с другой стороны, чересчур реален, чтобы видеть в нем ходячую аллегорию. Попадая, по воле автора, в самые омерзительные жизненные ситуации, какие когда-либо рождало перо романиста, он вплотную уподобляется тем, кем становятся в своих диктуемых нечистой совестью галлюцинациях персонажи Джойса: сексуальным маньяком, преследуемым сворой негодующих благонравных сограждан.{98} Однако нелепые и отвратительные передряги, выпадающие на его долю, как на грех, кажутся нам удивительно знакомыми, а его душевная боль ощущается как наша собственная. Тут и берет начало крайне мрачное, зловещее впечатление, какое оставляет роман в целом; «Лолиту» можно сравнить с каким-то чудовищно искривленным зеркалом, на которое наталкиваешься, попав ненароком в несказанно мерзостный луна-парк. Картинки бытия, отражаемого «Лолитой», тошнотворны, но узнаваемы. Если г-н Набоков пользуется традиционными приемами комического, то доводит их до немыслимых прежде крайностей <…> Излагая фабулу, невольно абстрагируешься от тех свойств романа, в силу которых «Лолита» предстает читателю столь утонченным произведением. Эти свойства являют себя прежде всего в связи с авторской трактовкой фигуры Гумберта Гумберта. Попадая в самые ложные положения, какие только можно измыслить, Гумберт, однако, остается верен инстинктивному чувству приличия, побуждающему его оценить их как таковые. Не будучи героем по натуре, он персонифицирует собою романного героя; и в силу какой-то странной закономерности, по мере того как все более вызывающими становятся его действия, читательский интерес к нему возрастает. В прологе, излагающем начало жизненного пути Гумберта, явственно слышатся шутливые нотки французской прозы; но, стоит заметить, эта — самая невинная — часть романа наименее убедительна. Игривый тон пролога, возможно, обусловлен отчасти тем, что в нем находят гротескное отображение фрейдистские «возвраты в прошлое», посредством которых столь многие из нынешних романистов пытаются объяснить, как их персонажи «дошли до жизни такой». Но, каким бы образом ни дошел до нее Гумберт, нам остается лишь думать, что выпавший на его долю удел, при всей его неприглядности, попросту не имеет рационального объяснения. Не укладывается он и в рамки статистики, хотя, как нас заверяют, «каждый год не меньше 12 % взрослых американцев мужского пола, — по скромному подсчету, ежели верить д-ру Бианке Шварцман (заимствую из частного сообщения), — проходит через тот особый опыт, который „Г.Г.“ описывает с таким отчаянием». Дерзкий, ироничный, тонко чувствующий, осмотрительный, обнаруживающий необычайную начитанность, едва дело доходит до словесной аргументации («Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы»), он — из породы тех закоренелых злодеев, которым не помочь ни Фрейду, ни Кинзи{99}. Его личностные достоинства безраздельно порабощены владеющим всем его существом наваждением; однако он, понятное дело, инстинктивно избегает задумываться о роковых последствиях, какие влечет за собой подобное рабство, и, аналогично какому-нибудь Вотрену или Раскольникову, постоянно играет те или иные роли, надевает одну маску за другой. Маски эти, впрочем, не столько выбирает он сам, сколько их навязывают враждебные жизненные обстоятельства; наступает момент, и они, одна за другой, спадают с лица, открывая смущенную ухмылку. Поводом к грубоватому зубоскальству становится даже его имя, в конце концов редуцирующееся в восприятии окружающих в неразборчивое «Гамбаг». Самодовольно уверенный в собственной мужской неотразимости (эта уверенность оправдывается лишь отчасти), Гумберт женится на вполне созревшей молодой женщине в Париже, однако та бросает его, связавшись с невзрачным таксистом из русских белоэмигрантов, и в его биографии разверзается очередная брешь, у его ног оказывается очередная сброшенная маска. С переездом в Америку роли, добровольно принимаемые на себя Гумбертом, становятся более продолжительными и в его истории открываются новые перспективы. С этого момента действие «Лолиты» развивается в русле так называемого «международного романа» — правда, скорее в его журналистской, представленной произведениями Грэма Грина или Артура Кестлера, нежели «генри-джеймсовской», разновидности. Углубляющемуся чувству нереальности, поселившемуся в душе Гумберта, сопутствует аналогичное внешнее ощущение — ощущение нереальности окружающего, становящегося ареной его судьбы. Он оказывается жертвой нелепостей и абсурдных парадоксов открытого общества, бессильной марионеткой в сумасшедшем темпе развивающейся культуры. Его удача зависает на волоске, обнаруживая рабскую зависимость то от фокусов барахлящего автомобиля, то от непостижимых капризов телефонного аппарата. Смутное предчувствие будущего рая грезится ему в обманчивом дружелюбии маленьких городов, в плюшевом комфорте вездесущих отелей и мотелей, в вызывающей походке девочек школьного возраста в голубых джинсах, в мнимой невинности тех жизненных указаний, что дают им школа и популярные пособия. «Госпожа Матка (цитирую из журнала для девочек) начинает строить толстую мягкую перегородку — пригодится, если внутри ляжет ребеночек». «Мы живем в свободной стране», — заявляет Лолита, когда мамаша пытается отослать ее спать. Гумберт — не что иное, как ироническое отображение прибывшего в США на побывку европейца, и семейство Гейз призвано довершить это сходство. Он сваливается им на голову как принц, изгнанный из собственных владений — если быть точным, из того роскошного отеля, что держал на Ривьере его отец. В их глазах он наделен особой сексуальной притягательностью и изощренностью (но нам-то ведомо, сколь необычны его сексуальные предпочтения!). Супруг м-с Гейз — образ, обозначенный вполне пунктирно, — давно скончался, и мать с дочерью проделали не слишком осмысленный путь со Среднего Запада в этот маленький городок в Новой Англии, где их постояльцем нежданно-негаданно оказывается Гумберт, приехавший сюда, по его собственной версии, с намерением в тихом уединении написать книгу. Оба члена семейства Гейз и окружающие их вещественные атрибуты распознаются без труда: в десятках сатирических романов и пьес на тему современных нравов таких не счесть. Вот честолюбивая, эгоистичная, претендующая на духовную утонченность мать; а вот и обделенная родительской лаской вечно недовольная дочь, с ее неизменными голубыми джинсами, вульгарными манерами и секретами, с ее громкими выкриками: «Кретин!», «Гадина!». Столь же узнаваема и вся окружающая их дребедень: лампы, диваны, кофейные столики, журналы, дешевые репродукции полотен Ван Гога и розовые крышки туалетных сидений, среди которых они шумно и суетливо обитают. Увидеть извне этот заурядный дом и его заурядных обитателей, высветить их существование в зловещем и беспощадном свете, оценив все его убожество, выпадает на долю лукавого пришельца — коварного и наблюдательного Гумберта: «Бедной этой даме было лет тридцать пять, у нее был гладкий лоб, выщипанные брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты лица того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих… Ее улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови; и пока она говорила, она как бы развертывала кольца своего тела, совершая с дивана судорожные маленькие вылазки в направлении трех пепельниц и камина (в котором лежала коричневая сердцевина яблока); после чего она снова откидывалась, подложив под себя одну ногу». Наступит день, и Шарлотта Гейз проделает это телодвижение в последний раз, очертя голову устремившись в объятия вечности. Она — знаковый образ, смутно предвещающий назревающую грозу. Неустанно твердящая о своей приверженности «принципам», громко декларируемым, но, по сути, легковесным, раздражающая своей бестолковой живостью, своей привычкой упрямо стоять на своем, хотя ей нечего отстаивать, Шарлотта — не что иное, как моралистка без морали, романтичная мечтательница, не ведающая любви, комическая актриса, напрочь лишенная чувства юмора, — иными словами, все то, что омрачает атмосферу праздника и застит безоблачное небо надо всей Америкой. Едва успев выскочить замуж за Гумберта, она туг же проникается убеждением, что он от нее без ума: дефилирует перед ним в брюках или купальном костюме; «откидывается» с еще большим рвением, чем раньше; покупает для себя и супруга новейшей модели кровать; готовит для семейных обедов блюда по завещанным предками рецептам; и, движимая хозяйственным зудом, намеревается учинить генеральный ремонт во всем доме. Однако вкус, который она демонстрирует во всех этих свершениях, вкус, становящийся зеркалом наследуемой ею культуры, ничуть не более привлекателен для Гумберта, нежели зрелая женственность, какой ее наделила природа. Ему, всецело поглощенному худощавыми прелестями Лолиты, безразлично обаяние «слабого раствора Марлены Дитрих»; впрочем, и самой Дитрих вряд ли было бы под силу воспламенить его желание. Иными словами, Шарлотта обречена в романе на роль вечной пародии на женственность, на секс как таковой, сопровождаемый всеми атрибутами и фетишами, символизирующими его самодостаточность, его самоцельность. Наблюдая, как попавший в поле притяжения Лолиты Гумберт все более отдаляется от Шарлотты, можно лишь дивиться тому, сколь малозначима в натуре любого человека эмоциональная сила любовной привязанности. Почему все достается одной женщине, а не другой? Неужели плюс-минус несколько лет и дюйм-другой мягкой плоти в груди или бедрах значат так много? И тут нам напоминают о подчеркнутой неприязни Гумберта к девочкам-подросткам с развитыми формами, этим ходячим символам мужского соблазна, и о его нарастающем страхе при мысли, что не сегодня-завтра и сама Лолита превратится всего лишь в еще одну женщину. («…Может быть, я в них вижу гробницы из огрубевшей женской плоти, в которых заживо похоронены мои нимфетки!») То, что одному мужчине рай земной, другому конец света. Преемник доброй, старой традиции европейского либертинажа, Гумберт ненароком упустил из вида ее суть. Или, точнее, довел ее до абсурда и в итоге обрек себя на нескончаемые муки порочных помыслов и поддельных наслаждений. Маркиз де Сад, еще один либертин с нестандартными предпочтениями, скармливал своим жертвам отравленные карамельки в надежде увидеть, как те будут корчиться в предсмертной агонии; Гумберт же не решается на большее, нежели подсунуть объекту своих вожделений пилюлю снотворного. И что же? К его ужасу, она отказывается действовать… В нескончаемый спазм смешноватой жути превращается эпизод в «Привале Зачарованных Охотников» — отеле в провинциальной глубинке, где Гумберту и Лолите в конце концов удается соблазнить друг друга. Спору нет, его бурлескно-комический эффект — иного рода, чем в сценах с Шарлоттой; однако и тут Набоков считает своим долгом не утаить от нас ни снедающего Гумберта ощущения собственной низости, ни смутно прозреваемой героем сомнительности его торжества. По контрасту в памяти всплывает знаменитый эпизод из романа Пруста — тот, где Шарлюс за приличное вознаграждение уламывает дюжих молодцов выпороть его плетьми. Те соглашаются: отчего бы бравым трудягам, обремененным семьями и долгом перед отечеством, не заработать в поте лица несколько лишних монет? Но эта безудержно смешная сцена предстает чуть ли не фрагментом героической комедии, чем-то вроде очередного подвига Фальстафа или Дон Кихота на фоне нелепых, унизительных неурядиц, преследующих Гумберта на протяжении всей этой бесконечно тянущейся ночи, когда в холле отеля никак не завершится съезд какой-то религиозной организации, в коридорах зловеще поскрипывают половицы, унитазы издают знакомое урчание, а сама Лолита не упокоит свой мятежный дух в объятиях Морфея. Для обоих эта историческая ночь в «Привале Зачарованных Охотников» не что иное, как инициация в неизбежные неудобства и тоскливую суету мотельного житья-бытья, предстоящего им в будущем. «Мое имя» холодно перебил я, «не Гумберг, и не Гамбургер, а Герберт, т. е., простите, Гумберт, и мне все равно, пусть будет одиночный номер, только прибавьте койку для моей маленькой дочери, ей десять лет, и она очень устала». Страх разоблачения неотступно преследует героя. Чтобы ввергнуть его в панику, достаточно подозрительного взгляда инспектора, на границе штата заглядывающего внутрь их машины с вопросом: «А меду не везете?» С парализующим хлюпаньем лопаются шины. Смутную угрозу таят все места, где они могут остановиться на ночлег, будь то непритязательные дощатые постройки или комфортные заведения с такими обращениями в простенках: «Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома. Перед вашим прибытием был сделан полный (подчеркнуто) инвентарь. Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предуведомления всякое нежелательное лицо. Не кладите никакого (подчеркнуто) ненужного материала в унитаз. Благодарствуйте. Приезжайте опять. Дирекция. Постскриптум: „Мы считаем наших клиентов Лучшими Людьми на Свете“». В ходе немыслимого этого путешествия происходит еще одна смена ролей, и Гумберту с нарастающей ясностью раскрываются вся чудовищность и весь подлинный смысл его партнерства с Лолитой. Поначалу он выдает себя за отца девочки с единственной целью ввести в заблуждение местные власти; однако он ловит себя на том, что все чаще и чаще мыслит и действует как реальный отец Лолиты. А к концу пути уже просто смотрит на все произошедшее глазами родителя, разочаровавшего своего ребенка и по-своему разочаровавшегося в нем. «…Я часто замечал, что живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютного зла, мы испытывали странное стеснение, когда я пытался заговорить с ней о чем-нибудь отвлеченном (о чем могли бы говорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальный возлюбленный…)… Она одевала свою уязвимость в броню дешевой наглости и нарочитой скуки, между тем как я, пользуясь для своих несчастных ученых комментариев искусственным тоном, от которого у меня самого ныли последние зубы, вызывал у своей аудитории такие взрывы грубости, что нельзя было продолжать, о, моя бедная, замученная девочка». Душевные муки Гумберта задевают за живое, ибо он не старается облечь их в абстрактные категории морали. Дело не в одном лишь нарушенном обете взаимного доверия, традиционно скрепляющем отношения родителей и детей; героя терзает, что он оказался тотально несостоятелен как любовник Лолиты, ее друг, как человек, пребывающий с нею рядом, и, не в последнюю очередь, как отец. Итог — непоправимая утрата чисто человеческого взаимопонимания между обоими. Для самой Лолиты, как мы убеждаемся в ходе их последней встречи, такой итог не стал полным жизнекрушением; напротив, она явила собой пример непостижимой способности молодых выживать, невзирая на любые превратности судьбы. Вопрос, простит ли она его когда-нибудь, на финальном свидании персонажей даже не всплывает. И это понятно: ее невероятный союз с ним, столь болезненно живой в памяти Гумберта, для Лолиты уже стал своего рода пройденным этапом, островом в океане житейского опыта, представляющегося ей «серией комических номеров». Когда-то она с горькой иронией называла его «папой»; теперь зовет так с печальной серьезностью. Но и это не повод для утешительного самообмана: в ее голосе нет подлинной теплоты, и во всех случаях ушедшего не вернуть. Предательство Гумберта — не родительское, а человеческое — сделало свое дело. Ибо он действительно ее предал, предал непростительно. И то обстоятельство, что поначалу она охотно отвечала на его притязания и уже знала, что такое секс, ничуть не смягчает его вины. Напротив, оно ее лишь усугубляет. Быть может, откровенное насилие нанесло бы ей меньше вреда, нежели такая двусмысленная связь — связь, фатальная суть которой предопределяется сиротством Лолиты: как-никак Гумберт — единственный, к кому она может отнестись как к родителю. И все время, пока перед нами разматывается этот невероятный клубок, искривленные зеркала безошибочно делают свою черную работу, являя читателю, как и в жестоком сексуальном фарсе отношений Гумберта с Шарлоттой, чудовищно деформированное подобие предельно банальной, по сути, жизненной ситуации. Ведь в извращенном партнерстве Гумберта и Лолиты и впрямь есть что-то узнаваемое, некий фрагмент универсальной комедии семейных отношений. Попытавшись оценить ситуацию с точки зрения Лолиты, мы с изумлением узнаем повторяющееся из поколения в поколение детское чувство непонятости, униженности, обделенности родительской лаской — чувство, которое будет доставлять боль до того времени (если, разумеется, повезет и такое время действительно наступит), пока само собою не трансформируется в один из тех «комических номеров», бесконечной «серией» которых и является жизнь, или, если кому-либо повезет больше, чем Лолите, не будет вспоминаться с теплотой. Если же оценить такое положение вещей с точки зрения Гумберта (а она в романе доминирует), то оно покажется еще более сложным, по сути безнадежным. Он — родитель, с грустью догадывающийся, что нити, связывавшие его с ребенком, оборваны. Место доверительного разговора заняла усталая раздраженная перебранка. Обет взаимного доверия замещен постыдной системой сделок и подкупов — иными словами, «нормальным» сговором взрослого с ребенком. Мечтая сделать Лолиту вольной и активной пособницей своих любовных утех, Гумберт, как максимум, может рассчитывать на ее сиюминутную покорность — при условии, что не перестанет задабривать девочку деньгами, тряпками, шоколадным мороженым. И делается в собственных глазах безвольным добытчиком материальных благ, день за днем оплачивая все более крупные счета в бесконечных мотелях жизненного пути. С неподдельной болью констатируя очевидное: объект его страсти не отвечает ему встречной любовью, — Гумберт неизменно терзается смутным подозрением, что виноват в этом он сам. Не случайно, пытаясь подвести итог всем своим щедротам, всем добрым поступкам по отношению к ней, Гумберт невольно суммирует в голове (холодея при мысли, что то же, может статься, в этот миг приходит на ум и Лолите) одни лишь проявления собственной черствости, собственного равнодушия. Вновь и вновь пытается он искупить нанесенный ущерб, восстановить нить утраченной общности. Но каждый раз терпит фиаско, и в душе его просыпаются прежние страхи. «„В чем дело?“ — спросил я. „Дам тебе грош, коль не соврешь“, — и она немедленно протянула ко мне ладошку…» О, эти непостижимые помыслы, эта протянутая ладошка! Что это, как не тяготы, известные каждому семьянину? Учитывая, сколь противоестественные формы обретает в «Лолите» сексуальность, нетрудно предположить, что истолковывать ее начнут по привычной фрейдистской схеме. Отцов, дескать, томит бессознательное стремление переспать со своими дочерьми, дочерей — с отцами. Ахиллесова пята «Лолиты» в том, что подобное ее прочтение попросту неправомерно. С шумом и вызовом выдвигая на первый план тему инцеста, г-н Набоков как бы обращает ее в ничто, отторгая от собственного творения; то же можно сказать и о других расхожих фрейдистских реминисценциях, то и дело всплывающих в повествовании. В этом плане «Лолита» не только не мифологична: она демонстративно антимифологична. Г-на Набокова занимает и волнует другое: смех и слезы, порождаемые фактами бытия, упрямо сопротивляющимися наукообразным схемам, смятение чувств, под которые не подведешь ни клиническую, ни мифологическую основу, горестные банальности, какими испещрена разноцветная чешуя жизни. Говоря так, я имею в виду лучшие страницы романа. Когда смелость авторской фантазии, богатой и безудержной, уступает место не слишком оригинальной шутке или стилизации под Джойса, его выразительность блекнет. Есть просчет и более существенный. Исповедальным романам вроде «Лолиты», отмеченным особой напряженностью повествования, зачастую присущ оттенок не до конца разрешенного конфликта. Дает он себя почувствовать и в бесспорных шедеврах этого жанра — таких, как произведения Констана и Пруста. Суть его заключается в том, что на плечи героя-повествователя в подобных романах (в центре которых — пристальный самоанализ) ложится непомерная нагрузка. Последний, как правило, выступает в них в ролях преступника и судьи одновременно (ситуация маловероятная), и потому ему приходится лезть из кожи вон, дабы убедить нас, что он, с одной стороны, достаточно порочен, чтобы преступить ту или иную норму, а с другой — сохраняет в себе достаточно душевных ресурсов, чтобы раскаяться в содеянном. Что до Гумберта, то его ламентации по поводу «мира абсолютного зла», в котором он обречен существовать, на мой взгляд, звучат странновато, если принять во внимание мотивы и логику его поведения, или, по меньшей мере, не вполне отвечают привычному для персонажа способу выражать свои мысли. Не приходится сомневаться, что здесь на помощь Гумберту приходит сам автор, испытывающий властную потребность сделать значимое обобщение. Не слишком убеждают и запоздалые признания в любви, посылаемые Гумбертом вслед Лолите и исподволь диктуемые, как мне кажется, неким импульсом психологической компенсации. «Я любил тебя. Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя. Я был жесток, низок, все что угодно, mais je t'aimais, je t'aimais!»[121]. Одним словом, «Лолита» — наполовину шедевр комического гротеска, наполовину — непролазная лесная чащоба, откуда доносится волчий вой. Вой реального волка, тоскующего по настоящей Красной Шапочке. F. W. Dupee. «Lolita» in America: A Literary Letter from New York // Anchor Review. 1957. № 2. P. 1 — 13 (перевод Н. Пальцева). Лайонел Триллинг{100} Последний любовник («Лолита» Владимира Набокова) <…> Фабула «Лолиты» — фабула поистине шокирующая. Ибо ее и не воспримешь иначе, нежели как предпринимаемую вроде бы не всерьез, а на деле — хорошо продуманную и спланированную осаду одной из самых незыблемых наших цитаделей, связанных с сексом: табу на половые связи с детьми женского пола, достигшими определенного возраста. (Стоит заметить, что демонстративное сомнение в резонности такого запрета усугублено в романе забвением другого, не менее древнего: табу на кровосмешение.) Разумеется, все мы помним, что Джульетте, просватанной за Париса и по собственному почину (и, добавим, с полного нашего одобрения) отдающейся Ромео, — четырнадцать лет. Мы находим некую идиллическую прелесть в истории о союзе престарелого царя Давида с юной девой Ависагой. И без тени неловкости выслушиваем рассказ Данте о том, что его ранила в самое сердце восьмилетняя Беатриче. Мы не находим ничего экстраординарного в том, что жаркий климат и культурные традиции народов некоторых отдаленных стран (Г.Г., стремясь подать собственный порок в рамках определенной моральной перспективы, услужливо приводит пространный перечень подобных примеров) вносят существенные коррективы в наши представления о возрасте, адекватном для первых проявлений женской сексуальности. Для всех нас далеко позади ощущение первоначального шока, сопряженного с открытием Фрейдом детской сексуальности; да и к тому, что он определяет как «сексуальную основу семейной жизни», вкупе с той ролью, какую она играет в развитии человеческой психики, мы приучили себя относиться без особых эмоций. Семья и общество побуждают нас благодушно взирать на то, как маленькие девочки впервые испытывают на нас, взрослых, свои женские чары, с улыбкой следить за тем, как, открыв их результативность, эти девочки уже сознательно пускают свои чары в ход, а их матери без тени стеснительности добродушно и иронично откровенничают за чашкой чая о взрывной силе владеющих ими сексуальных помыслов. Все мы столь просвещенны, столь современны, столь широки во взглядах. Но стоит лишь взрослому мужчине всерьез взглянуть на ребенка женского пола как на сексуальный объект, как все наше существо немедленно восстает. Нам не приходит в голову задуматься о том, что эта реакция — по сути, животная. И неудивительно: таково одно из немногих табу в области отношений между полами, санкционированных, как нам кажется и сегодня, самой природой. Столь же незыблемой представлялась нам некогда девственность да и супружеская верность женщины; ныне, однако, это уже не так. Сегодняшний романист уже не повергнет нас в молчаливое смущение, описывая сексуальные переживания девушки, вступившей в добрачную связь с мужчиной — неважно, под влиянием ли влюбленности или чистого любопытства; быть может, чуть больший — но все же не экстраординарный — интерес вызовет у нас запечатленная в романе измена женщины замужней. Все, на что может рассчитывать автор романа, — это то, что мы «поймем» его; а из этого явствует, что и он, и мы находимся в одной и той же системе моральных координат. Однако став свидетелями ситуации, нарисованной г-ном Набоковым, мы чувствуем себя шокированными. Шокированными тем глубже, чем яснее осознаем, следуя за прихотливым ходом повествования, что чуть ли не готовы отпустить его герою воплощенное в романе прегрешение. В свое время Чарльза Диккенса, которого уж никак не назовешь наивным человеком, попросили удостоить аудиенции молодую женщину, несколько лет прожившую со своим избранником вне брака. И что же — перспектива такой встречи его несказанно взволновала; а увидев перед собою не исчадие ада, но умную, привлекательную молодую девушку, настоящую леди, он был крайне обескуражен. Вся система его моральных устоев подверглась страшному испытанию. То, что нечто подобное мы ощущаем, столкнувшись с ситуацией, нарисованной в «Лолите», вероятно, невольно предопределило тон моего краткого пересказа ее фабулы: скорее всего, я просто не нашел слов, долженствующих выразить адекватное негодование. И я вовсе не исключаю, что любой читатель романа поймает себя на том же; иными словами, воспримет воплощенный в нем фабульный клубок не столь как «абстрактный», «моральный», «вселяющий ужас», сколь как конкретный и — по-человечески — «понятный». Вглядимся внимательно: по ходу повествования нас все меньше и меньше интересует фабула; нашим вниманием всецело завладевают люди. Вольно Гумберту называть себя чудовищем! Спорить с мнением героя о самом себе язык не поворачивается, однако важно другое: нам-то по ходу дела все реже и реже приходит в голову ассоциировать его со злодеем. Вероятно, степень его падения не слишком усугубляет в наших глазах то обстоятельство, что его жертва отнюдь не невинна и, строго говоря, не так уж противится учиняемому над нею насилию; к тому же спросим себя: разве странно испытывать некую снисходительность по отношению к насильнику (напомним: в судебном смысле слова и по умыслу Г.Г. таковым и является), который до гробовой доски остается безраздельно предан своей жертве! Но стоит нам чуть-чуть поостыть со временем от эмоционального воздействия романа, стоит выйти из-под гипноза безумной страсти Г.Г., всему на свете находящей рациональное основание, стоит погрузиться обратно в реальный мир, где двенадцатилетние девчушки томятся над учебниками социологии и претерпевают муки мученические от дантистов, забирающих скобкой их зубы, — и нами вновь завладевает праведное негодование при мысли о попранном древнем запрете. Завладевает в тем большей мере, что еще совсем недавно мы как бы пассивно соучаствовали в акте такого попрания, позволив собственному воображению претворить в реальность то, что по нашим обыденным понятиям абсолютно недопустимо. С какою же целью, спросим себя, провоцирует г-н Набоков наше праведное негодование? Я уже оговаривал, что нет никакого резона пытаться объяснить дело авторским интересом к «психологическим» аспектам фабулы: нетрудно убедиться, что такого рода интерес г-ну Набокову несвойствен. Его роман — что угодно, только не «исследование» чувств и эмоций, в нем описанных. Недоверие, испытываемое Г.Г. к психиатрии, вполне адекватно набоковскому; ученые концепции психиатров в глазах и романиста, и его персонажа — не более чем повод для язвительного осмеяния. На долю психиатрии и общества оставлена сомнительная привилегия снабдить научным — или отталкивающим — ярлыком сексуальную идиосинкразию Гумберта; что до романа, то в нем она трактуется как любовное состояние под стать всякому другому. Мы можем быть уверены и в том, что в задачу г-на Набокова никоим образом не входит подрыв моральных устоев. Не его дело, спровоцировав сексуальную революцию, уравнять педофилию с обычными и допустимыми формами межполовых взаимоотношений. Конечно, «свирепость и веселость» Гумберта, то, что можно назвать его моральным релятивизмом, порою граничащим с абсурдной анархичностью, окрашивают в соответствующую тональность повествование романа, и эта тональность находит странные созвучия в наших душах, равно как и безграничность снедающей Гумберта страсти. Однако вся анархическая стихия, по волнам которой мы плыли, без остатка иссякает ближе к концу романа, когда Г.Г., обретая до того не присущую ему серьезность, печально размышляет о хаосе, в какой он превратил существование Лолиты. Можно, разумеется, предположить, что шокировать нас было для г-на Набокова самоцелью, что он замышлял свое произведение как универсальную сатиру, цель которой — заставить нас изумиться самими собой, поставив под сомнение самоочевидную для нас моральную простоту. Этой цели он достигает с помощью приема, который я уже описывал: побуждая нас свыкнуться с сексуальной ситуацией, призванной вызвать негодование, а затем — оставляя наедине с нашим молчаливым примиренчеством. И наконец, вполне возможно, что в задачу г-на Набокова входило сатирически отобразить более конкретное явление — сексуальное лицемерие специфически американского образца. Я имею в виду подчеркнутую публичность, какой мы окружаем разные проявления сексуальности, бесконечную стимуляцию сексуального начала, сексуального удовлетворения, сексуальной конкуренции, ареной которой становятся наши массовое искусство и реклама. Во имя чего ребенка женского пола с самых ранних лет учат придавать значение блеску и шелковистости волос, гибкости фигуры, всем атрибутам внешнего вида, символизирующим неизменную готовность к приключению? Во имя чего, если не для того лишь, чтобы в один прекрасный день она стала образцовой стюардессой авиалайнера? Или для того, чтобы она смогла обрести то испускающее звездное сияние ощущение собственного достоинства и значимости, которое, как мы знаем, отмечает любую настоящую добродетель, любое подлинное свершение? Или для того, чтобы ее муж и дети не только не стыдились, но, напротив, гордились ею? Так рассуждают школьные директрисы, попечители женских учебных заведений, воспитательницы, родители. Однако не секрет, что в рамках любых иных культурных общностей (а г-ну Набокову известно их немало) целью этих навыков и талантов является нечто иное — постельные услады; и, коль скоро навыкам этим учат с самых ранних лет, логично, что речь идет о ранних постельных усладах. И все же действительная причина, обусловившая, как мне кажется, обращение г-на Набокова к столь вызывающему жизненному материалу, заключается в том, что он стремился написать книгу о любви. Ибо «Лолита» — именно об этом. Чтобы не быть понятым превратно, уточню: «Лолита» — книга о любви, а не о сексе. Каждая ее страница апеллирует к эротическому чувству, рисует недвусмысленно эротическое действие или проявление, и при всем том эта книга — не о сексе. Она — о любви. Данное обстоятельство делает ее уникальной в сфере знакомой мне современной романистики. Что до последней, то, воздавая ей кредит доверия, приходится признать, что любовь бесследно исчезла из западного мира, как это некогда и предсказывал Дени де Ружмон. Современный роман может во многом расширить наши представления о разных аспектах сексуального: о тонкостях физического сближения, о приоритете взаимности в интимных отношениях, о самых разных оттенках этих отношений, соединяющих мужчин и женщин; и, разумеется, о браке. О любви же, когда-то бывшей одним из центральных его объектов, он не способен поведать нам ничего. Вспомнить о Дени де Ружмоне побудила меня его запоздалая, странная, высокомерная атака на любовное чувство — точнее, на ту его форму, которую, насколько я помню, он определяет как любовь-страсть, — иными словами, то самое, с чем европейская литература имела дело с незапамятных времен, но с особо заинтересованным вниманием — с той поры, когда возник цикл героических преданий о короле Артуре, а в обществе воцарился куртуазный любовный кодекс. Любовь-страсть была специфическим мироощущением, присущим отнюдь не всем (знатоки ограничивали круг ее носителей дворянством), но неизменно волновавшим едва ли не каждого, кто вообще был небезразличен к жизни чувств. На протяжении веков это мироощущение формировало наши представления о других видах любви, обусловливая правила и конвенции, посредством которых они запечатлевались в литературе. Непременным условием этого вида любви было то, что она не имела ничего общего с браком и не могла существовать в брачных узах. Андреас Капелланус в своем трактате о куртуазной любви с аксиоматической прямотой утверждает, что муж и жена по определению не могут быть любовниками. В основе подобного тезиса лежала посылка, согласно которой отношения между супругами, включая имущественные вопросы и необходимость продолжения рода, носили практический и обусловленный особенностями брачного контракта характер. Брак отнюдь не был системой взаимоотношений, в которой находилось бы место сердечной склонности и душевному расположению; более того, само семейное положение женщины исключало для нее возможность отдаваться избраннику по доброй воле, ибо ей предписывалось принадлежать супругу в знак повиновения. То, что любовь может существовать лишь за пределами брачных уз и в большей или меньшей оппозиции к ним, с точки зрения представителей европейского дворянского сословия, чьи эротические ожидания пребывали по ту сторону супружества, было неоспоримо. Не приходится сомневаться в том, что одной из самых важных и любопытных трансформаций, какие претерпела культура Европы, явилась следующая: представители средних классов, до поры тотально отрешенные от прерогатив и добродетелей, прокламировавшихся куртуазным любовным кодексом (ибо быть благородным любовником и в то же время заниматься ремеслом — две вещи несовместные), в свой черед начали не без успеха осваивать этот изысканный способ мирочувствования, исподволь преобразуя его применительно к собственным жизненным условиям. Своеобразным итогом стало то, что ценностные ориентиры куртуазного кодекса распространились и на брак как таковой, возвысив любовь между супругами до недосягаемого статуса любви-страсти. Стоит заметить, что кое-что из возвышенных ожиданий и духовных идеалов той поры не утратило магической силы до наших дней: так, современные представления о формах, разнообразии и неповторимой остроте любовных переживаний сложились под влиянием развитых форм любовной поэзии, любовной музыки, любовной драмы — т. е. всего того, в чем от века находила выражение любовь-страсть. Однако сексуальная революция наших дней с неизбежностью привела к драматическому концу эту гармонию любви-страсти и брака. Быть может, единственное, что продолжает ныне роднить первое со вторым, — это уверенность в том, что любящим принадлежит суверенное право выбирать друг друга и их выбору, священному по определению, ничто не должно препятствовать. Если вынести за скобки этот аспект, окажется, что практически любая сторона теперешних отношений между влюбленными — не что иное, как опровержение былого идеала любви. Пытаясь же, апеллируя к опыту литературы нашего времени, составить для себя представление о современном идеале отношений между мужчиной и женщиной, приходишь к мысли, что развиваться они должны, судя по всему, в такой очередности: сексуальное сближение, в той или иной мере предварительное или пробное, потом сексуальная связь, а затем уже брак. В ходе последнего неизбежен период, на протяжении которого муж и жена, каждый со своей стороны, стараются освободиться от груза собственных чисто символических чувств по отношению к партнеру по браку, стремясь увидеть друг друга без иллюзий — такими, каковы они на самом деле. То, что им это удается, свидетельствует о зрелости. Отныне перед мужем и женой открывается перспектива жизненной общности. В эту общность супружеского союза, предполагающую взаимность и теплоту, входит и потомство. По отношению друг к другу, равно как и по отношению к потомству, супруги проявляют понимание и терпимость, достичь которых легче при наличии здоровых сексуальных взаимоотношений. Залог успешности такого брака — здоровье, соответствие норме; не случайно словосочетание «нормальный брак» всегда употребляется в позитивном смысле. Уже одно это красноречиво свидетельствует о том, сколь далек современный любовный идеал от понятия любви-страсти. Ведь изначально слово «страсть» означало расстояние, дистанцию, удаленность. Сегодня мы пользуемся им, стремясь обозначить сильное чувство, и невольно игнорируем былое разграничение между страстью и чувством — разграничение, в рамках которого страсть предстает как чувство, обрекающее нас на бессилие, на страдание, на скованность. Согласно куртуазному кодексу, носитель любви-страсти — больной, страждущий. Ему подобало вслух заявить о своих муках, демонстрировать симптомы физического и духовного недуга. И, если попытаться измерить этот недуг по современным медицинским критериям, придется заключить, что налицо — весьма тяжелая форма помешательства. Страсть такого влюбленного, предполагавшая маниакальную преданность и мазохистское самоуничижение, носила всепоглощающий характер, исключая из поля его зрения все, кроме объекта любви: он служил своей госпоже как слуга, как раб, наслаждался ее безраздельным господством, ждал, что она ниспошлет ему страдание, так или иначе явит свою жестокость. Нет надобности оговаривать, что речь идет о литературных условностях, а не о реальных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, существовавших в средневековье. Следует, однако, констатировать, что данная условность приобрела необычайную эмоциональную силу и, помимо всего прочего, оказалась на редкость стойкой: вплоть до конца XIX века ею определялась манера публичного изъявления любовных чувств. Нетрудно заметить, что как раз в ходе XIX столетия произошла симптоматичная подмена: носитель творческого духа, художник воспринял ряд существенных характеристик, присущих пленнику любви-страсти: его одержимость, его самобичевание, его возвышенное служение идеалу и его неприятие социальных норм, его склонность к бунту. Ибо что, как не бунт, лежало в основе любви-страсти, не только превратившей в свою противоположность супружеские отношения мужчин и женщин, но и исподволь трансформировавшей сам институт брака? В не меньшей мере любовь-страсть способна была подорвать в человеке чувство социальной ответственности, его порядочность. В обоих случаях дело доходило до взрыва, и мощностью этого взрыва определялась сила любви. Как правило, этот взрыв приводил любящих к катастрофе, к гибели. Ибо один из клинических показателей любви-страсти заключался в том, что она начисто игнорировала определенные общественные установления, дезавуируя и обесценивая в обыденной жизни и то, что в рамках этой жизни было действенно и позитивно. В этом отношении мироощущение влюбленного вполне адекватно мироощущению художника: и тот и другой заворожены ценностями и вещами, лежащими по ту сторону обыденного. Итак, вполне вероятно, что все провозглашенное кодексом куртуазной любви нелепо и по сути патологично. Вполне вероятно, что, к нашему благу, все это осталось далеко позади и можно с удовлетворением констатировать, что наш современный любовный идеал: идеал прочного, здорового, счастливого, отмеченного взаимной терпимостью, пониманием и юмором брака на сотни световых лет отстоит от завещанного средневековьем идеала любви-страсти. Похоже, внешний мир укрепился в убеждении, что так оно и есть; примеров тому масса — от популярной беллетристики и простейших пособий по домоводству до научных трудов по психоанализу и произведений Д.Г. Лоуренса, в чьих глазах «любовь» была равнозначна отлучению от первозданного рая. И все же былой идеал, как уже говорилось, не утратил для нас своего очарования; в какой-то мере он нам еще импонирует, сохранив прелесть и глубину любовного переживания, которые, как бы яростно мы этого ни отрицали, в сегодняшнем мире остаются для нас закрытой книгой. Если нынешнему романисту неведомо почему придет в голову написать книгу об этой, канувшей в забвение, любви, что станет ему путеводной нитью? Как выявить — и выстроить — те сюжетные компоненты, благодаря которым она станет возможной? К примеру, если непременным условием ее является бунт, взрыв, эксцесс, что может послужить для него побудительным импульсом? Разумеется, не адюльтер (выше я уже останавливался на этом и не хочу повторяться). Самое слово звучит в наши дни архаично, да и пользуемся мы им, лишь говоря о прошлом или пускаясь в тонкости юридической практики. Ныне супружеская неверность не воспринимается как фактор, с неизбежностью ведущий к разрушению брачного союза, да и самый эпитет «неверный», в свое время обладавший столь убийственной силой, кажется не вполне привычным для современного уха, явно не до конца вписываясь в каноны нашего обыденного поведения. Несколько лет назад Уильям Баррет, анализируя воздействие шекспировского «Отелло» на современную аудиторию, задался вопросом: может ли кто-нибудь в наши дни всерьез проникнуться чувствами и ощутить себя в шкуре ревнующего Отелло? Мне кажется, и то и другое возможно. В нашем сознании еще более чем достаточно унаследованных от прошлого чувств (в глубинах мозга вообще ничего не исчезает бесследно), чтобы мы смогли поставить себя на место шекспировского героя и в точности пережить всю гамму обуревающих его ощущений. И отнюдь не стоит упускать из вида различий между литературой и жизнью. Сказать, что нашим современникам вовсе чужда ревность на сексуальной почве, было бы, конечно, неправдой: ревность и сегодня — одно из самых сильных чувств. Однако им все труднее найти внутреннее обоснование для того, чтобы позволить этому чувству выйти наружу. Нынешнему литератору вряд ли удастся потрясти нас, поставив своего героя в положение шекспировского Отелло, ибо, переживи он даже нечто подобное в собственной жизни, ему не под силу окажется сообщить этому чувству, столь неоспоримо реальному, острому и болезненному в эпоху Шекспира, ту меру интеллектуальной достоверности, какая могла бы тронуть души читателей. Однако забвение табу, охраняющего невинность очень молоденьких девочек, и сегодня таит для нас часть той взрывной силы, какую инициировала в эпоху Шекспира измена жены. Влечение Г.Г. к Лолите становится для общества столь же скандальным вызовом, как и любовь Тристана к Изольде или Вронского к Анне. Оно, как и требует применительно к влюбленным литературная конвенция, ставит персонажей вне закона. Далее. Коль скоро романист поставил перед собой задачу выстроить подобающую истории любви-страсти сетку фабульных координат, он должен обставить все так, чтобы в принципе исключить для своих героев возможность брака. Иными словами, в их отношении друг к другу не может быть и тени практичности, их добродетелям и достоинствам не должно соотноситься с бренными заботами этого мира. Ведь как только в романном конфликте начинает высвечиваться фактор взаимности, общего интереса, сотрудничества, терпимости, озабоченности каждой из сторон материальным или общественным статусом другой, в силу вступают этические законы семьи или брака, а следовательно, персонажи перестают соответствовать своему привилегированному положению любовников, отрешенных от всего земного. Поведение последних в отношении друг друга должно быть в точности антагонистично тому смыслу, какой мы вкладываем в понятие «зрелость»; другими словами, в их восприятии друг друга и окружающего мира должен прочитываться всепоглощающий детский абсолютизм. Итак, мужчина, пребывающий в тисках неизбывной похоти, и девочка двенадцати лет — чем не идеальная пара для истории любви, создающейся в наше время? Г.Г., по крайней мере на начальном этапе его романа с Лолитой, стопроцентно свободен от побудительных импульсов — морального ли, психологического ли порядка, — которые можно было бы охарактеризовать как практические. Что до Лолиты, то для нее, не способной даже отдаленно представить себе роль женщины в браке, возможность хотя бы минимально приблизить рамки их отношений к супружеским исключена автоматически. Она обречена вечно играть роль жестокой госпожи: даже когда любовник физически овладевает ею, ему не дано вкусить сладости ответного чувства — по причине возраста ли, темперамента ли она таковым просто не обладает. Следующая задача романиста — придать овладевшему любовником наваждению видимость серьезности и достоверности. Сегодня отнюдь не просто заставить аудиторию поверить в то, что рассудок и даже сама жизнь человека всецело зависит от каприза той или иной женщины. Не так давно, разбирая со студентами «Liber Amoris»{101}, я убедился, что они не в силах уяснить для себя природу болезненной привязанности Хэзлита к Саре Уокер. Они упрямо отказывались понять, отчего превыше воли человеческой — разбить оковы такой неразделенной, такой невознаграждающей любви. Тогда их эмоциональная глухота вызвала у меня протест; но несколько позже я пожалел о нем, поймав себя на том, что с трудом заставляю себя поверить в правдоподобие прустовского рассказа о привязанности Свана к Одетте. Впрочем, все наши сомнения отступают на второй план, как только факт помешательства человека удостоверяется научным диагнозом, вскрывающим его патологическую основу — то или иное сексуальное извращение. Неожиданность эротического предпочтения влюбленного находит основу в медицине. Может сложиться впечатление, что, анализируя «Лолиту», я поставил себе целью всесторонне разобрать ту эмоциональную реконструкцию, произвести которую задался целью г-н Набоков. Не берусь утверждать, что именно таков был его исходный замысел, однако подобный подход позволяет яснее увидеть, сколь решительно обращена в прошлое набоковская «Лолита», сколь последователен ее автор, атакуя едва ли не все, что общепринято сегодня в сфере морали и общественных нравов, в своей попытке реставрировать канувший в небытие способ чувствовать и любить. Эта программная архаичность «Лолиты» всего очевиднее в том, каким видится герою объект его страсти. Мы, во всеоружии наших широких взглядов на вопросы морального свойства, подчас искренне изумляемся тем мимолетным черточкам в облике возлюбленной, какие властно приковывали внимание персонажей-любовников в романах XIX столетия: выражению глаз, изгибу бровей, капризному локону, прихотливой линии лодыжки, кисти, уха; детали эти кажутся ненужными и незначащими нынешнему читателю, в точности осведомленному о форме и объеме бюста героини, ее талии, бедер и ягодиц. Однако было бы ошибкой считать, что напряженное внимание любовника — или романиста — к тем деталям женского облика, которые не являются чисто эротическими, обусловлено одной лишь литературной конвенцией. Нет, в основе этого жадного интереса лежит неотделимый от любви-страсти фетишизм — своего рода синекдоха любовного порыва, посредством которой часть возрастает до масштабов целого и даже перчатка или шарф возлюбленной обретают эротическую ценность. Именно так благоговеет Г.Г. перед Лолитой, и на фоне его сексуальной ненасытности (которую сам персонаж называет «обезьяньей») это благоговение оказывается для нас еще одним шоком. И в самом деле, вряд ли в современной прозе можно найти другого героя, который думал бы о своей возлюбленной с такой нежностью, воскрешал бы облик женщины с таким изяществом и тонкостью, как воскрешает Г.Г. облик Лолиты. Достаточно вспомнить хотя бы один, редкий на фоне нынешней литературы, пример: исполненное эмоциональной возвышенности описание игры девочки в теннис, когда даже ее теннисная ракетка таит в себе для героя неизъяснимое очарование. Невозможно, мне кажется, не уловить конечную цель, во имя которой г-н Набоков творит чудеса археологии эмоций. Эта цель — поставить под сомнение и дискредитировать все проявления рационализма, сопутствующие нынешнему прогрессу, не только как абсурдные сами по себе, но прежде всего потому, что они положили конец безумию любви. Однако убежденность в этом не затуманивает ясности видения г-на Набокова, из поля зрения которого не ускользает подлинная природа этого чувства. Ведь не кому-нибудь, а Г.Г., этому воплощению свирепости и веселости, выпадает на долю напомнить нам, что «любовь, одной себе послушна, / Способна сделать Адом Рай». Впрочем, те страницы романа, где он высказывает свою солидарность с этими словами поэта, не столь выразительны, как хотелось бы; они диссонируют с общей тональностью и строем романа. Но как знать: не по этой ли именно причине они настораживают и впечатляют (если, конечно, читатель, со своей стороны, не придаст им сентиментального оттенка)? В конечном счете Г.Г., испытывая внутреннее высвобождение, капитулирует — капитулирует перед неотвратимой диалектикой истории любви. Я уже говорил о любви-страсти как антитезе брака, констатируя неизбежность ее гибели, как только в душах ее носителей зарождаются сопутствующие браку предпосылки. И все же неоспоримо, что конечное ее устремление, ее апофеоз — всегда брачный союз: неповторимый, идеальный, не возможный ни для кого, кроме данной пары влюбленных, но — брачный союз со всеми его обетами и ритуалами. И именно о таком союзе начинает со временем грезить Г.Г. Как известно, г-н Набоков, помимо многих других присущих ему талантов и дарований, признанный ученый-энтомолог. Так вот: оставляю на усмотрение какого-нибудь особо дотошного приверженца метода «пристального прочтения» всесторонне оценить то обстоятельство, что романист-энтомолог пользуется в своей книге словом «nymph», которое в лексиконе энтомологов означает «куколку», т. е. промежуточную стадию развития насекомого. Есть ли в этом некий глубинный смысл, предоставляю решить стороннику названного подхода к художественным произведениям. Однако напомню, что г-н Набоков — не только энтомолог, но и лингвист, владеющий несколькими языками. И ему, разумеется, ведомо, что по-гречески слою «nymph» означает «невеста». Он не утруждает себя тем, чтобы осведомить нас об этом; однако едва ли случайно на последних страницах романа он вспоминает о бурном, экстатическом брачном союзе Эдгара По и Вирджинии. И не случайно одно из позднейших размышлений Г.Г. о Лолите — размышление о чувстве постоянства, какое пробудила она в нем, невзирая на то, что разрушительный бег времени уже успел притушить в нем былой зов плоти. <…> Не исключено, что г-н Набоков всего лишь расставляет здесь хитроумную эмоциональную ловушку для читателя, что к поздним откровениям Г.Г. стоит относиться с несравненно большей долей иронии, нежели та, которой они на первый взгляд заслуживают. Но и этого не буду утверждать с определенностью. Вполне возможно, что г-н Набоков искренне стремится к тому, чтобы мы всерьез усмотрели в них вершину моральной эволюции Г.Г. Возможно даже, он хочет убедить нас в том, что восхождение Г.Г. от «обезьяньей» похоти к вершинам любви, равно бросающей вызов дьяволам в земных низинах и парящим в небесных высях ангелам, любви, призванной навеки разлучить его душу с душою Аннабел Ли, символизирует замкнутый круг существования эротического инстинкта. Мне кажется, при усилии я смог бы принять Гумберта как трагического героя, но мне легче быть на равной ноге с Гумбертом-антигероем, Гумбертом — побочным братом племянника Рамо. Впрочем, из того, что мне нелегко дается отождествить себя с Гумбертом как трагическим героем, еще не следует, что я усматриваю в этом художественный просчет, допущенный автором. Напротив, одно из привлекательных свойств «Лолиты» в моих глазах — как раз двусмысленность ее повествовательного тона и общая двусмысленность ее замысла, способность романа побудить читателя усомниться, вывести его из равновесия, заставить произвести ревизию своего мыслительного арсенала, занять новую исходную позицию и — двинуться дальше. «Лолита» не позволяет нам успокоиться и мирно пустить корни. Возможно, как раз благодаря странному ощущению моральной мобильности, какое роман разбередил в наших душах, его автору и удалось с такой незаурядной силой запечатлеть в нем определенные стороны американской жизни. Lionel Trilling. The Last Lover. Vladimir Nabokov's «Lolita» // Encounter. 1958. Vol. 11. October. P. 9–19. (перевод Н. Пальцева). Элизабет Джейнуэй{102} Трагедия человека, одержимого страстью Знакомясь с «Лолитой» впервые, я подумала, что это — одна из самых смешных книг, какие мне довелось прочесть. (То был сокращенный вариант романа, напечатанный в «Энкор ревью» в минувшем году.) Читая ее по второму разу, без сокращений, пришла к выводу, что передо мной — одна из самых печальных. Упоминаю о своем личном впечатлении лишь потому, что «Лолита» — одна из тех нечастых книг, что влекут за собой длинный шлейф противоречивых мнений, какие способны и впрямь дезориентировать неискушенного читателя. Что это за произведение: шокирующее, порнографическое, аморальное? И что есть самый акт знакомства с ним: простое, невинное чтение или сознательная акция, с неизбежностью ставящая того, кто на нее отважился, по ту или иную сторону баррикад? Какую позицию по отношению к нему займет общество ревнителей нравственности? А Сартр, а Грэм Грин, а «Патизэн ревью»? Не каждая книга выдержит подобный натиск. «Лолита» противостоит ему на редкость стойко, пусть даже ее создатель счел необходимым снабдить книгу послесловием, призванным объяснить природу его замысла. Последнее, впрочем, как мне кажется, приближает нас к истине не больше, нежели намеренно нелепое — и удивительно забавное — предисловие, якобы принадлежащее «Джону Рэю-младшему, доктору философии», этой с блеском выполненной гротескной фигуре, воплощающей всю помпезность словоблудия, исторгаемого академическими кругами Америки. В то же время Владимир Набоков прекрасно знает, что делает, высвечивая интригу своего романа в целом ряде мнимых зеркал: их функция — в не меньшей мере скрывать и затемнять, сколь и отражать. Ведь его писательская задача — не в том, чтобы потворствовать простодушному энтузиазму борцов за гражданские свободы или сокровенным восторгам затаившихся развратников; она в том, чтобы писать для читателей, и те из них, кто в наименьшей степени предубежден, окажутся в наибольшей мере вознаграждены за свои старания. Он обожает рамки, зеркала и то воздействие, какое они оказывают на читающего. Финальную, завершающую представляет собой сама личность повествователя по имени Гумберт Гумберт <…> В авторском послесловии г-н Набоков ставит нас в известность о том, что у «Лолиты» нет морали. Со своей стороны могу лишь добавить, что судьба Гумберта представляется мне трагической в классическом смысле слова, иными словами — самым законченным выражением той нравственной истины, какую Шекспир сформулировал в своем сонете, начинающемся словами: Издержки духа и стыда растрата — И так далее, вплоть до расшифровки шекспировских эпитетов, квалифицирующих последнее: Безжалостно, коварно, бесновато, Гумберт — это персонаж с роковым изъяном. Гумберт — каждый, кто одержим страстью, каждый, кто так отчаянно жаждет своей Лолиты, что ему и в голову не приходит увидеть в ней живое существо, хуже того: нечто, не вмещающееся в эфемерные координаты мечты, воплощенного идеала; такова извечная природа страсти. Таким образом, автор повествует о сладострастии как таковом. По ряду непростых причин он наделяет несчастного Гумберта редкими и запретными наклонностями. Сама «беззаконная» их природа призвана, во-первых, приковать к себе внимание обескураженного читателя, а во-вторых — исключить ложную сентиментальность, каковая могла бы стать препоной трезвого суждения этого читателя о герое. В то же время, стремясь вызвать в душе читателя чувство бессознательного самоотождествления с Гумбертом, с его муками, г-н Набоков искусно обыгрывает присущую американской культуре апологию привлекательности всего юного и преимущественное внимание, уделяемое фигуре тинейджера. Оба этих приема приводятся в романе последовательно и неуклонно, с разных сторон демонстрируя всеохватную и болезнетворную эгоистичность страсти. Но ни один из них не затемняет главного — авторского стремления показать губительность снедающей человека страсти, взыскующей удовлетворения независимо от того, каким образом она отразится на судьбах тех, кто вокруг нас. Ибо Гумберт — это мы все. Так обстоит с моралью книги, предположительно не таящей в себе морали. В плане исполнения она безупречна, сочетая в себе безошибочный юмор с чутким вниманием к малейшим деталям социальной характеризации. Если в романе и есть художественный просчет, то он заключается в том, что, наделяя своего персонажа ролью повествователя, г-н Набоков возлагает на него бремя, едва ли подъемное для литературного героя. Гумберт то и дело обнаруживает тенденцию превратиться в аллегорическую фигуру, в своего рода человека вообще. Когда это случается, художественное равновесие книги терпит ущерб, ибо все остальные его персонажи органичны и предельно жизнеподобны. Из сплошного повествовательного потока порою выбивается один Гумберт, как будто, выписывая его черты, г-н Набоков положил на полотно чуть больше краски, нежели следовало; и этим избытком краски, подозреваю, как раз и оказалась та моральная ноша, какую создатель романа и наложил на беднягу Гумберта. Но, как бы то ни было, «Лолита» остается одной из самых забавных и самых печальных книг, каким суждено выйти из печати в этом году. Что до ее порнографичности — мало найдется книг, где прямое и непосредственное отображение похоти столь очевидно служит противоядием ее беспокойному пламени. Elizabeth Janeway. The Tragedy of Man Driven by Desire // NYTBR. 1958. August 17. P. 5 (перевод Н. Пальцева) В.С. Притчетт{103} Рец.: Lolita. London: Weidenfeld & Nicolson, 1959. В защиту так называемого «непристойного», непечатного в литературе Бернард Шоу выступал еще в самом начале нынешней сексуальной революции. Теперь ее развитие завершило первую фазу. Переполох, поднятый вокруг «Лолиты», шокирующего романа русского эмигранта Владимира Набокова, показывает, что ныне открывается выход в новую, неизбежную фазу, по крайней мере в отношении литературы. В свое время под напором общественного мнения пришлось признать «Улисса» Джойса и «Волокиту» Бернарда Шоу. Ныне их читают вполне свободно, наравне с прочими популярными книгами о любовных утехах. Впрочем, закон остался в этом отношении на прежних позициях, и писатели крайне осторожно касаются щекотливых тем. А между тем общественное внимание, заинтригованное опытом судебной и медицинской практики, уже давно созрело для откровений, касающихся мотивов поведения сексуальных извращенцев. И Владимир Набоков первым бросает обществу вызов. Он развертывает подробный до мелочей животрепещущий рассказ об утонченном, болезненно чутком, безнадежно асоциальном и потому обреченном маньяке, несчастном совратителе малолетней девочки. Давно замечено, что за запрещение «развратных» книг больше всего ратуют именно те, кто особенно падок до подробных газетных отчетов о такого рода случаях. А «Лолита», между прочим, невзирая на английские законы, свободно выдается на руки в публичной библиотеке Танбридж-Уэллс, причем особенным спросом не пользуется. Когда роман появился в США, его литературные достоинства верно, хотя довольно экстравагантно, оценили критики, в том числе Эдмунд Уилсон и Лайонел Триллинг. Умная, поистине выдающаяся книга. Впрочем, такие понятия, как художественные достоинства, авторский замысел, даже концепция произведения в целом, не имеют никакого значения при современной цензуре, если автору не повезет с судьями. (Основной вопрос — испортит ли книга и без того уже изрядно испорченные нравы. Это никогда нельзя определить. Тем не менее американцы все-таки рассудили, что книга вряд ли способна сыграть какую-то роль в распространении сексуальных извращений.) Кроме того, не все случаи литературных непристойностей уже расклассифицированы по статьям закона, и верных средств отличить художественное произведение от коммерческой порнографии у вершителей правосудия нет. Однако звать на помощь специалистов автору не дозволено. Он оказывается на положении преступника, только прав у него еще меньше. Что ж, попробуем восстановить справедливость и выступить в роли адвоката «Лолиты». К несчастью, г-н Набоков сам вставляет защитнику палки в колеса. Ведь его повествователь не только рассказывает о своей страсти к 12-летним девочкам, которых «бесстыдно» называет нимфетками, не только живописует, как был соблазнен одной из них, намекая на интимные подробности (хоть и с большей осторожностью, чем в соответствующих эпизодах «Улисса» или «Любовника леди Чаттерлей», «Мемуаров» Казановы и подавляющего большинства современных романов второго ряда, изобилующих куда более подробными описаниями сексуальных действий), — он идет гораздо дальше. Он прямо оскорбляет нашу мораль, откровенно высмеивая ее. Думается, это первый «непристойный» роман-фарс, а точнее, остроумно-ироничная сатира, ибо герой-повествователь — настоящий бунтарь, восставший против устоев современного общества. Те, кто описывает преступления против морали, обычно серьезны, даже многозначительны. Ни намека на улыбку нет в откровениях Казановы. Лоуренс наставителен. Джойс полон отвращения. Набоков же насмешлив и язвителен. Торопливый читатель может заподозрить его в цинизме, даже если согласится, что герой неуместно шутит единственно от сознания собственной безнадежности. Это смех ненависти к самому себе. Где еще мы слышим похожий смех над табу? В произведениях многих сатириков. Вспомним Хаксли и прежде всего «Незабвенную» Ивлина Во. Но Набоков иной, и нам следовало бы разобраться в причинах его смеха — в них разгадка его творчества. Любители порнографии не смеются. В более ранних романах (например, в романе «Пнин», вышедшем два года назад), при всей деликатности, оригинальности и причудливости изложения, Набоков опасно остер. Его книги, и в частности эпилог «Лолиты», дают понять — и этим он напоминает Во, — что единственно достойный ответ стандартизированному обществу пошляков и убийц — это дразнить их своей «оскорбительной наглостью» в суждениях. Особенно тяжело видеть порочность в ребенке. Эту мысль высказывает Генри Джеймс, размышляя о «Повороте винта». С этим нельзя не согласиться. Интеллектуальный психопат Набокова водит за нос психиатров то одной, то другой клиники, внутренне гордясь собственной неизлечимостью. Он убежден, что, отклонившись от нормы, будет счастлив и воплотит детскую фантазию. Все это архетипично: он просто хочет жить на пустынном острове, лелея образ умершей возлюбленной. Какая ядовитая сентиментальность! Поистине «Лолита» похожа на грубую, прямолинейную шутку оскорбленного человека, пришедшего к выводу, что попирать чужие чувства — нормально: это дает сознание собственного превосходства. (Почему бы, к примеру, не утопить мать девочки, раз она мешает?) Он издевательски высмеивает не только нормальные сексуальные отношения, внося в любовные чувства мрачную сентиментальность. С непревзойденным блеском он изливает злость на современную американскую цивилизацию: шоссейные дороги и мотели, школьное образование и летние лагеря, туризм и социальные устои. Чего стоит хотя бы изощренная беседа с директрисой школы для девочек. А в финале он высмеивает наши устоявшиеся понятия об убийстве. У Набокова поистине дар размежевания с обществом! Он заканчивает книгу злодеянием, которое выставляет блестящих героев «респектабельных» боевиков и их создателей, промышляющих сбытом садистских триллеров (коим нимало не угрожает судебное преследование), тем, кем они являются — распространителями фальшивок. У Набокова убийство, при всей его комичности, нестерпимо безобразно. Настоящее убийство, без прикрас. С помощью какого извращения нравственного чувства обществу удалось сформировать взгляд на убийство как на «пристойное», а на секс — как «непристойное» по своей сущности? Умный, рафинированный психопат, порабощенный жертвой своего преступления, униженный ревностью, Гумберт в конце концов сам называется жертвой. Он отнюдь не первый совратитель «невинного ребенка», однако его мучит раскаяние. И даже по прошествии нескольких лет, найдя ее счастливо вышедшей замуж и — по его инфантильному разумению — огрубевшей в своей взрослости, он не излечивается от угрызений совести, понимая, что его настоящее преступление в другом: он лишил ее детства и общества сверстников. Трудно отыскать книгу, менее способную привлечь читателя с неустойчивым воображением. Нет сомнения, что развращенные будут подавлены той силой, с которой автор вторгается в их нездоровые помыслы. А люди неискушенные, «нимфетки» и подростки вряд ли станут проявлять столько усердия, сколько требует сложный стиль «Лолиты», изобилующий литературными аллюзиями и лингвистическими экспериментами. Ибо Набоков — серьезный пользователь языка. Необычайно талантливый русский писатель, он создал множество художественных произведений на родном языке. Обратившись к английскому, сумел выработать свой собственный стиль, и часть его очарования в том, что он виртуозно заставляет потасканные английские языковые клише звучать с неожиданным комическим эффектом, выявляя их скрытые обертоны, создавая собственные верные образы. Он непревзойденный мастер пейзажа в импрессионистской манере. Его слова проворно следуют за наблюдающим оком, поразительно точно воссоздавая реальное течение жизни американской дороги. Он всегда мгновенно замечает гротеск. Его характеристики исключительны, изобретательны, многообразны, как хамелеоны, — и в эпизодах, и в самом повествовании. Извращенность чувств Гумберта наполняет рассказ причудливыми выражениями. Все они — и «грозная дуэнья», и «крохотная наложница», и «малютки-гейзеры» — расцвечивают броскими тонами мертвенную картину инфантильной, преступной, эгоистичной страсти героя. Поэтому, невзирая на отвращение, мы против воли ощущаем, особенно на первых ста страницах, что г-н Набоков неудержимо наступает на нас, как самый совершенный художник, у которого в запасе немало средств овладеть миром и помимо дешевых скабрезностей. Бытует мнение, что «непристойная» литература должна затрагивать важные проблемы, чтобы иметь право на существование. Однако не все серьезные художники обращаются к «великим» темам. Таков Набоков. Его повествование — это сосредоточенный монолог, стремительный в развитии и несколько однообразный в своем эгоцентризме — в соответствии с замыслом. Неизменная рассудительность Гумберта порой даже утомительна, ибо он все выворачивает наизнанку, со знанием дела расправляется с другими персонажами — и затем их бросает. Лолита ярко обрисована только как объект вожделения. Все остальные черты ее натуры ограничились потреблением конфет и мороженого, резкими и грубыми выходками. Она из тех, кто вырос на журналах мод и рекламы. Ее первым совратителем на самом деле была тупая, полная крикливого внешнего блеска американская цивилизация. Нет, «Лолита» не проводник «великой» идеи. В этом смысле ее место рядом с произведениями Ивлина Во и Хаксли, чей уровень, кстати, довольно высок. «Лолита» неизмеримо превосходит уровень среднего популярного романа и по замыслу, и по исполнению. Стал уже обычным взгляд на «Лолиту» как на очередную секс-книгу, идущую несколько дальше в стремлении привлечь скандальными эффектами. Нуждается ли талантливая вещь в «украшении» шокирующими подробностями? Пусть сам художник решает этот вопрос, без помощи критиков или читателей; это его право, ибо ему дана необходимая для развития человечества способность проникать в суть вещей. Природа современной культуры главным образом визуально-речевая, это бездумное потребление цвета и звука. И замысел Набокова оглушающе-ослепителен. Но детали разработаны без грубого копирования и обладают тем щадящим, тактичным, однако острым реализмом, который передает самую суть нашей жизни. Он безошибочно направляет нас к проблеме детской сексуальности, которая расползается в мире (посмотрите фильмы, послушайте рекламу). В США существует общепринятое восхищение перед ранним развитием девочек и детской кокетливостью (косметика для детей, детская мода). Общество всегда кипит негодованием, когда писатель ставит перед ним зеркало. И автор «Лолиты», видимо, прав, полагая, что в нашем лицемерном мире люди больше всего осведомлены о запрещенных вещах. Не хочу приписывать г-ну Набокову несвойственных ему мыслей, но он, судя по всему, придерживается весьма непопулярного мнения, выраженного его героем: единственное спасение, которое возможно для Лолиты, ее «единственное бессмертие» — это превращение ее в произведение искусства. Эту мысль мы встречали также у Генри Джеймса. Сентиментальный писатель мог бы снискать расположение публики мелодраматическими описаниями раскаяния и душевного прозрения Лолиты. Трагик оставил бы ее погрязшей в мещанском быту. У Набокова же нашлось еще достаточно сарказма для финала. Как бы там ни было, превращение состоялось: «Лолита» — не порнография. V.S. Pritchett. Lolita // New Statesman. 1959. Vol. 57. № 1452 (January 10). P. 38. (перевод О.А. Дудоладовой) Дело «Лолиты» Анкета журнала «Сур»{104} 1. Считаете ли Вы, что политическая власть должна иметь возможность подвергать литературные произведения цензуре? 2. В каких границах и по каким критериям эта цензура должна осуществляться? 3. Как Вам представляется, в случае с «Лолитой» Владимира Набокова цензура добилась успеха? Сильвина Окампо{105}:Как я могу думать, что политическая власть должна подвергать цензуре литературные произведения? Достаточно и самоуправства премий. А если говорить о читателях, то ни одна из прославленных волшебных сказок цензуре не подвергалась, хотя в них предостаточно и скотоложства, и кровосмешения. Тот факт, что принцесса состоит в любовной связи с синей птицей, навещающей ее через окно; что король (насколько помню, это был король) безутешно влюблен в свою дочь и любой ценой хочет на ней жениться, не будоражит внимание детей. Потому что дети понимают то, чего, видимо, не хочет понять цензура: реальность в книге и реальность в жизни — вещи разные. Как не смущает детей и то, что у женщин на картине нет лиц либо что лица у них фиолетовые или зеленые, что в желудке у птицы скрывается чудесный сад, а пейзаж в раме состоит из треугольников или других геометрических фигур. Мы, читатели, похожи на этих детей. По-моему, единственным непогрешимым судией может быть разве что Господь Бог, людям же всегда застилает глаза мода и время. Считаю ли я, спрашивает журнал, что в случае с «Лолитой» цензура добилась успеха? Если речь о том, чтобы пробудить интерес читателей или показать всю нелепость доводов цензуры, то конечно. Но есть книги, которые не нуждаются в низкопробной рекламе, и «Лолита» — из их числа. У этой книги — множество обожателей и хулителей; стоит привести некоторые восторженные и неодобрительные мнения, которые она вызвала. «Кем бы я ни был, я — не Лолита и не Гумберт», — с искренним чувством признался один мой собеседник. «Такое может нравиться только тем, у кого нет своих дочерей», — с застарелым раздражением произнесла одна сеньора (ее обожаемый прадед, фигура в наших краях заметная, в свое время женился на двенадцатилетней девочке). «Двенадцатилетний ангелочек! Зачем было нужно…» — выдохнула другая, думая о худшей из своих дочерей. Еще одна сказала так: «Для своего возраста она слишком опытна, хотя, по-моему, ей гораздо меньше, чем она говорит». И тут же спохватилась, что путает Лолиту с Марлен Дитрих. «Неужели нужно книгу запретить, чтобы ею заинтересовались?» — спросил один мой собеседник, раздосадованный цензурой, читателями, Набоковым и самой этой неуловимой, истоптанной, заболтанной безнравственностью. То, что Набоков, работая над «Лолитой», охотился на бабочек, меня не удивляет. Его описания, поражающие блеском и выразительностью даже на самых болезненных и мерзких страницах, немного напоминают те картины, которые складывают из мотыльковых крылышек, таких прекрасных и неживых, таких ужасающе реальных и неожиданных. Э.А. Мурена{106}:Перед вами — один из растлителей. То, что я хочу сказать по поводу так называемого дела «Лолиты», — мое признание. Я — один из растлителей: я был среди первых, выбравших «Лолиту» для публикации, и в немалой степени отвечаю за ее выход в свет. Правда состоит в том, что мне уже много лет не дают покоя самые низкие и неудовлетворенные побуждения. Постыднейших пороков мысли, чтения и писательства, которым я предавался всякий день и час, мне со временем стало недостаточно: в конце концов — честно в этом сознаюсь — я не устоял перед соблазном отравить все народы испанского языка. Скрытый Калигула, тайный Нерон, Борджиа эпохи книгопечатания, — что я могу поделать, если в жилах у меня течет их кровь? Я срываю маску и признаю: виновен! Я всегда избегал дневного света и если пока не участвовал в черных мессах, то тем не менее всецело принадлежу к militia Satanae[123], чьи ряды, к примеру (тем временем, как вышеупомянутые кроткие народы возрастали себе под аккорды ча-ча-ча, мамбы и рок-н-ролла), бесстыдно и тайно предавались звуковому шабашу Стравинского и ему подобных. Такова моя богомерзкая сущность, она — перед вами. И потому девственная чистота народа, питающегося устными побасенками и криминальной хроникой, почитающего своим Цинциннатом Перона, а Периклом — майора Алоэ{107}, неиспорченный вкус лучезарных душ, находящих своего Аристофана в Питигрильи{108}, своего Толстого в Уго Васте{109}, а театр «Глобус» — в газете «Насьональ», переполняли меня яростью. Злоба и зависть мои были воистину чудовищны. Дьявольской рукою продолжая черное дело Бодлера, Достоевского, Пруста, Катулла, Кафки, Софокла, Расина, я говорил себе: давай откроем этим народам весь блеск ослепительного огня истины, пусть соблазн помутит им разум и они всей толпой ринутся прямиком в ад, чтобы разделить его с нами. А поскольку я хотел, чтобы книга была не просто подрывающей мораль, как Ветхий завет и corpus integro[124] классической словесности, но и разрушительной для литературного вкуса не меньше, чем Конрад и Джойс, Де Куинси и Дарио{110}, Флобер и Генри Джеймс, то я не мог, в конце концов, не остановиться на «Лолите»… Итак, растлитель высказался. Здесь он умолкает. И во мне просыпается рыцарь Парсифаль! Амфортасовы стенания городского головы Буэнос-Айреса не остались втуне: готов засвидетельствовать, что сеньоры за сорок больше не выходят на улицы без сопровождения своих отцов или других ангелов-хранителей, а матери завтрашних нимфеток набивают им головы номерами «Идиллии» и «А ну-ка расскажи», дабы навсегда оградить от опасности, таящейся в любой книге. Положив руку на сердце, не могу сдержать слова благодарности. Меня безжалостно душило самое черное раскаяние, теперь груз с моей совести снят. «Душа, брезжит свет нашего избавления», — шепчу я себе. Дело за малым. Чтобы вернуть моим ночам полный покой, алькальд должен довершить начатое. Необходимо, чтобы он — по образцу просвещенной коммунистической Польши, где поэты сегодня соревнуются в дифирамбах своей доблестной тайной полиции, — учредил ежегодный конкурс на беспримерную премию, которой будет увенчана самая прекрасная Ода в честь Цензуры. Молю небо, чтобы это наконец свершилось. Вирхилио Пиньера{111}:1. Если политическая власть национализировала все, от коммунальных услуг до литературы, тогда она, нечего и говорить, располагает названной возможностью и, понятное дело, проводит ее в жизнь недрогнувшей рукой. С другой стороны, хорошо известно, что попытка цензурировать книги чрезвычайно способствует их быстрейшему распространению. 2. Если мы принимаем как данное, что политическая власть располагает возможностью подвергать литературные произведения цензуре, тогда для вышеупомянутой возможности, разумеется, нет уже больше никаких границ, как не существует в этой деятельности и никаких критериев. Пусть мне отрубят голову, но я не понимаю, на основании каких критериев или образцов «взвешивать» моральный ущерб, наносимый литературным произведением. Считать «Лолиту» порнографией потому, что двадцать лет назад за таковую признали «Тропик Козерога»? Или в распоряжении у политической власти есть таблица моральных ценностей, которая позволяет определить в любой книге процент безнравственности с точностью до десятых долей? По-моему, единственным критерием, единственным основанием здесь могла бы стать многомиллионная толпа под балконом Дома правительства, во весь голос требующая осудить порнографическое сочинение и его автора. Но это, что называется, ситуация форс-мажорная. 3. На деле, думаю, все куда проще. В муниципалитете есть отдел литературной цензуры, а в нем — соответствующий чиновник. И вот перед его взором оказывается «Лолита». Он раскрывает книгу с видимым неудовольствием: секс, совращение малолетней, убийство, ордалия. Как павловская собака на условный рефлекс, чиновник реагирует на «стимул», открывает рот и произносит: «Порнография». И нет ни на небе, ни на земле такой силы, которая вывела бы его из этого заблуждения. Наступит день, когда «Лолиту» признают сочинением моралиста, рекомендуют ее для изучения в женских гимназиях и переведут на все языки мира. Но это не помешает нашему аккуратисту невозмутимо вносить в свой Индекс новые книги. Перед нами, что называется, круговорот цензуры в природе. El Sur. 1959. № 260. Р. 52, 65, 72 (перевод Б. Дубина) Ребекка Уэст{112} «Лолита»: Трагический роман с ехидной ухмылкой Существуют книги, рассказывающие о любви гораздо откровеннее, нежели «Лолита». Она выглядит умело состряпанным и сомнительным образчиком того сорта безмозглой стряпни, в которой больше преуспели Питер де Врие{113} и С.Д. Перелман{114}. Роман написан от первого лица, рассказчик то и дело сбивается на французский, впрочем, не слишком злоупотребляя им, а лишь создавая иллюзию, будто вот-вот сделает потрясающее признание, совсем как Эркюль Пуаро в романах Агаты Кристи. В «Лолите» полно каламбуров, которые теперь принято называть «джойсовской игрой слов», — теперь ведь немало желающих именовать салфетки и прочие вещи на французский манер, стараясь придать своей речи побольше блеска. Но каламбур есть каламбур, и в больших количествах он утомляет. Да и сама ирония г-на Набокова всеохватна, а потому уничтожает самое себя. Читатель принужден сказать: — Да, вы убедили меня, что все в мире смехотворно. Все обитатели этой истории — рассказчик, его жена, Лолита, ее мать, их друзья, люди в домах, магазинах, на улицах — и все заведения, изобретенные ими для собственного удобства — школы, больницы, мотели, — все, все это смехотворно. Но в сравнении с чем вы находите их столь смешными? Что есть норма, от которой, по-вашему, они отклонились? В книге нет и намека на ответ, и это позволяет заключить, что автор не имел твердых мнений относительно жизни, а потому писал просто так, без всякой цели. Но цель появляетсяЧем ближе к концу, тем проще становится повествование, и сама собой выявляется одна, весьма волнующая тема. Но г-н Набоков своенравно не желает признавать ее существование. Он говорит, что его книга «вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали». В действительности он, русский писатель с глубоким пониманием своей отечественной литературы, и не мог бы написать роман о совращении двенадцатилетней девочки взрослым интеллектуалом, не испытывая влияния — причем явно сознательно — той темы романа «Бесы», которую сам Достоевский из книги изъял, а большевистское правительство раскопало и в двадцатых годах опубликовало. <…> Причина, преступившая все пределыВ «Лолите» г-н Набоков воспроизводит преступление Ставрогина в современных условиях. Ища соответствий Матреше, принадлежащей Святой Руси, и Ставрогину, вырвавшемуся оттуда, он обращается к миру, где «Бесы» уже одержали немало побед, и создает своего Гумберта, интеллектуала, в котором рационализм преступил предел здравого смысла, и Лолиту, прожорливое и пустое дитя американского материализма. Определенно меньшая доза ужаса (а скорее всего обойдется и вовсе без него) должна быть теперь приписана деянию, которое связало этих двоих, ибо сия парочка приучена судить поступки единственно по их материальным последствиям; так что и Гумберт не испытывает чувства вины по поводу своих весьма специфических страстей, расценивая их как итог подавления чувств в детстве, и Лолита не осознает невинности, поскольку давно ее лишена. Но, по мнению г-на Набокова, случившееся окажет на эту пару то же воздействие, как и на ту, первую. Гумберт таскает Лолиту из отеля в отель, из штата в штат, из одной школы в другую, страшась не столько закона, сколько желания девочки вернуться в детство, к товарищам по детским играм и таким взрослым, которые позволят ей жить по законам ее возраста; но его разум, лишивший его чувства вины, поквитается с ним. РасплатаГумберт видит, что девочка, вырванная им из привычной для нее жизни, так одинока, будто подвешена в пустом пространстве. Он понимает, что она ненавидит его за это, и все же чувственность мешает ему перестроить их отношения таким образом, чтобы она полюбила его. Неспособность героя критически оценивать свои поступки не позволяет ему отказаться от похотливой страсти к ребенку. Худшее из его терзаний — это абсолютно та же самая невыносимость наказания, которую предсказывает Ставрогину Тихон. Ставрогин решил обнародовать свою исповедь, ибо — хотя он и неверующий — чувствует, что в религии имеется средство для исцеления больной совести. Иначе говоря, если его простят люди, уважаемые им, и возненавидят те, кого он презирает, тогда, как ему думается, он обретет успокоение. Западня комизмаНо Тихон предрекает Ставрогину, что с ним все будет не так. Его, говорит Тихон, ждет осмеяние, а это для героя самое невыносимое. О да, люди осмеют его. Может ли быть иначе? Бывают ужасные преступления, которые все же выглядят картинно, а бывают преступления, которые — помимо всякого ужаса — воспринимаются как «стыдные, позорные», — и неожиданной кульминацией этого высказывания старца прозвучали слова: «даже слишком уж не изящные»{115}. Особенно впечатляет в «Лолите» картина абсолютно такого же ада: то состояние отверженности, в которое герой впадает безжалостно и бесповоротно, все-таки остается невыразительным, похотливым и даже пошлым. С той же неизбежностью, с которой Гумберт становится воплощением зла, он превращается (и его разум позволяет ему осознавать это) в комического героя. Вряд ли подлежит сомнению, что эту трагическую книгу нельзя рассматривать как оправдание порока или инструкцию по развращению детей. Напротив, она утверждает, что нравственные ценности постоянны и что человек, обходящийся с другим, как с вещью, существо пропащее. Так что если «Лолита» и вызывает у кого-то протест, то виноват в этом только сам автор. Облегченный путьОписание воскресного утра, проведенного Гумбертом с Лолитой, и все его ехидные намеки на особую извращенность, присущую бессердечной девочке, выламываются из текста своим странным и раздражающим уродством. Такое впечатление, что эти страницы написаны совсем с иной целью, нежели та, ради которой затевалась вся книга. Похоже Набоков, не сомневаясь, что выиграет первое сражение с обществом за свой сюжет, решил подбросить еще один повод для битвы, лишь бы сражаться. Несомненно, ввязаться в войну с обществом легче, нежели привести в должный порядок свое произведение; тем паче что такие войны весьма популярны в наши дни, когда широкая публика — то самое «чертово сплоченное большинство», — прознав, что ей дали столь пренебрежительное прозвище, старается притвориться духовно раскрепощенным и гонимым меньшинством. Вряд ли Набокову — с его-то огромным дарованием — требовалось искать для себя облегченных путей, а потому очень жалко, что «Лолита», вместо того чтобы предстать перед миром с торжественным видом серьезного произведения, являет нам лик, искаженный ехидной ухмылкой. Rebecca West, «Lolita»: A Tragic Book With A Sly Grimase // Sunday Times. 1959. November 8. P. 16 (перевод А. Спаль). Филип Тойнби{116} Роман с английским языком Теперь, когда отзвучали фанфары во славу «Лолиты», хочется понять, что же это за книга. Критики, цитируемые на форзаце книги, согласны, что роман «Лолита» превосходен, — иначе их имен там не было бы, — но в многообразии положительных мнений есть существенные различия. Г-н Триллинг, к примеру, уверен, что «Лолита» — это книга о любви, чем и выделяется среди современных романов. Г-н Притчетт считает «Лолиту» сатирой на «стандартизированное общество пошляков и убийц», а Кеннет Олсэп{117} и Бернард Левин сходятся в том, что это произведение нравственно по своему замыслу. Г-н Крэнстон{118} усматривает в «Лолите» фрейдистские мотивы, а Джордж Миллер пишет, что «здесь есть все — грубость, поучение, здоровый юмор, пафос, романтизм, истинная любовь». Но что же сам г-н Набоков? Он считает «Лолиту» чем-то вроде отчета о собственном романе с английским языком, и твердо отрицает присутствие в своей книге нравоучительства. Писатели редко способны правильно оценить свои произведения, но г-н Набоков, по крайней мере, предложил нам наилучший, на мой взгляд, подход к своей экстраординарной книге. Первые же абзацы романа незамедлительно дают нам понять, что их автор удивительным образом владеет всеми выразительными средствами. Стиль этой прозы весьма причудлив, и это приводит к многочисленным ошибкам по части такта и даже вкуса. Но таких ошибок легко избежать, если отказаться от постоянной критики того английского, который предлагается нам в «Лолите». Чудо заключается в том, что стиль одерживает победу столь часто и столь дерзко. Это тем более удивительно, если учесть, что Набоков, прежде чем испробовать силы в английском, писал свои книги по-русски. Да что тут долго говорить! Мне даже плохая книга, написанная кем-то на иноземном наречии, представляется чудом. Это восьмое оригинальное произведение Набокова на английском языке, и хотя первые семь — тоже превосходны, но по сравнению с ними «Лолита» — это прямо-таки ошеломляющий прорыв. Именно в ней тема любовной связи доведена до совершенства. И именно в ней мы находим в высшей степени живую, образную и прекрасную английскую прозу наших дней. Мы с излишней поспешностью говорим о поэзии в романе, обычно имея в виду декоративный элемент, монтаж, различные фрагменты, намеренно выставляемые напоказ для создания атмосферы. Но некоторые романы поэтичны по самой своей природе: они не являются поэзией в прозе и открывают поэтические возможности, оставаясь абсолютной прозой. К этой категории относятся первые книги Пруста, многое в «Улиссе», многое в Диккенсе, «Доменик»{119} Фромантена и лучшие из творений Фёрбэнка. «Лолита» всецело принадлежит к этой категории. Заслуживающие цитации фрагменты можно обнаружить почти на каждой странице, но слишком обильное цитирование может ввести в заблуждение. Описания не более и не менее поэтичны, чем все произведение в целом или, к примеру, его диалоги. Вся книга — по стилю, по интонации — кажется парящей над поверхностью земли. Однако интонация — это нечто иное, нежели стиль, и именно она, полагаю, привела к столь широкому спектру критических оценок. Прежде всего, это интонация романиста, отдалившегося от своего сюжета на удобное расстояние. Это остроумная, горестная, элегическая интонация, содержащая к тому же и некую утонченность. Герой романа — человек, приговоренный к смерти, примиренный со смертью. В жизни он познал и ужасы, и восторги, а потому не сомневается в равенстве их подлинной сути. Нет, я не согласен, что «Лолита» — любовная история или предостережение против ужасов растления маленьких девочек. И не верю, что эта книга — намеренная сатира на американскую жизнь. Юмор по большей части проистекает из того факта, что Гумберт Гумберт, образованный европеец, с изумлением косится на обычаи Америки и сценки из ее жизни. Но замечательное путешествие через весь континент — это не сатирический номер, а пассаж сложной лирической напряженности. И единственный реальный недостаток книги заключается в неубедительном раскаянии, которое Гумберт побужден переживать в финале. И он, и его Лолита — создания, органически неспособные на подобные эмоции. Гумберт — человек, движимый не любовью, а непреодолимой одержимостью. И его одержимость не эпизод, не побочная линия сюжета, а то, из чего автор созидает своего героя, хотя редко кому удавалось когда-либо создать из единственного качества или чувства цельный образ, полнокровный реалистический характер. Только благодаря одержимости герой достиг своей незаурядной проницательности. Выражаясь точнее, можно сказать, что г-н Набоков использовал механизм этой исключительной одержимости для показа нам мира в новом свете. Нет, «Лолита» не клиническая книга, не история болезни. Это произведение poesie noire[125], чья мрачность смягчена современной иронией. Если бы не ирония, роман предстал бы перед нами чудовищным порождением пошлости. Но среди чувств, которые исследованы в этом произведении, я не замечаю жалости, разве что в какой-нибудь беглой фразе, впрочем, думаю, жалость здесь и не требуется. Весьма многие прекрасные книги написаны без всякой жалости, что бы о них когда бы то ни было ни думали и ни говорили. Мы продвигаемся по этим похожим на сновидения страницам в атмосфере красоты, ужаса и смеха. Единственное в своем роде поэтическое смешение сих странных компонентов и придает «Лолите» столь редкостное совершенство. Книга не является продуктом реализма, но сама она — реальность, та самая реальность, которая способна расшевелить инертное сознание и открыть наши глаза на мир, увиденный кем-то под иным углом зрения. Фактически это книга о реальности, что, собственно, и характеризует всякую значительную книгу, хотя, полагаю, ее не сможет правильно понять и оценить тот, кто начнет среди ее событий и персонажей выискивать соответствия, будто бы существующие в реальной жизни. Philip Toynbee. In love with language // Observer. 1959. November 8. P. 22 (перевод А. Спаль) Пол Облман{120} Рец.: Lolita. London: Weidenfeld & Nicolson, 1959 Изысканная и утонченно дразнящая, такая характеристика «Лолиты» нигде, вероятно, не выражена отчетливее, чем в предисловии к ней, написанном неким Джоном Рэем, доктором философии. После рассудительного обсуждения сомнительной истории, рассказанной в книге, «г-н Рэй», подводя итог, позволяет себе отметить и ее достоинства: «Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору!» С тех пор как стало принято считать, что различия между вымышленным г-ном Рэем и вымышленным автором основного повествования выражены не настолько явно, чтобы относиться к ним всерьез, мы не можем отделаться от ощущения, что г-н Владимир Набоков, подлинный автор всего произведения в целом, поддразнивает нас. Само повествование начинается так: «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя… Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка…» — и далее, еще в нескольких абзацах, в том же напыщенном стиле рассказчик предлагает нам проскакать (теми же шажками) до слов: «в котловинах и впадинах памяти... если вы еще в силах выносить мой слог…» Наша унылая улыбка при этой оговорке невольно обернулась, для меня во всяком случае, самым началом удивления. Г-н Набоков все еще продолжает нас дразнить. Он также начал поддразнивать сам язык, или, по крайней мере, заигрывать с ним, а позже, самонадеянно свернув в пространство более рискованной иронии, дразнит, может быть, уже себя самого. Для успешного поддразнивания автору необходимо понимание: прочитав не так уж много страниц, мы вынуждены признать право г-на Набокова поддразнивать нас. Он понимает нас — наше постоянное сражение с лицемерием, наши вечные трудности в признании того, что предварительно не оправдано обычаем или не провозглашено гениальным, а также нашу неизбежную и окончательную капитуляцию перед литературной правдой. Немногие авторы сумели бы создать и сохранить подобную ауру сердечности, если бы тоже овладевали вниманием своих читателей чуть ли не с издевкой. «Читатель!» — кричит г-н Набоков и, предвосхищая нашу реакцию на это нелепое обращение, тотчас добавляет: «Брудер!»[126]. И вдруг выглядывает из своего писания и показывает нам нас самих в виде «светлобородого эрудита, посасывающего розовыми губами la pomme de sa canпе»[127], причем делает это с такой непринужденностью и напором, что на какой-то миг читатель забывает, что на самом деле он темноволос, не пользуется тростью, а подбородок его чисто выбрит. Какое убедительное ощущение достоверности постепенно навевает эта книга, которая ничуть не пытается установить одни лишь традиционные, ставшие уже рутинными отношения с действительностью, книга, которая, в конце концов, кажется чуть ли не насмешкой над своим собственным притязанием на то, чтобы быть воспринятой всерьез! Структура «Лолиты» местами несообразна, но вообще-то (как говорит автор о полудетском нижнем белье героини) просто слегка небрежна, не более того. Такое ощущение, будто повествовательные условности европейского романа, отрефлексированные до полного омертвения еще Джойсом, окончательно отброшены и Набоков бодро начал все с нуля. Вернее, поскольку стало уже поздновато все начинать сызнова, беспристрастно использовал все условности, подходящие его ближайшим намерениям, не забывая при этом (дабы окончательно не разрушить ни одну из них) постоянно ограждать своих читателей завесой иронии. И все же, хотя степень стилизации и благодатной условности может изменяться от страницы к странице, а подчас от предложения к предложению, нам здесь явлено достоверное качество жизни двадцатого века. Постепенно, по мере дальнейшего чтения, двери «Лолиты» приоткрываются все шире и шире, разоблачая нашу культуру. Мы следуем за искусно исполненным и мелодичным каламбуром до тех пор, пока он не приводит нас вдруг к необходимости по-новому взглянуть на образовательную систему и жизнь общества. Смелая и сложная метафора, вбирая в себя актуальные проблемы современной жизни, расцветает в конечном итоге целым букетом психологической проницательности. Физические объекты — пусть даже самые незначительные (редкий писатель способен показать деталь так, как это делает Набоков) — продолжают следовать магическими своими путями, и каждый из них может внезапно взорваться пылающим, но зачастую весьма точным символом. Какой-нибудь пустяк — название отеля, пилюля, ссылка на литературное произведение, фрагмент популярной музыки или предмет одежды — способен развиться в отдельную тему и, проходя через всю книгу, раскрыть богатейшие залежи разных значений. Существует небольшая, по-своему уникальная и почти панегирическая работа Набокова о Гоголе, чье имя и влияние определенно заслуживают упоминания при рассмотрении набоковского, тоже весьма богатого поэтическими образами, стиля и творческого метода. Но для проникновения в словесную живость и сложную образность «Лолиты» все же лучше обратиться к английским источникам, особенно к Шекспиру и драме елизаветинских времен, ибо немного найдется других параллелей для объяснения способа, каким набоковские каламбуры, иносказания и образы органично вплетаются в общий замысел книги; и тот факт, что всякое серьезное рассмотрение этого романа должно в значительной степени касаться использования языка и особенностей воображения, является показателем высоких достоинств «Лолиты». «Лолита» написана в виде воспоминаний некоего Гумберта Гумберта, европейского ученого и интеллектуала, достаточно пожившего в Америке и страдающего от непреодолимого и злосчастного пристрастия к девочкам-подросткам. Он сам называет это пристрастие «извращением» и на всем протяжении книги колеблется между зачарованностью своей слабостью, смиренным ее оправданием как чего-то сравнительно безобидного и риторическим — не очень, кстати, убедительным — отождествлением собственного отношения к этому греху с тем бескомпромиссным неприятием, которое присуще обществу. Многие обозреватели дружно осудили героя, и словечко «изверг» не замедлило явиться в статьях о «Лолите», что сегодня, спустя сорок лет после того, как Фрейд ознакомил нас с относительностью понятия сексуальной «нормальности», кажется весьма странным. <…> Когда мы вновь и вновь наталкиваемся на забавные и вызывающие жалость признания Гумберта Гумберта в трудности общения с Лолитой, критерий условности романа для нас проясняется. Достаточно, скажем, сравнить образные построения Толстого и Стендаля с довольно выразительным стилем письма Набокова, создающего портрет своей героини широкими и небрежными мазками, чтобы понять, что тут не просто различие технических приемов, а следование разными путями. Набоков, к примеру, движется по дорогам, на которых весь человеческий мир в нашем веке переменился. И если мы попытаемся исследовать образ Лолиты, то обнаружим, что девочку весьма затруднительно изъять из ее окружения. Это абсолютно достоверная юная американка, которая не существует, не может существовать как отдельное, единственное в своем роде создание, подобное Наташе, Анне Карениной или мадам де Реналь{121}. Стремясь понять внутреннюю суть героини Набокова, мы обнаружим, что рассматриваем совсем иные вещи, такие, как описание школ, лагерей, гудящих автотрасс, воспитательных теорий, нравов и обычаев Америки; и если мы выделим несколько абзацев, связанных исключительно с поведением, внешним видом или речью Лолиты, то увидим, что все это слишком легковесно по сравнению с тем значением образа Лолиты, которое мы осознаем к концу книги. И уже невозможно отделаться от мысли, что комиксы, отели, хайвеи, школы не только совершенно неотделимы от Лолиты, но что в каком-то смысле они и есть Лолита. Иными словами, характер ее создан путем овеществления, а не одушевления. Рассматривая книгу с таких позиций, увидишь в ней лишь стремление наполнить главных героев символическим смыслом, раскрыв в Лолите архетип ее цивилизации, а в Гумберте — этом культурном рантье, стремящемся приспособить индивидуальные формы иронии и национальной психологии нескольких европейских культур к менее всего для того пригодной американской ситуации — символ упадочнической буржуазной Европы. Наша интерпретация книги, таким образом, непреодолимо движется к аллегории. Но согласимся, однако, что это не намеренная аллегория, в которой специфические достоинства навязывались бы властью автора символическим характерам. А если мы не в состоянии полностью отрешиться от подобных интерпретаций, то причина, возможно, кроется в том, что иносказательность вообще присуща всякой натуралистической (как многое в «Лолите») трактовке нашего века массовой культуры и что роман индивидуальности — классический роман — больше не приспособлен к тому, на что наше общество действительно стало похоже. Если с позиций общепринятого «Лолита» и имеет некоторые недостатки — несообразности письма, эмоциональных отношений или техники повествования, — то это, скорее всего, неизбежный результат авторекого презрения к общепринятому. А вот достоинства романа, напротив, не общепринятого толка, и потому критики находят, что слова порицания будут более пригодными для оценки набоковского произведения, нежели слова восхваления. Легко рассуждать о трудностях соединения элементов характера Гумберта в достоверное целое, легко оспорить психологическую обоснованность некоторых отношений и подвергнуть уничтожающему анализу многообразные нарушения привычного, которыми изобилует книга. Также с полным основанием можно указать на то, что «Лолита» имеет привкус подлинного декадентства (который, впрочем, скорее относится к выбору темы, но не определяет ее сути). Ибо в этой книге можно усмотреть распад великой традиции, которая, начиная с Гоголя и достигая своей максимальной гибкости и уверенности у Достоевского, здесь осыпается в круговерть каламбуров, образов и мастерски сплетенных иронических паутин, сквозь которые проглядывают отрывочные воспоминания о прежних литературных достижениях. А вот оценить несомненные достоинства набоковского произведения гораздо труднее. Но одно ясно с самого начала, если сила воображения, дерзкое и тонкое владение языком, уникальный диапазон юмора и глубокое, если не сказать всеобъемлющее, знание человеческой природы имеют значение в литературе, значит, все это относится и к «Лолите». Более того, мы можем указать на почти беспрецедентное в современной литературе проявление большого мастерства — создание обширного, богатого литературными аллюзиями (при полном отсутствии «литературщины») повествования, в котором без особых усилий воссоздан масштаб нашего мира — нашего современного мира, со всеми его схватками, печалями, переменами, невообразимостью будущих времен и механизмов. Если роман «Лолита» более очевидный «декадент», чем огромное большинство произведений современной литературы, то это лишь потому, что он гораздо живее и не опирается, как многие нынешние писатели, на высокомерную многозначительность и формальные банальности, которые существуют все более и более разрозненно и вряд ли вообще способны передать какую бы то ни было реальность, эксплуатируя только лишь тенденции современного мира. Набоков же нашел верный подход к страшной проблеме изображения наших, обретающих все большую неправдоподобность жизней. Paul Ableman // New Left Review. 1960. № 1. P. 62–63 (перевод А. Спаль). Ален Роб-Грийе{122} К пониманию пути в набоковской «Лолите» Лучший паллиатив ото всех недугов, который знает Гумберт Гумберт, единственный для него способ остановить и удержать что бы то ни было — сначала ненадежную привязанность Лолиты и отпущенное ей на краткий срок детство, потом мучительную память о потерянном счастье — это перемещение. Сартр бы, наверно, добавил, что Набоков — человек эмигрировавший, больше того — всегдашний потенциальный эмигрант; но в таком случае все мы сегодня эмигранты. Средство передвижения в романе чаще всего автомобиль. Это понятно, ведь мы в Америке. Но нетрудно обнаружить здесь все основные элементы любого воображаемого путешествия: кольцевой маршрут, двойника, одиночество, повторение. Абсурдный круг по мотелям — тот же штампованный комфорт, то же уродство, те же рекламные призывы, те же махинации, те же встречи — Гумберт Гумберт совершает, конечно, один; устроившаяся на сиденье рядом с ним несовершеннолетняя кукла, поглощенная своими комиксами и жвачкой, не слышит его любовных признаний, не видит ни единого из пересекаемых ими селений и городов. Но он уже не будет один на своем втором круговом пути — пути, который совершит без нее и в погоне за ней, бредовом маршруте, который, во всей неотвратимости и случайности разом, как бы предопределен и размечен нарочитыми вехами, оставленными в регистрационных книгах гостиниц неуловимым похитителем. А последний настолько близко знает героя, его мифы и причуды, что речь может идти только о двойнике, самом Гумберте Гумберте, его полном, зеркальном тезке. Он безостановочно движется по собственному следу и узнает во всех зеркалах лабиринта лишь самого себя. Единственное, что он может, — еще раз пройти своей прежней дорогой, где предметы повторяются и множатся до бесконечности. Очередное прибытие в ту же исходную шахматную клетку (дом все той же квартирной хозяйки, его жены и тещи одновременно) — нечто вроде периодического возврата туда, где начались книга и мир, в центр круга и вместе с тем завершающую точку окружности. «Лолиту» называли сатирой на жизнь в Америке, картиной американского общества без прошлого, увиденной глазами старой Европы. Но римские прогулки Антониони, маршруты Достоевского и Клейста пролегают где-то неподалеку. Что до Набокова, то он в интервью какому-нибудь слишком любопытному журналисту мог бы сказать, что его лично нимфетки совершенно не интересуют и что он с таким же успехом мог рассказать историю велосипеда или попугая. Конечно, конечно… Но как бы эти двухколесные механизмы ни завораживали современную словесность, можно утверждать, что роман получился бы тогда другим. Вероятно, нужно было соединить всепоглощающую одержимость (девичьим телом) с хитроумными формами Дедаловой постройки, чтобы придать этому телу ощутимый вес, физическую реальность и возвести великую книгу, которую мы знаем теперь. Alain Robbe-Grillet. Note sur la notion d'itineraire dans Lolita // L'Arc. 1964. № 4.P.37–38 (перевод Б. Дубинина) Станислав Лем{123} Лолита, или Ставрогин и Беатриче IЧто меня огорчает в литературе, так это отсутствие критериев. Критерии, разумеется, существуют. Разумеется, есть множество знатоков, которые это мое признание сочтут нелепостью и, если они вообще пожелают со мной дискутировать (в чем я сомневаюсь), будут готовы уничтожить меня подробным перечислением объективно выявляемых признаков ценности литературного произведения и не менее длинным перечнем превосходных и выдающихся книг, всеобщее признание которых неопровержимо доказывает, что мое отчаяние совершенно безосновательно. Все это как будто бы правда. Но что поделаешь, если известно, что время от времени где-нибудь появляется книга, которую долгие годы никто почему-то не в состоянии оценить, книга-странник, путешествующая от издателя к издателю, рукопись, которую не способны отличить от посредственности или крикливой претенциозности, либо (что, возможно, еще хуже) книга, когда-то и где-то изданная, но словно бы несуществующая, остающаяся мертвым номером в библиографиях, которая вдруг, неведомо почему, оказывается в центре внимания знатоков и с их запоздалым напутствием начинает долгую и, в сущности, свою первую настоящую жизнь? О «предварительной» истории выдающихся книг, которые в читательский мир входили, как камень в топкую грязь, говорят невнятно и неохотно. Но разве не такова была первоначальная судьба романов Пруста, прежде чем они стали Библией рафинированных эстетов? Разве острого ума, проницательности, вкуса французов оказалось достаточно, чтобы сразу оценить его творчество? Почему огромный роман Музиля{124} был «открыт» и признан достойным называться классическим лишь через много лет после смерти писателя? Что могла сказать критика основательных и объективных англичан о первых романах Конрада? Мне могли бы возразить, что все это, возможно, и правда, но говорить тут особенно не о чем, коль скоро каждый из этих авторов в конце концов получил признание, которого он заслуживал, а его книги — успех у читателей; что же касается временного разрыва между художественным высказыванием и его справедливой оценкой, то из-за этого убиваться не стоит. Мне с этим трудно согласиться. Ведь чуткому и умному читателю (речь как-никак о знатоках!) книга открывается сразу, говорит ему все, что может сказать, и какие еще таинственные процессы должны произойти, чтобы месяцы или годы спустя из его уст вырвался возглас восхищения? И чего стоит восхищение, переживаемое с таким запозданием? Почему мы обязаны верить в его искренность? Почему то, что раньше было герметичным, скучным, не имеющим ценности или же тривиальным, скандальным, бесстыдным, наконец, ненужным и бесплодным, — становится голосом эпохи, исповедью сына века, новым, потрясающим нас открытием человека, которого мы прежде не знали? Все эти вопросы я задавал себе, закрыв «Лолиту» Набокова, роман, который несколько лет назад стал литературным событием и скандалом одновременно. Его судьба в подробностях мне неизвестна. Знаю лишь, что, отвергнутый поначалу несколькими американскими издателями как нецензурный, он очутился во Франции, где его наконец рискнул напечатать тамошний издатель, — отнюдь не акушер элитарных произведений; просто при помощи поднаторевших в этом читчиков он как раз угадал возможность достаточно громкого скандала. Затем началась ошеломляющая карьера романа. Благоразумный английский издатель (я читал «Лолиту» в серии «Корги бук») дополнил книгу целой антологией похвал — высказываниями знаменитых писателей и критиков, которым «Лолита» почему-то не попалась на глаза, странствуя по издательским кабинетам. Их лестные и даже восторженные суждения убеждают нас, что «Лолита» — произведение мирового масштаба, с порнографией абсолютно ничего общего не имеет, выдерживает сравнение с «Улиссом» Джойса и так далее. Я не собираюсь писать критическое исследование «Лолиты». Я тем более не вправе этого делать, что, кроме нее, почти ничего не знаю из написанного Набоковым, а написал он, насколько мне известно, немало. Тринадцать его рассказов, которые попались мне на глаза год назад, оставили меня совершенно равнодушным. То, что он хотел в них сказать, абсолютно меня не затронуло. Быть может, рассказы были прекрасны, и дело не в их холодности, но в моем собственном художественном невежестве. Однако к «Лолите» я не оказался столь же глухим; так возникли эти заметки. Не знаю, правда, в самом ли деле это «эпохальная», «великая» книга, хотя иные почтенные знатоки, цитируемые английским издателем, возводят прозу Набокова к Элиоту, Бодлеру, Джеймсу и Бог знает к кому еще. Почтенное это родство не слишком меня взволновало. Сам Набоков в послесловии к «Лолите» говорит вещи необычайно интересные — о том, как долго писалась книга, как зародился первоначальный замысел, еще в Париже, в сороковые годы, в виде небольшого рассказа о человеке, который женится на больной женщине, чтобы после ее смерти и неудачной попытки изнасиловать падчерицу покончить самоубийством; как впоследствии эта сюжетная схема, перенесенная в Соединенные Штаты, насыщалась плотью реалий Нового Света. Впрочем, Набоков — то ли благодаря собственному опыту, то ли следуя советам доброжелателей — был настолько осторожен, что снабдил свой роман, то есть фиктивные воспоминания, столь же фиктивным предисловием авторства «доктора философии Джона Рэя младшего»; «воспоминания», по утверждению этого доктора философии, написаны человеком, умершим в тюрьме от инфаркта и скрывшим свое настоящее имя под псевдонимом «Гумберт Гумберт». Однако всех этих упреждающих опасность приемов оказалось недостаточно, — и чтение советов доброжелательных, в сущности, издателей, внутренних рецензий и просто обвинений, которыми обросла «Лолита» на своем долгом пути от одного письменного стола к другому, порою немногим уступает самому роману в качестве «документа эпохи»; эта мешанина беспомощности, псевдоэрудиции, наконец, неосознанного комизма оценок как нельзя лучше соответствует атмосфере «Лолиты». Так как у нас роман не опубликован, свои заметки — повторяю, отнюдь не претендующие на роль систематического исследования, — я начну с изложения фабулы. Герой рекомендует себя как европейца, культурного эстета, в сущности, без профессии, умеренного, «непрактикующего» анархиста, по отцу — француза, а отчасти швейцарца (по матери, которую он потерял в детстве); после этой прелюдии мемуарное повествование сразу вступает в область первых эротических переживаний. Тут появляются трудности с изложением. Рассказать, как было дело, назвать происходящее по имени значило бы исказить пропорции, и даже больше — дух романа, невзирая на то, принимаем мы его или же отвергаем. Изложить фабулу объективно можно также на языке клинической психиатрии; из двух зол я выбираю скорее уж «психиатрический» подход. Итак, «клинический случай» в лице Гумберта с отроческих лет ощущал влечение к девочкам — не к детям, а к подросткам; в своей автобиографии он связывает это с детскими эротическими переживаниями, хотя многие эксперты, конечно, сочли бы это ложной гипотезой, ведь у огромного большинства мужчин подобные контакты не оставляют ни малейших следов девиации, предопределяющей всю дальнейшую эротическую жизнь; но это не так уж важно. После женитьбы, столь же неудачной, сколь и случайной, закончившейся разводом (история с трагикомическим, даже фарсовым оттенком), после чувствительных разочарований и конфузов, приключавшихся с ним, когда его мания приводила его в среду платной, профессиональной любви, Гумберт, получив небольшое наследство, перебирается в Штаты. Здесь, после непродолжительной интерлюдии — случайного, в общем-то, участия в научной экспедиции и публикации каких-то статей, — он опять (по не вполне ясным причинам: депрессия, меланхолия) попадает в лечебницу. Эту сторону анормальности героя — своего рода медиум, за которым кроется его столь же анормальное либидо, — автор показывает как бы между прочим, хотя и достаточно определенно; это «недомогание сознания», с одной стороны, настолько значительно, чтобы привести его, и притом дважды, в лечебницу для нервнобольных, с другой же — выражено настолько слабо, что умному Гумберту удается обманывать врачей, и в журналах болезни его подозревают в гомосексуализме, в импотенции, только не в извращении, тщательно скрываемом от всего мира, и от медицинского в том числе. Подлечившись, он попадает в дом миссис Шарлотты Гейз, вдовы, которая хотела бы сдать ему комнату. Однако неприятно пораженный атмосферой этого псевдокультурного американского дома и личностью самой миссис Гейз, которая напоминает «слабый раствор Марлены Дитрих» и разговаривает на ужасном французском, он уже готовится к отступлению; и тут судьба сталкивает его с двенадцатилетней дочерью вдовы. Эта девочка, Долорес, Лолита, или Ло, как он будет называть ее в своих мучительных видениях и столь же мучительной яви, предопределяет его решение. Он остается в этом американском доме и начинает вести дневник, в котором адские вспышки чувственного влечения и инфантильные грезы окружают образ двенадцатилетней девочки. Беглые и случайные встречи с ней становятся единственным содержанием его жизни — тщательно скрываемым, разумеется. Едва ли не катастрофой становится отъезд Лолиты в летний лагерь для девочек. Тем временем мать Лолиты влюбляется в Гумберта, и тот, сперва испугавшись, женится на ней, увидев в этом возможность приблизиться к предмету своего влечения; при известии, что новая супруга хочет насовсем убрать Лолиту из дому — в интернат, Гумберт начинает прикидывать шансы «идеального убийства»; но когда такая возможность во время купания предоставляется, он не решается на убийство. Еще одна катастрофа: влюбленная супруга обнаруживает любострастный дневник; ошеломленный взрывом ее презрения, Гумберт прячется на кухне, и тут раздается телефонный звонок: его жена (она бежала к почтовому ящику с письмами, написанными после своего злополучного открытия) погибла под колесами автомобиля. Тихие похороны; «папа» уезжает за «бедной сироткой», которой он не сообщает пока о смерти матери (впрочем, нелюбимой). Они садятся в машину. Так начинается сексуальная одиссея по мотелям, туристическим гостиницам, национальным паркам и всем мыслимым и немыслимым уголкам Штатов, «которые стоит посмотреть». Первая ночь вдвоем. Ничего непристойного в описании — только шок, не первый и не последний для этого европейского «извращенца», когда он узнает от «доченьки», что вопросы секса не вовсе ей чужды: там, в лагере, она уже имела дело с каким-то тринадцатилетним пареньком — не по любви, не по влечению, а из любопытства; просто она последовала примеру подружки; а теперь уже сама Ло соблазняет — говоря языком Гумберта — своего «отчима». Затем подробности — не из области физиологии или даже психопатологии секса, но из области нравов и психологии — выступают на первый план, что делает мое изложение все менее и менее благодарной задачей. Девочка, — чтобы далее к этому не возвращаться, — остается сексуально не разбуженной до самого конца этого чудовищно-комического, а по сути — мучительного для обеих сторон сожительства. И нежнейшие ласки, и по-звериному грубые половые сношения для Ло (особенно после непродолжительного периода привыкания, — ибо к чему не привыкает в конце концов человеческое существо!) есть не что иное, как дань, платимая «отчиму», которому придется испытать все мыслимые унижения перед этой девочкой-ребенком. Бесконечные странствия, подарки, которые Гумберт может себе позволить, простецкие, возвышенные, смешные приемы, напрасные старания ввести девочку в духовный мир отчима, перемежаемые скандалами, рыданием по ночам, а затем — приступами дикой ревности (он дает ребенку пощечину) к какому-нибудь смазливому автомеханику, к любой паре глаз, которая остановится на Лолите; эта часть романа, «мотельная», переходит в следующую, «стационарную», когда «хороший отец» отдает «дочку» в «современную американскую школу», в которой рассудительная воспитательница пробует втолковать ему, старосветскому европейцу, что ему придется мириться, в частности, со вступительными предсексуальными контактами «доченьки» с подрастающими мальчиками, ее ровесниками. Новые приступы зависти, ссоры, нравственная деградация сожительства: дело доходит до оплаты «папою» ласк, отказывая в которых, девочка успешно его шантажирует; а тот в свою очередь запугивает ее перспективой оказаться в воспитательном заведении со строгим режимом, если она расскажет об их отношениях и он попадет в тюрьму. Эта жизнь в «раю, охваченном адским пламенем» заканчивается отъездом в очередное путешествие, во время которого Лолиту, при ее согласии, похищает некий известный писатель, тоже отчасти извращенец. Два года Гумберт безуспешно разыскивает Лолиту и ее «соблазнителя», живет одними надеждами, пока не получает наконец письмо от Ло; та уже вышла замуж (семнадцати лет), ожидает ребенка и нуждается в деньгах, без которых мужу не получить места на Аляске. Гумберт отправляется в предпоследнее свое путешествие. Девочка-ребенок — теперь уже женщина в практичных американских очках, на последних месяцах беременности; добропорядочный, небритый муж, наполовину калека (оглох после полученной на войне контузии). «Папа» отдает ей всю свою наличность и предлагает бросить этого «случайного Дика» и пойти с ним — такой, какая она есть, в чем стоит перед ним, навсегда. Ло отказывается. Он выпытывает у нее имя «соблазнителя», едет к нему, и в пустом, одиноком доме разыгрывается последняя сцена трагифарса: убийство. Он стреляет в разлучника, перед тем заставив его прочитать сочиненное им, Гумбертом, стихотворение о его подлости и несчастье Гумберта. Убийство, распадающееся на ряд полубессмысленных сцен, происходящее на грани полного абсурда (жертва в порядочном подпитии; фальшивые, не связанные между собой реплики, и ничего похожего на «вендетту», которой мог бы ожидать читатель; хаотические нападения и защиты, но ничего унижающего как жертву, так и убийцу), — весь этот ряд событий обнаруживает свою тщетность, это не настоящее «сведение счетов», а всего лишь кода, финал истории, столь же кошмарный, столь же ужасающе смешной, как и сам «роман», который заканчивается арестом Гумберта и его заключением в тюрьму. Так это выглядит. Обвинения в порнографии, от которых Набоков в послесловии пренебрежительно отмахивается, отказываясь принимать их всерьез, — сказать по правде, проявление даже не ханжества, но чудовищного бесстыдства тех, кто их предъявляет (особенно на фоне массово изготовляемых в США «триллеров», этой «черной серии», разжигающей сексуальные аппетиты известного рода читателей). Или, другими словами: если роман распустить по ниткам, разобрать его на части, в нем не отыщется ни одной детали, которую где-нибудь, когда-нибудь не перещеголяли уже писания, лишенные всяких художественных притязаний. К тому же связанные в единое целое недоговорки, намеки, реминисценции перерастают в удары, не позволяющие читателю занять удобное, «эстетичное» положение, а уровень художественной трансформации и метод последовательного, с первого до последнего слова, изложения, полного самоиздевки и потому выставляющего в смешном свете даже то, что наиболее мрачно, делает трудной, а то и вовсе невозможной однозначную нравственную оценку романа (повторяю: романа, а не героя), — относительно этого у меня нет сомнений. Чтобы «очистить» Набокова от упреков в порнографии, копании в психопатологии секса и, наконец, в антиамериканизме, критики заявляют, что роман этот не о сексе, а о любви, что любая тема, а значит, и потемки души извращенца, может стать предметом эстетического переживания, что, наконец, «Лолита» не более «антиамериканский» роман, чем книги многих потомственных американцев. Не знаю, стоит ли заниматься такими обвинениями и такой защитой. IIРоман не о сексе, а о любви? Роман-издевательство над цивилизацией Запада? Но почему в герои взят извращенец? Этот вопрос не давал мне покоя. Набоков счел бы его лишенным смысла, как я могу заключить из его взглядов на литературу, ведь сам он не желает быть ни моралистом, ни реалистом, а всего лишь рассказчиком истории, совершающейся когда-то и где-то; но мы, в конце концов, не обязаны слушать автора после того, как он вывел слово «Конец». Он сказал, что хотел сказать, здесь кончаются его заботы и начинаются наши, читательские. Прежде всего, мне показалось, что выбор героя открывает интересные возможности уже в социологическом плане. Ибо, сверх того, что можно и даже непременно следовало бы сказать о «Лолите», перед нами действительно книга с широким социальным фоном — и к тому же о тех сторонах жизни Запада, которыми он гордится. Это высокий уровень жизни, «онаучивание» воспитания, «прикладной фрейдизм» в его педагогическом издании, нацеленный на оптимальное приспособление индивида; это чудеса индустрии туризма, проникновение сферы услуг в самые глухие уголки природы и особая, целенаправленная активность в сфере социальных контактов, сопровождаемая механической улыбкой, которая должна создать видимость «индивидуального подхода» к приезжему, гостю, клиенту; это, наконец, такое перенасыщение жизни рекламой, что она не просто атакует человека «извне» ради практических интересов торговли, но давно уже стала неотъемлемой составляющей его психики, внедрившись в нее тысячью тщательно, «научно» разработанных методов. Подвергнуть критике эту искусную громаду довольных собой муравьев, заклеймить ее, высмеять прямым описанием было бы публицистикой, а значит, художественной неудачей, изложением явных банальностей. Но сделать это как бы попутно, да еще с точки зрения заведомо обреченной, устами человека, любое слово которого, любое язвительное замечание можно залепить этикеткой, разоблачающей его ненормальность, и в то же время так, чтобы в сопоставлении с нормальным, добропорядочным обществом обнаружилась бы проклятая правота этого вырожденца, — это уже кое-что обещало. Впрочем, этот внешний мир, этот фон, эта посредственность и нормальность, таящие в себе постоянную угрозу Гумберту и его постыдной тайне, проникают в каждую щелку романа, непрерывно и неосознанно сталкиваясь с ужасом его «частной» жизни, и холодом своего всеприсутствия лишь подчеркивают интимность его исповеди. Уже само это соседство создает огромную разность температур, напряжений, аккумулирует необходимый заряд контраста, после чего возникает вопрос о новом, требующем более подробной мотивации выборе: кто этот ненормальный, этот психопат и в чем заключается его мономания? Чтобы сначала определить существо дела на языке чисто структурного описания, выявляющего несущую конструкцию романа, его систему внутренних напряжений, следует заметить, что мономания, будучи ограничением, сужением известного типа, может в сильнейшей степени способствовать такому сгущению атмосферы, такой конденсации художественных средств, благодаря которым нередко рождались потрясающие открытия. Примеров можно привести множество: мономаньяками были Дон Кихот и Раскольников, Шейлок и Дон Жуан. А теперь о «психологическом приводе» анормальности, о ее конденсирующей силе. Что может стать тем особым пожаром, который раскалит всю материю произведения, фразе его обеспечит подъемную силу, позволяющую с ходу взять барьер любого социального «табу», и наконец откроет темные духовные тайники, что скрываются за размеренной повторяемостью жизненных функций, за рутиной повседневности? Что может быть здесь действеннее и вместе с тем универсальнее, чем любовь? Однако на этом пути писателя подстерегают опасности. Повременим еще немного с решением вопроса об «адресе» снедающей героя страсти и задумаемся о ней самой. Любовь, эротика, секс. Быть Может, все дело в разрыве с общепринятыми условностями и запретами, в вызывающей смелости? Тут классиком или, скорее, примером «отваги» может служить лоуренсовский «Любовник леди Чаттерлей». Но эта книга оставила у меня неприятный осадок, и только. Эти способы красивой подачи актов копуляции, эта рустикальная фалличность, воплощенная в дюжем леснике («возвращение к природе»!), по-моему, попахивают не столько «отчетом Кинзи о сексуальном поведении человеческого самца», сколько просто художественной фальшью. Ведь художник, решивший изобразить любовь «с небывалой смелостью», может легко оказаться на мели приторного сентиментализма; и Лоуренс доверился чересчур уж простому методу: он ударился в противоположную крайность. Любовь погрязла во лжи лицемерия, надо показать ее всю, целиком, сказал себе автор и взялся за дело. Там, где прежде царило piano, понижение тона, а то и вообще цезура молчания, он ввел физиологию. Спор о том, порнографичен ли роман Лоуренса, бушевал долго; его решение мало меня заботит; порнографичен он или нет — налицо художественная осечка. Сначала Лоуренс шел по линии анатомической дословности — так долго, как только было можно, а затем надстроил над ней облагораживающие комментарии и гимны в честь «прекрасной наготы»; он даже дерзнул заметить гениталии, но ничто, никакая «сублимация как противовес непристойности», не могло спасти его от художественного провала; при таких исходных посылках спасти писателя может только ирония. Почему? Прежде всего потому, что писатель — по причинам, связанным с самой сокровенной сутью эротики, — является наблюдателем. Это слово позволяет нам понять одну из самых существенных трудностей изображения сферы половой жизни. Как бы ни пытался писатель замести следы своего присутствия в произведении, оно само — изображенная в нем любовная сцена — свидетельствует, что в определенном, психологическом смысле он там был. Это фатальный изъян положения «соглядатая», изъян, которого как раз и не избежал Лоуренс. Единственный выход — встать на позицию вспоминающего, без остатка воплотиться в рассказчика, вести повествование в первом лице; к сожалению, это устраняет диссонанс только наполовину, ведь второй «соглядатай», то есть сам читатель, не может исчезнуть. Между тем участвовать лично (позволю себе это неуклюжее выражение) в половом акте в качестве одного из партнеров — дело совсем иное, чем созерцать подобную сцену со стороны. Половой акт, если в нем нет хоть какой-либо примеси ненормальности, требует герметического уединения. Это, понятно, невозможно. Осознавая, в той или иной мере, необходимость ввести чужака-читателя в самую сокровенную сферу, какая только может быть уделом двоих людей, писатели прибегают к различным способам. Результаты обычно плачевны. Поскольку внешнюю, физиологическую сторону копуляции невозможно изобразить как нечто прекрасное, эстетически возвышенное, в ход идут стилистические приемы, по которым немедленно узнаются «заклеенные» места. Обычно (и это уже целая традиция!) писатель в какой-то момент «переключает регистр»: от физиологических фактов уходит в сглаженные общие фразы, долженствующие дать понятие о наслаждении, которое испытывают персонажи (что невозможно, так как между называнием и переживанием ощущений нет мостов). В других случаях прибегают к псевдопоэтической метафорике сомнительного качества, особенно часто обращаясь к таким природным явлениям, как океан, так что сразу же появляются всевозможные покачивания на волнах, ритмы, погружения, растворения и так далее. Но убожество подобных приемов я считаю до банальности очевидным. Настоящая причина поражения кроется в третьей паре глаз, той, закрыть которую невозможно, ибо это глаза читателя; и ни ретирада в убогую лирику — эквивалент оргазма, ни цитирование пособия по сексологии ничего общего не имеют с художественным преображением. Это сущая квадратура круга и вдобавок — бегство от одной разновидности ханжеского лицемерия к другой, которая пытается приукрасить физиологические факты. Между тем любому врачу известно, что человек, испытывающий сексуальное наслаждение, не похож ни на Аполлона Бельведерского, ни на Венеру Милосскую, и писатель, выбравший путь «верности природе», путь последовательного бихевиоризма, сам обрекает себя на составление мозаики из элементов, носящих ученые названия тумесценции, фрикции, оргазма, аккомпанемент которых, сопутствующий всем ощущениям и эффектам, не исключая звуковых, трудно уподобить симфонии. Что же остается? Либо компромисс этики с физиологией (а в искусстве компромиссы, как известно, не окупаются никогда!) и опасность подвергнуться обвинению в порнографии (которая с художественной, а не моральной точки зрения представляет собой «низкий прием», из разряда таких, как «описание жизни высших сфер», «чудесная карьера бедной девочки» и т. п.), либо — способ, изобретенный сравнительно поздно, — осознанное подчеркивание животной, тривиальной стороны полового акта, чтобы, по крайней мере, вся эта история настолько опротивела читателю, что не могла бы доставить ему соблазнительного удовольствия. Если партнерша похожа скорее на ведьму, чем на кинозвезду, а партнер — грязный детина, у которого для верности еще разит изо рта, возможность соблазна сводится к нулю, а на поле боя остается лишь принцип «изображения жизни во всем ее настоящем уродстве». Как раз из-за своей псевдофилософской претенциозности подобная антипорнография оказывается художественной дешевкой. Прежде чем я завершу это огромное отступление о «копуляционизме», в ловушку которого завела некоторых художников бихевиористская школа, следует коснуться еще двух вопросов. Выше я уже упомянул о возможности пойти по пути иронии. Насмешка, неразрывно слитая с описанием полового акта или даже заменяющая описание, бывает художественно плодотворной. Из польских прозаиков к этому способу, правда в гротескной его разновидности, прибегал Виткацы{125}. Это выход действительный, не фальсифицированный, ведь в самом контексте сексуальных переживаний с их неизбежной «внешней» составляющей кроется, между прочим, заряд комизма, который нередко появляется там, где нечто необычайно возвышенное (а ведь возвышенное — атрибут любви), достигая высшей точки, переходит в свою противоположность. Коль скоро я так разговорился, придется развить эту мысль. С точки зрения конструктора, созерцающего произведение в целом, любой его элемент, а значит, и сексуальный контакт, художественно необходим, если он играет в этом целом какую-то роль. Благосклонный читатель, который соблаговолил заметить, что до сих пор я старался, насколько мог, избегать рискованных образов, быть может, позволит мне пояснить вышесказанное примером, почерпнутым, так сказать, из близлежащей анатомической области. Физиологическая функция, взятая вне изображаемой в произведении психосоциологической ситуации человека, разумеется, не смешна — смешит она разве что простаков; но уже упоминание, например, об акте дефекации может оказаться смешным, и опять-таки не столько из-за его тривиальности (хотя, вообще-то говоря, известно, сколь охотно и плодотворно народный юмор черпает из скатологических источников), сколько из-за контраста, который может совершенно неожиданно обогатить, деформировать или начисто изменить тональность повествования. Если, к примеру, только что коронованная королева побежит, со всеми атрибутами власти, в уборную, ибо такого исхода требуют сопутствующие коронации переживания, то всех ее беспокойств, всех проблем, которые ей придется решать (например, снимать корону или же это необязательно: мол, какой урон может понести неодушевленный предмет там, где нет посторонних глаз), — всего этого роман XIX века нам ни за что не показал бы (а раблезианский — как нельзя охотнее). Критик на это мог бы резонно возразить, что изображение дефекационных забот монархов не определяет ни ранга, ни степени новаторства произведения, словом, что это идиотизм. В принципе я с этим согласен, но позволю себе одну оговорку. Случается, и притом нередко, что в романе изображается группа людей или хотя бы два-три человека, вдобавок разного пола, вынужденных пребывать вместе (плот с потерпевшими кораблекрушение в открытом море, запломбированный вагон, везущий арестантов или репатриантов, и так далее); так вот, автор — добросовестный реалист — обычно показывает нам со всеми подробностями, как ведут себя эти люди, как они едят, как разговаривают, как постепенно сближаются друг с другом, но проблематика «пи-пи» и «ка-ка» остается в совершенном забвении, словно бы по недосмотру; между тем в такой ситуации это абсолютная ложь, ведь отношения, и притом не только приятельские, понукаемые и даже, я бы сказал, терроризируемые сферой физиологических потребностей, очень скоро начинают клониться к специфической фамильярности. Только, ради бога, не сочтите меня глашатаем некой «школы логической дедукции», то есть безумцем, который всерьез потребовал бы от автора очаровательного романа «Пять недель на воздушном шаре» объяснить нам, каким это образом почтенный профессор и его милые спутники сохраняли известную дистанцию в отношениях между собой перед лицом неотложных требований своих органических естеств. Ничего подобного; я понимаю: здесь вступает в силу условность «валяния дурака»; в конце концов, этот шар летит перед глазами юных читателей. Но если роман всерьез претендует на реалистичность, тут уже ничего не поделаешь: реализм — это не одни удовольствия, но и обязанности. Я полагаю, что автору, предпочитающему замалчивать такие вопросы, следует хотя бы упомянуть о каком-нибудь кустике; а если он и его все-таки не сотворил, то должен принять вытекающие отсюда физиологические, а затем и психологические последствия, небезразличные для дальнейшего развития действия. Прошу прощения еще раз, но реализм, если уж стоять за него стеной, и вправду обязывает и может привести к такому сочетанию поноса с ангельской чистотой, которого автор, возможно, предпочел бы избежать. Но здесь-то и появляется возможность сделать из нужды добродетель — путем неожиданного короткого замыкания. Все это я говорил по поводу главной проблемы, ведь мы волей-неволей забрели в область физиологии, которая служит как бы подступом к основной теме, теме патологии. Пока что наши рассуждения дали чисто отрицательный результат: мы убедились, что лобовая атака вопросов секса ведет к художественному поражению. Правда, на шкале художественных ценностей акт любовного наслаждения функционально равноценен изображению агонии, дерева и любого другого явления или предмета; однако он занимает особое место в иерархии человеческих переживаний, и его изображение обладает такого рода возбуждающей способностью, которая вредна эстетически, но может вызвать у читателя ощущения, которых автор желал бы меньше всего. Другими словами, любовный акт, возбуждая читателя, выпадает из композиции, обретает совершенно нежелательную самостоятельность, и, если психологическая атмосфера произведения не настолько плотна, чтобы полностью подчинить его своим целям, он становится проступком не столько против морали (это нас в данном случае не так уж заботит), сколько против искусства композиции, разрушает целостность произведения. Другое дело, если получившийся диссонанс входил в намерения художника, как я пытался показать на не слишком удачном примере свежеиспеченной монархини; этот пример был мне нужен как доказательство определенных эстетических возможностей явления, вообще-то крайне вульгарного. Из осторожности можно было бы добавить, что скатология тоже возбуждает людей определенного склада, хотя это уже анормальность восприятия, а не самого «сообщения»; но предмет нашего рассмотрения — литература об извращенцах, а не для извращенцев. Вернемся, однако, — ибо пора уже — к нашим извращенцам. Трактат о художественной пригодности аномалий, параноидальных или эпилептических отклонений (Смердяков, князь Мышкин) можно, разумеется, написать и проиллюстрировать примерами из замечательных произведений. Получилась бы толстая и полезная книга. Но не может быть речи о том, что выбор такого героя сам по себе достаточен для появления выдающегося произведения. Примером может служить «Стена» Сартра. По части психопатологии иные рассказы этого сборника заходят дальше, чем «Лолита» Набокова. Но после «Стены» у меня осталось только чувство отвращения. Оно, разумеется, не возникло бы, если бы я читал эту книгу как сборник историй болезни, но ведь она числилась по ведомству литературы. А литература эта плохая. Никакого отклика, никакого сочувствия замученные персонажи Сартра не пробуждают. Он написал холодное исследование, до такой степени сходное с клиническим, что в свое время я позволил себе сочинить псевдорецензию, в которой «Стена» рассматривалась как ряд психиатрических случаев. Вооружившись любым медицинским трудом, можно описать их сколько угодно, с тем же плачевным результатом. Безумие может быть темой художественно плодотворной, но для этого необходима такая ее трансформация, такой — открываемый каждый раз заново — метод, такое преображение, которое создает произведение искусства. Конечно, я лишь делаю вид, будто не знаю, что имел в виду Сартр: он имел в виду свою собственную философию, и «Стена» иллюстрирует «тошнотворную» онтологию экзистенциализма; но иллюстрировать философию, хотя бы самую почтенную, при помощи беллетристики — это, по-моему, фальшь, злоупотребление литературой, которую мне хотелось бы видеть самостоятельной, существующей на свой собственный счет, и тут я согласен с послесловием Набокова к «Лолите». IIIИзвращенец Набокова — эротический маньяк, а его мания — девочки-подростки. Почему? Я решился бы утверждать, что могу и на этот вопрос ответить осмысленно, то есть в категориях художественного, а не психиатрического исследования. Какой-нибудь эксгибиционист, трансвестит, фетишист и бог знает кто еще был бы отвратительным персонажем, и это литература бы выдержала, но сверх того — излишним, ненужным, а с таким героем писать роман лучше и не пытаться. В лице злосчастного Гумберта мы (замечание почти медицинское) не имеем дела с «чистой» педофилией, потому что девочка-подросток — уже не вполне ребенок, в ней есть уже что-то от женщины; вот первый переход, первый мостик к нормальности, который позволит читателю войти в психологическое состояние Гумберта. С другой стороны, однако, Лолита — еще настолько ребенок, что в нас сразу же пробуждается гневный протест, презрение — словом, мы уже вовлечены во всю эту историю, что (как увидим) соответствует авторскому намерению. Почему извращенец Набокова — это человек, стоящий на грани того, что еще можно интуитивно понять, и того, перед чем наша способность к интроспекции уже пасует? «Нормальный», то есть «законченный» извращенец встречает препятствия удовлетворению своих извращенных влечений во внешнем мире — в виде угрожающего ему скандала, тюремного заключения, общественного осуждения. Известны различные разновидности таких извращенцев. Во-первых — случай наиболее частый, — это субъект, чрезвычайно низко стоящий в умственном отношении, а то и просто дебил, кретин, но в различных вариантах, от добродушного имбецила, который, под влиянием животного импульса, возникшего в его помраченном сознании, вдруг изнасилует какую-нибудь старушку, до агрессивного идиота, и тогда это будет казус для криминологов, — например, эротоман-садист, какой-нибудь Джек-потрошитель, у которого страсть к убийству как единственной возможности удовлетворения либидо сочетается со специфической хитростью поведения (такой хитрый идиот-убийца показан в немецком фильме «Дьявол приходит ночью» — его прекрасно сыграл актер, имени которого я, к сожалению, не помню). Человек со средними умственными способностями и извращенным половым влечением, благодаря различным социальным влияниям, которым он подвергается с детства (в семье, в школе, в своем окружении), вырабатывает у себя, нередко не вполне осознанно, систему запретов и тормозов, и потому либо совершенно не ориентируется, куда направлена стрелка его влечений, либо, однажды осознав это, ценой огромного внутреннего напряжения запрятывает эти темные силы вовнутрь и баррикадирует их; в этом случае возможна сублимация влечения, и, например, из потенциального педофила получается по-настоящему превосходный и высоконравственный воспитатель. Иногда же такие люди становятся психопатами, истериками, невротиками, всевозможные соматические и душевные недуги которых — нечто вроде поверхностного проявления глубоко запрятанных, проклятых комплексов, в которых они неповинны; душевные изъяны подобного рода выражаются вовне в нейтральной с точки зрения морали форме. И, наконец, встречаются люди с незаурядными умственными способностями, умеющие самостоятельно анализировать любые общественные нормы и запреты, психопаты выдающегося ума, наделенные нередко талантом, которым сознание собственной исключительности дает, по их мнению, право нарушать общепринятые нормы. Такая узурпация как раз и породила поступок Раскольникова. Отличительная черта анормальности подобного рода — ее редкость, во всяком случае, если речь идет о таком складе характера, влечений и интеллекта, при котором личность такого формата не считает мир существующих ценностей всегда враждебным себе. Если бы это был мономаньяк, безусловно убежденный в правомерности своего поведения (в эротической или какой-либо иной области, например, в распоряжении жизнью других, как Раскольников), то — независимо от того, надстраивает ли он над своими поступками мотивацию «высшего порядка», как герой Достоевского, или же действует из эгоизма, лишенного подобных «оправданий», как Гумберт, — он представлял бы собой пример чистой moral insanity[128]. Вместо духовной, художественной, писательской проблемы мы имели бы дело всего лишь с проблемой клинической, как и в случае извращенца-идиота, только на более высоком уровне интеллектуальных способностей. Но дело в том, что граница между дозволенным и недозволенным, преступлением и добродетелью, чистотой и грехом, раем и преисподней проходит внутри человека, и решающим авторитетом, главным своим противником становится нередко он сам, — в гораздо большей степени, нежели общество, подстерегающее его аморальный поступок, чтобы покарать за него. Извечная дилемма греховной природы человека, вопрос об условной (и преодолимой для незаурядной личности) или же надисторически неизменной границе запретов, вопрос, который смутно тревожил, пожалуй, уже неандертальца, в случае такого извращения выступает особенно резко, возводится в квадрат; и мы постепенно осознаем, что «извращенец» — просто увеличительное стекло, и не об исследовании перверсии идет речь, но о выборе художественных средств, которые позволили бы в конечном счете по-новому (а это в литературе труднее всего!) подойти к вопросам секса и любви. Но почему же по-новому, коль скоро проблема стара как мир? Дело в том, что казус «Гумберт — Лолита» особым образом вводит нас в эротическую проблематику: писатель, не умалчивая ни о чем существенном, показывает, что вульгарное описание сексуальной техники совершенно излишне при погружении в то ядро тьмы, окруженное заревом сжигающей самое себя ненасытности, каким становится любовь, перерастающая встроенный в человека природой механизм сохранения вида. Мы можем соприкоснуться с любовью, лишенной поводов и уздечек, которыми позаботилась снабдить нас цивилизация, любовью, настолько далекой от освященных норм, что перед нею пасует наш инстинкт классификации, стремление к однозначным определениям. В многолюдном центре современной страны сливаются, словно бы в абсолютно пустом пространстве, герметически замкнутом извне, высокая и омерзительная нежность обоих любовников, жестокость, трагическая и беспомощная, наконец, комизм преступления, и благодаря такому смешению, такому синтезу, интенсивность сопереживания оказывается сильнее, чем стремление выяснить, кто был палачом, а кто жертвой. Разумеется, в остывшем воспоминании, в глазах любого судьи, наконец, в свете всех наших понятий о добре и зле нет места подобным сомнениям; но, читая последние строки книги, мы не в силах вынести приговор — не потому, что он невозможен, а потому, что ощущаем его ненужность; это чувство, с которым мы закрываем книгу, и есть для меня единственное убедительное доказательство писательского успеха. Конечно, анализируя «Лолиту», можно было бы сказать немало умного. Незрелость Ло, маскируемая видимой уверенностью в себе, в сущности, отражает в каком-то смысле инфантильность американской культуры, но эту тему, которая завела бы нас в дебри социологии тамошней жизни, я обойду стороной. Судьба девочки, которой уж точно не позавидуешь, — хотя Набоков, по сути, не наделил ее ни одной «положительной» чертой, хотя эта крохотная душа доверху набита комиксовым, перечно-мятным, рекламным хламом, хотя автор в самом начале лишил ее ореола «растоптанной невинности», наделив эту школьницу тривиальным половым опытом, и сделал все, чтобы мы не могли сомневаться в полнейшей обыкновенности, даже заурядности ее особы, которую ничего великолепного в жизни не ожидало, даже если бы в нее не вмешался фатальный Гумберт, — эта судьба трагична, и извлечение подобной ноты из такой пустоты — еще один успех писателя. Ведь это значит показать имманентную ценность пускай стереотипной, лишенной всякой притягательной силы и духовной красоты, но все-таки человечности. Правда, одним из способов добиться этого (впрочем, оправданным психологически и физиологически) было наделение Лолиты чертами «фригиды», но вряд ли можно упрекнуть за это писателя. Гумберт, особенно в последних частях книги, проговаривается, что давно уже осознавал, насколько невыносимую жизнь (я имею в виду ее психологическую сторону) устроил он падчерице и сколь упорно не желал признаваться в этом себе, потому что так ему было удобнее. Он был вообще большая свинья, как и положено современному герою, знал об этом и не жалел для себя еще более сильных эпитетов, — а уж в некоторых сценах он просто омерзителен, например, когда строит план усыпления Лолиты какими-нибудь таблетками в их первую ночь вдвоем, чтобы, не осквернив ее невинную душу (я излагаю мысли Гумберта), удовлетворить свою страсть. Эта забота о невинной душе, до невозможности фарисейская, впрочем, не имела последствий; снотворное не подействовало, и к тому же оказалось, что душа не невинна. Есть там истории и похуже. Я говорю об этом потому, что выше прибегал к таким высоким словам, как трагизм и трагичность, а реалии, если к ним присмотреться, подобны этой, упомянутой для примера (особенно в первой части романа). Если бы я бросил роман где-нибудь на сотой странице (а поначалу он порядком меня раздражал, особенно кое-какие эпизоды предыстории Гумбертова извращения, изложенные на манер «Стены» Сартра), то остался бы — как и от чтения «Стены» — неприятный привкус, и только. Но потом приходит любовь, и, — хотя мы осознаем это поздно, почти так же поздно, как и сам Гумберт, — по мере того как суммируются его неизменно последовательные поступки, наше убеждение в омерзительности этого человека непонятным образом ослабевает, столько мы в нем открываем отчаяния. Я даже задумывался: не есть ли отчаяние главный мотив всего романа? Это пребывание в состоянии, в котором пребывать невозможно, это движение от одной невыносимой ситуации к следующей, еще более мучительной, от одного унижения к другому, еще более глубокому, — приводят на мысль атмосферу некоторых страниц Достоевского, читать которые почти невозможно, до такой степени они подавляют. Стоило бы, пожалуй, сказать несколько слов по поводу «теории» Гумберта о «демонической», вводящей в искушение природе определенного типа девочек-подростков, пресловутых «нимфеток», которых он будто бы столь безошибочно (по многократным его уверениям) умел отличать от других. Теорию эту я считаю плодом его девиации, попыткой вторичной рационализации и объективизации собственного отклонения от нормы, то есть проекцией во внешний мир собственных эмоций. Как видно, ему было легче примириться со своей природой, если хотя бы часть ответственности за то, что он делал, он мог переложить на «ангелоподобных суккубов{126}». Я не хотел бы делать вид, что тут нет вообще никакой проблемы, кроме психиатрической, ведь феномен незрелости и ее притягательной силы может оказаться фактором первостепенной важности, и не только в эротической сфере; он даже может без остатка захватить воображение художника (Гомбрович!{127}). Но главная ось романа, как мне представляется, проходит не здесь. Особый вопрос — это вопрос о средствах, которые не позволяют лирическим местам соскользнуть в сентиментализм. Нельзя сказать, что его в романе вообще нет. Но там, где Гумбертову сентиментальность не в состоянии вытравить ни совершаемый на каждой странице внутренний самосуд, ни самоирония, ни едкая горечь, — сам адрес изображаемых чувств и обстоятельства, в которых они проявляются, уберегают этот мотив романа от превращения в китч. Хорош сентиментализм, начиненный лирическими воздыханиями «папуси», вынуждающего «доченьку» отдаться ему утром, а иначе он не подаст ей завтрак в постель! Следует заметить, что эта мешанина сентиментальности и жестокости, еще более усложняющая и без того уже окошмаренную эротическую историю, правда, соприкасается с мотивом кровосмешения, но эту последнюю границу не переходит, хотя Набоков, в конце концов, мог бы сделать Гумберта настоящим отцом Лолиты. Думаю, однако, что тогда всех примененных писателем приемов оказалось бы недостаточно и разразилась бы катастрофа (разумеется, художественная, ибо мы по-прежнему оперируем скорее критериями эстетики, чем морали). Поистине странные вещи, по крайней мере, с точки зрения «психопатологической нормы», происходят в конце романа. Отыскав Лолиту — в сущности, уже взрослую, замужнюю, ожидающую ребенка, — Гумберт продолжает ее желать, и, кроме нее, ему ничего не нужно; а это в известном смысле означает отказ от исходных посылок: что речь, дескать, идет об извращенце, который мог только с девочками. В сцене новой встречи, через два года, Лолита — измученная, на последних месяцах беременности, в очках, — не пробуждает в Гумберте ожидаемых нами (мол, это было бы последовательно) «извращенных» по определению влечений. Что случилось? Неужели Гумберт «понормальнел»? Из чего-то вроде Ставрогина превратился в Данте, стоящего перед Беатриче? Или это ошибка в построении сюжета? Напротив: это осуществление авторского замысла. Ибо противоречие не только отчетливо, но и подготовлено множеством более ранних штрихов! Когда в начале книги мать Лолиты отправляет девочку в летний лагерь, Гумберт потрясен даже не столько самой разлукой, сколько тем, что течение времени навсегда лишит его возможности исполнения мечтаний; Гумберт, изображаемый «изнутри», ясно осознает, что Лолита бесценна для него потому, что встречена им на переходной быстролетной стадии ее жизни, и через какие-нибудь два-три года, превратившись в женщину — одно из существ, к прелестям которых он совершенно равнодушен, — исчезнет для него, словно бы вовсе не существовала. Между тем проходят не два, не три, а целых четыре года, и все меняется. Что же случилось? Неужели Гумберт пылал страстью к воспоминаниям, вызывал в памяти образы прошлого? Ответ мы дадим позже. Сначала стоит рассмотреть еще некоторые обстоятельства, поэтому займемся самим финалом романа. Это — убийство «соблазнителя» Лолиты, чудовищно-фарсовое как бы в квадрате: один вырожденец, изображавший «папочку», убивает другого, а тот, пьяный, агонизирующий, проявляет удивительное, совершенно неожиданное достоинство; и вдобавок само убийство показано как ряд поступков, настолько хаотичных, настолько беспомощных с обеих сторон, что трудно найти в литературе что-либо подобное. И все же теперь я выскажу две оговорки общего характера: первая относится к интродукции, вторая — как раз к коде, финалу «Лолиты». Вступление кажется мне взятым из какой-то другой оперы, оно идет в другом направлении, чем книга в целом. Знаю, что и это сделано намеренно, как я постараюсь показать ниже, но тут что-то не вышло. Некоторые сцены обрели слишком большую самостоятельность (о подобной опасности я упоминал в связи с «дерзким копуляционизмом»). В начале книги, где повествуется о первых встречах с Лолитой, есть какие-то внутренние диссонансы — особенно одна сцена, отвратительная до совершенства, напоминающая «дневник ошалевшего онаниста»; для не слишком снисходительного читателя одной этой сцены может оказаться достаточно, чтобы бросить чтение. Этих крайностей могло бы не быть — и не потому, что они слишком резки, напротив — потому, что они ослабляют роман. Ведь нисхождение в бездну эротического ада совершается на сотнях страниц, и нет такого унижения, которого не пришлось бы пережить Гумберту и Лолите; так зачем же Набоков сразу перебрал меру, словно не мог попридержать своего героя? Это одно из немногих мест романа, крикливых до натурализма. Претензии к финалу — иного рода. Я буду говорить об отдаленном родстве «Лолиты» с творчеством Достоевского и позволю себе в этих заметках, близящихся к концу, призвать его могущественную тень. Этот великий русский (прошу прощения, что говорю от его имени), возможно, и закончил бы роман убийством (ибо он мог бы написать столь монотематический роман), но сделал бы это совершенно иначе. Как? Не знаю, но знаю, что неприятно поражает меня в эпилоге: сознательное художническое усилие, которое становится заметным. Центральная часть книги художественно совершенна, как некий шар; влечением, страстью, мучительством без границ она словно спаяна в единое целое, без видимых усилий, тогда как во вступлении есть налет довольно дешевого, в сущности, цинизма, вперемежку с лирическими стонами душевных мучений (ведь все это подано как сочиняемые в тюрьме воспоминания Гумберта); но о вступлении можно забыть, пройдя через раскаленную середину, а финала забыть нельзя, с ним читатель уже остается. Так вот: я бы сказал, что Набоков хотел написать сцену убийства реалистически, поэтому смешал в своем котле фарсовость и кошмарность убийства, но где-то перетончил, затянул, ослабил акценты, и выступили наружу скрепы конструкции, ее несущий каркас — тщательно продуманный, потому что все должно было быть иначе, чем в триллерах. Здесь шило вылезает из мешка. Я говорю «по интуиции», но думаю, что финальную сцену Набоков хотел сделать неким суперпастишем триллера, этого ублюдка романа викторианской эпохи и записок маркиза де Сада или, скорее, такой противоположностью этой сенсационной дряни, которая сокрушила бы стереотип, тысячекратно утвержденный перьями жалких писак. Возможно, впрочем, что это не был осознанный замысел. Во всяком случае, если сюжет в целом при всей его потенциальной мелодраматичности (похотливый самец, невинное дитя, оргии и т. п.) обрел самостоятельность, художественную достоверность и утратил какую-либо связь и сходство с триллером во всем его убожестве, то в сцене убийства этот изоморфизм, столь успешно преодолевавшийся автором, как бы выходит на первый план. Один субъект приходит к другому с револьвером и убивает его. Надо было сделать это иначе, чем в триллерах, — лучше, правдивее, и так это и было сделано. Увы, оказалось, что этого мало. Слишком хорошо получилась эта беспорядочная возня, слишком уж точен этот хаос, слишком расходятся с ситуацией реплики; в акте убийства, как и в половом акте, есть — ничего не поделаешь — что-то банальное (художественно банальное, прошу понять меня верно!), а банальности Набоков боится как огня. Достоевский не совершил бы подобной ошибки, потому что ничего не боялся. Он сам был для себя целым миром, сам устанавливал законы своих романов, и никакое внешнее влияние не нарушило бы его планы. В конечном счете оказывается, что из двух писателей, из которых один не желает считаться с условностями, а второй творит, просто не замечая их, первый слабее второго: он действует против чего-то как человек, а второй просто действует как демиург. Ещё немного, и я сказал бы: «как стихия». Иными словами, как Природа, с таким же безразличием ко всему, существовавшему ранее. Но, может быть, в таких обобщениях уже таится глупость. Перейдем к эпилогу этих заметок. Я так разошелся, что изложу теперь свое мнение о связях, которые существуют между романом Набокова и творчеством Достоевского. Начнем скромно. Быть может, мне случится повторить чьи-либо критические суждения — мне о них ничего не известно. Закончив «Лолиту», я как бы по необходимости обратился к «Преступлению и наказанию». Здесь один из наиболее поражающих меня персонажей — Аркадий Свидригайлов. Неужели Гумберт — это его позднейшее, сто лет спустя, воплощение? Попробуем отыскать предпосылки подобной гипотезы. Будь я критиком-аналитиком, я бы предпринял настоящее исследование. Я указал бы на известное сходство этих персонажей, даже внешнее. Наивная литература нередко наделяла извращенца признаками физической ненормальности или, во всяком случае, безобразием, между тем Свидригайлов и Гумберт — мужчины что надо, плечистые, рослые, привлекательные, незаурядного ума. Один из них светлый блондин, другой — брюнет. Ага! — сказал бы наш критик-детектив — пожалуйста! Набоков попытался изменить прототип и перекрасил ему волосы! Но не такое сходство я имею в виду. Я хотел бы напомнить, что единственным, в сущности, персонажем «Преступления и наказания» (кроме главного героя), сознание которого показано изнутри, является Свидригайлов. И тут совершается необычайно важная для наших рассуждений метаморфоза. Изображаемый со стороны, Свидригайлов, прямо скажем, чудовище. И жену-то он погубил, во всяком случае, способствовал ее смерти, и хлыстиком баловался, и к девочкам слабость имел такую, что довел до самоубийства не «нимфетку» какую-нибудь, но сироту, немое дитя, — пожалуй, достаточно? Но с той минуты, когда мы оказываемся внутри него, участвуем в его видениях и сонных кошмарах, происходит нечто странное: теперь мы способны, по крайней мере отчасти, понять этого монстра, временами даже сочувствовать ему; мало того, его монструозность в моменты наивысших переживаний словно бы улетучивается, и единственная субстанция, которая остается, — это душевное отчаяние, настолько универсальное, что заполняет собою весь мир, так что вне этого отчаяния нет уже ничего, и потому, за неимением точки отсчета, нельзя даже назвать его; и есть какое-то подлинное облегчение в трогающей своей несравненной простотой и суровостью минуте самоубийства (которое вместе с тем представляет собой акт не повторенного уже в литературе эксгибиционизма, демонстративного шага «туда», в эту свидригайловскую вечность, изображенную Достоевским в виде грязной каморки с пауками по стенам); этот шок несет в себе умиротворение и примирение с тварью, приобщенной на какое-то мгновение к человечности. И все это благодаря интроспекции. Гумберт, изображенный извне, был бы, я думаю, еще отвратительнее, потому что он «тоньше», трусливей, смешнее, и даже просто смешон; между тем в образе Свндригайлова комизма нет. Все вышесказанное было вступлением к изложению главной мысли. Свидригайловым, как известно, владели две страсти: к Дуне, сестре Раскольникова, и к более или менее анонимным девочкам-подросткам. Дуня была, так сказать, для любви, а девочки для распутства. И касательно этих девочек Свидригайлов имел еще одну, особенную манию: в действительности это он соблазнил, обесчестил ребенка, но мечталось ему, чтобы было как раз наоборот. В последнем сне, накануне самоубийства, ему чудится, что заплаканная и замерзшая девочка, встреченная им ночью в закутке грязного гостиничного коридора, которую он кладет в свою кровать, сперва притворяется спящей, а потом пробует — она его! — соблазнить! Именно это и происходит, уже наяву, с Гумбертом и Лолитой, она соблазнила его — правда, в номере мотеля, но со времени написания «Преступления и наказания» прошло как-никак сто лет. Теперь, я думаю, все становится ясно. Два образа, две стороны свидригайловской страсти, любовь к взрослой женщине и извращенное влечение к ребенку, Набоков слил воедино. Его Гумберт — это сексуальный доктор Джекилл и мистер Хайд, который, сам того не ведая, влюбился в предмет своей извращенной страсти. Вместе с тем получает объяснение то, по видимости удивительное, противоречие, которое заставляет извращенца Гумберта в конце романа стать верным Лолите; эта «верность» извращенца своей жертве объясняется вовсе не только слиянием двух прототипов (Свидригайлов гонялся за девочками, — между прочим, и в Петербурге у него была «записная» жертва в лице несовершеннолетней «невесты», — но любил только Дуню); в «Лолите» есть что-то сверх этого. Разумеется, осуществив синтез, Набоков должен был отказаться от взаимозаменяемости объектов влечения, свойственной «нормальному извращению», в пользу незаменимости эротической «гиперфиксации», этого мучительного свойства любви. Это было отказом от законов клиники, но не психологии: начав с самых низких ступеней животного секса с его беспощадным эгоизмом, следуя путем, как бы обратным тому, каким обычно идет искусство, он добрался наконец до любви, и тем самым два несогласуемых, казалось бы, полюса — дьявольского и ангельского — оказались единым целым. Из унижения выросло чувство настолько возвышенное, что родилось произведение искусства. Раз уж я столько сказал о связях «Лолиты» с некоторыми мотивами Достоевского, необходимы известные оговорки. О том, что книга Набокова прямо восходит к этим мотивам, не может быть и речи. Во-первых, то, что происходит с Гумбертом, у Достоевского было бы совершенно невозможно. Влечение к ребенку, надругательство над ним представлялись ему адом без возможности спасения, грехом, по своей неискупимости сравнимым с убийством, только более изощренным — таящим в себе источник самого жестокого из всех запрещенных для человека (хотя, разумеется, как раз поэтому дьявольски соблазнительного) наслаждения. Граница, у которой останавливался Достоевский, или, точнее, его Ставрогины и Свидригайловы, — невозможность облагородить подобный грех, — не потому была нерушимой, что ему недоставало смелости (уж в этом его никто бы не заподозрил), но потому, что он не признавал компромиссов и эту свою бескомпромиссность воплощал в образах изображаемых им чудовищ. То были персонажи, выделявшиеся не только размерами своих злодеяний. Их незаурядность не ограничивалась лишь областью интеллекта, но была свойством их личности в целом. При всей их отвратительности в Свидригайлове и особенно в Ставрогине есть что-то необычайно притягательное. На таком фоне Гумберт определенно мелковат. Клерк, интеллектуал по преимуществу, эстет, воплощение европейскости, он вожделеет не Греха и даже не грешков (первого, потому что не признает религиозной метафизики, вторых — потому что они ему не по вкусу), а всего лишь удовольствия, его беспощадность проистекает из самообмана и себялюбия, а не из садизма и жестокости; мы читаем, и не раз, что сама мысль о принуждении, о насилии ему отвратительна; словом, при всей искренности своих признаний этот извращенец — фарисей, который был бы рад и удобно устроиться, и Лолите сделать приятное, только, к его огорчению и даже отчаянию, это совершенно не удается. Пока Лолита находится в его власти, его мучат не угрызения совести, а только страх, совершенно светский, если можно так выразиться; да и внешнее сходство с персонажами Достоевского не так уж значительно. Ибо женщин привлекает в нем тип красоты, напоминающий идеал мужчины на голливудский манер. Словом, этого сексуального преступника не назовешь великим злодеем; впрочем, его уже определило одно слово, произнесенное раньше: это свинья. Ставрогина назвать свиньей никак невозможно. Все это так. Тем неблагодарнее задача Набокова, ибо он дает Гумберту возможность искупления в кульминационной для меня сцене романа: оказавшись перед «вновь обретенной Лолитой», Гумберт осознает, что эту лишенную всех «нимфетических» чар, беременную, поблекшую Лолиту, которая любую, даже самую жалкую пародию семейной жизни предпочитает судьбе, уготованной ей «отчимом», — он любит по-прежнему, или, пожалуй: только теперь и любит, или же, наконец, полюбил неизвестно когда, ибо метаморфоза эта совершалась постепенно. Чувство, вопреки его собственным предположениям, не угасает, и незаменимость Лолиты на целые толпы «нимфеточных» гурий, находящихся на нужной ему стадии незрелости, открывается перед Гумбертом как нечто окончательное, перерастающее способность его понимания, его талант высмеивания, вышучивания всего, что случилось с ним, как тайна, совладать с которой он не хочет и не умеет. Отчаяние этого открытия, усугубленное категоричностью ее отказа пойти с ним и, безусловно, не могущее найти какого-либо исхода во внешних поступках, без надежды на искупление в будущем, позволяет читателю вынести все его отвратительное прошлое, и даже больше: это отчаяние достигает своей высшей точки в душевном состоянии, которое прямо в романе не названо, но религиозным эквивалентом которого было бы искреннее сожаление, раскаяние и не уступающая им по своей интенсивности нежность, уже не запятнанная нечистым влечением к жертве. Я говорю: религиозным эквивалентом, чтобы найти подходящую шкалу ценностей; атмосфера этой сцены совершенно светская, ведь в романе отрицается возможность чего-либо непосюстороннего. Так Лолита перестает быть случайной, одной из многих, и становится единственной и незаменимой, бесценной, несмотря на ожидающее ее физическое безобразие родов, отцветания, угасания. А значит, в это неуловимо краткое мгновение рушится механизм преступной страсти — преступной даже не потому, что она попирает правовые и общественные табу, но потому, что здесь проявляется совершенное равнодушие и бесчувственность к судьбе, непоправимой обиде, духовному миру эротического «партнера поневоле». В это мгновение на глазах у читателя объект «нимфетического» влечения сливается с объектом любви и превращается в субъект, а этот феномен чужд угрюмому миру персонажей Достоевского: он составляет исключительную собственность Набокова и свидетельствует об оригинальности его романа. Вот что можно сказать о судьбах персонажей. Есть еще третье отличие, не позволяющее поставить книгу Набокова в том же ряду, что и творчество Достоевского. Это стилистика романа и всеприсутствующий в исповеди Гумберта элемент юмора. Набокову удалось представить в смешном свете даже то, чего комизм, казалось бы, коснуться не может, — преступную страсть; он показывает мечтания Гумберта о каком-то будущем супружестве с Лолитой, о надежде утешиться, когда у него будет от нее дочь, очередная «нимфетка», с которой он сможет вновь испытать преступное наслаждение. Однако безмерная мерзость подобных мечтаний этим не ограничивается, фантасмагория наяву развивается дальше: Гумберт видит себя самого в виде крепкого еще старца, предающегося распутным забавам с собственной внучкой, зачатой в кровосмесительной связи со следующей Лолитой; тем самым сверхчудовищное становится вдруг — из-за чудовищности преувеличения — просто комическим. Этот «приапический сверхоптимизм» компрометирует, высмеивает, сводит к абсурду преступное вожделение, а смех, от которого не может удержаться читатель, спасает Гумберта, как и во многих других ситуациях, которые, возможно, романисту еще труднее изобразить в смешном свете, а мне — проанализировать столь же кратко, как в этом случае. В этих заметках содержится существенное противоречие. Сначала столь многолюдную область, как литературная критика, я объявил пустынной, чтобы затем эту мнимую пустоту заполнить собственными категорическими суждениями. Не могу опровергнуть этот упрек — даже если я объясню, что хотел только выяснить, что поддающегося проверке можно сказать о литературном творчестве в одной из тех пограничных зон, где тяжесть «щекотливой» темы едва ли не превосходит подъемную силу художественных средств. Не могу, потому что не знаю, все ли (впрочем, наверняка не все) согласятся с моими исходными посылками. В свое оправдание могу сослаться лишь на хорошо известный пример философов-солипсистов, сочиняющих трактаты о солипсизме. Они поступают непоследовательно, ведь если они верят, что, кроме них, никого больше не существует, то не могут рассчитывать на читателя своих сочинений. Для кого-нибудь другого «Стена» или «Любовник леди Чаттерлей» будут как раз превосходной литературой, а «Лолита» — книгой, в которой если что и есть большого формата, так это свинство. Тут ничего не поделаешь: я не верю, что кто бы то ни было (например, проницательный критик) может убедить читателя, прочитавшего и с неприязнью отбросившего роман, в его достоинствах и заставить им восхищаться. Белый медведь никогда не уговорит меня понырять под арктическими льдами, хотя не сомневаюсь, что для него это немалое удовольствие. Но «Лолита», даже если мы совершенно разойдемся в ее оценке, поднимает особую проблему, проблему тех пограничных зон, о которых я говорил. Она покоится на шатком основании, где-то между триллером и психологической драмой; таких зон можно отыскать больше: между психопатологическим исследованием и детективным романом, между научной фантастикой и литературой без уточняющих определений, наконец, между литературой «для масс» и элитарной литературой. Ибо вряд ли можно сомневаться, что разрыв между курсом художественной биржи для избранных и уровнем продукции типа mass culture возрастает. И как бы ни казалось безумным скрещивание столь чудовищно далеких друг от друга жанров (а экспериментатор при этом рискует лишиться как читателя-интеллектуала, который уже не захочет его читать, так и массового читателя, для которого подобное чтение все еще слишком трудно), я тем не менее отважился бы сделать ставку на такие гибриды. Они могут оказаться жизнеспособными даже без той атмосферы скандала, которая из множества непрестанно появляющихся в мире книг вынесла на поверхность «Лолиту». Tworczosc. 1962. № 8. С. 55–74 (перевод К. Душенко). ПНИН PNIN
Подобно диккенсовским «Посмертным запискам Пиквикского клуба» четвертый англоязычный роман В. Набокова вырос из серии юмористических очерков. В июне 1953 г. Набоков, все еще активно сотрудничавший с журналом «Нью-Йоркер», написал для него небольшой рассказ об американских злоключениях трогательно нелепого русского профессора Тимофея Павловича Пнина, одержавшего, как позже выразился анонимный рецензент журнала «Тайм», «пиррову победу над английским языком» (Pnin & Pan // Time. 1957. Vol. 69. March 18. P. 60). Немного позже писатель решил развернуть эту историю до размеров полноценного романа. В письме от 29 сентября Набоков сообщает Кэтрин Уайт, редактору «Нью-Йоркера», что высланный им рассказ — это не что иное, как первая глава небольшого романа в десять глав, который он планирует завершить в течение года[129]. Как всегда, жизнь внесла существенные коррективы в набоковские планы. Большой объем преподавательской работы, тягостные хлопоты, связанные с изданием «Лолиты», перевод мемуаров «Conclusive Evidence» на русский — эти и многие другие дела постоянно отвлекали Набокова от «Пнина». Лишь в январе 1954 г. была закончена вторая глава романа (впоследствии отвергнутая привередливой Кэтрин Уайт). Вместе с первой главой и кратким планом дальнейшего развития романа (который предполагалось завершить смертью злополучного Тимофея Павловича) она была послана редактору издательства «Викинг-пресс» Паскалю Ковичи. Посоветовав Набокову не умерщвлять своего героя, Ковичи одобрил идею романа и согласился его издать, несмотря на то что отдельные главы продолжали печататься в «Нью-Йоркере» (там были опубликованы первая, третья, четвертая и шестая главы). В августе 1955 г. писатель закончил последнюю главу и уже в конце месяца выслал Ковичи рукопись романа, озаглавленного «My Poor Pnin» («Мой бедный Пнин»). В отличие от заведомо труднопроходимой «Лолиты», этот роман, казалось бы, имел верный шанс увидеть свет в солидном нью-йоркском издательстве. Но не тут-то было. К середине сентября выяснилось, что «Мой бедный Пнин» разонравился Паскалю Ковичи. Капризного издателя не удовлетворил маленький объем и композиция произведения, которое, на его взгляд, было лишено цельности и являло собой не роман, а собрание слабо связанных друг с другом историй. Уязвленный автор написал Ковичи обширное письмо, в котором темпераментно защищал художественные достоинства своего детища: «Когда я начал „Пнина“, я поставил перед собой определенную художественную задачу: создать героя комичного, физически непривлекательного — гротескного, если тебе угодно, — а затем, при соприкосновении с так называемыми „нормальными“ людьми, представить его гораздо более человечным, более значительным и, в нравственном отношении, более привлекательным, чем они. Кем бы ни был Пнин, он меньше всего клоун. То, что я тебе предлагаю, — это совершенно новый литературный характер (значительный и в высшей степени трогательный), а новые литературные характеры рождаются далеко не каждый день»[130]. Видимо, аргументы Набокова показались издателю не слишком убедительными — 23 ноября писателю был дан вежливый отказ. Быстро оправившись от неожиданного удара, Набоков продолжил интенсивные поиски более сговорчивого издателя для своего (вот уж действительно!) «бедного» «Пнина». В начале декабря писатель закинул было удочку в издательство «Харперс» («Harper and Brothers») и, после очередной неудачи, предложил роман Джейсону Эпстайну, представителю издательства «Дабддей». Этим издательством книга и была опубликована в марте 1957 г. Роман появился как нельзя более кстати. К этому времени англоязычный литературный мир был взбудоражен шумным скандалом, разгоревшимся вокруг «Лолиты». Изрядно заинтригованные американские читатели и критики (которым, в подавляющем большинстве, парижское издание «Лолиты» было недоступно) жадно накинулись на роман «автора „Лолиты“». На фоне предыдущих неудач читательский успех «Пнина» был просто фантастическим: уже спустя две недели после выхода книги из печати тираж был полностью распродан, так что пришлось спешно выпускать второе издание. Впечатляющим оказался и урожай рецензий, их было опубликовано более семидесяти. Признание, которое «Пнин» снискал у американских критиков, было почти единодушным. Правда, почти все рецензенты, как и в свое время Паскаль Ковичи, писали о том, что «Пнин» лишен необходимой для романа цельности и связности, что он составлен из достаточно автономных частей, из которых не все выполнены «одинаково искусно» (Havighurst W. Po Americanski // Saturday Review. 1957. Vol. 40. March 9. P. 15). На эту особенность произведения указывали, в частности, Уолтер Хэвигхарст, Дороти Паркер (Esquire. 1957. Vol. 48. December. P. 62) и Говард Немеров, нашедший, что роман «выглядит несколько разбросанным, хотя и собирается в нечто целое весьма ловко изобретенной концовкой, в которой повествователь, самолично объявившийся на сцене, дабы своим появлением лишить Пнина работы, вдруг обнаруживает, что почти все, известное ему об этом человеке, получено им из вторых рук от людей, которые его пародируют» (Nemerov H. The Morality of Art // Kenyon Review. 1957. Vol. 19. №2 (Spring). P. 314). Впрочем, Немеров, как и все вышеупомянутые рецензенты, дал комплиментарный отзыв о «Пнине» и легко простил Набокову эту «разбросанность», поскольку он, «благодаря чередованию смешного и патетического, временами, пусть и редко, впадает в то щедрое, серьезное человеколюбие, что так восхищает в какой-нибудь книге рецензентов и так ненавидимо самим Набоковым» (Ibid.). Кроме «сердечного человеколюбия» американские, а затем и английские рецензенты высоко оценили образ главного героя книги, соединяющего ее разрозненные главы, и особо отметили присущее Набокову мастерство «двойного видения», которое позволяло «в одно и то же время показать внешнюю нелепость человека и осознать его внутреннюю боль — заставляя тем самым читателя сопереживать ему» (Wonderfully Comic // Newsweek. 1957. Vol. 49. № 10 (March 11). Р. 59). Памела Хэнсфорд-Джонсон <см.> поставила образ набоковского профессора на один уровень (если не выше) с Обломовым; Виктор Ланге <см.> (автор наиболее лестной для Набокова рецензии), сравнивая Тимофея Павловича с Обломовым и Грегором Замзой, даровал ему почетный титул «комического святого». Самого Набокова рецензенты практически единодушно признали одним из самых искусных американских писателей современности (при этом все горько сетовали на то, что его «Лолита» до сих пор не издана в Англии и Америке). Явным диссонансом в дружном хоре похвал прозвучали язвительные отзывы Ричарда Дж. Стерна, назвавшего роман Набокова «третьесортной или даже „четверосортной“ книгой» (Stern Richard G. Pnin and the Dust-Jacket // Prairie Schooner. 1957. Vol 31. № 161. P. 164), и Кингсли Эмиса <см.>, совсем недавно добившегося известности сатирическим романом «Счастливчик Джим» (1954) и потому имевшего все основания для того, чтобы видеть в Набокове опасного конкурента (отсюда — почти неправдоподобной концентрации яд, которым сочится каждая строчка его рецензии). Однако плотина уже была прорвана, и никакие инсинуации не могли повредить все возрастающей популярности Набокова. Виктор Ланге{128} Комический святой Когда отрывки из этого романа появились в «Нью-Йоркере», стало ясно, что создана необычайно достопамятная фигура, личность столь обаятельная, исполненная такой жизненной силы, что забыть ее не так-то легко. И теперь, когда мы видим Пнина гораздо отчетливее, представляем черты его характера и, сверх того, очарование и грусть его жизни, явленными еще более трогательно, мы узнаем в нем, как в Обломове и Грегоре Замзе, великолепное вымышленное воплощение особого и в то же время всеобщего человеческого состояния. Пнин, преподаватель Уэйндельского колледжа, едет (сев не в тот поезд) в Кремонский женский клуб; Пнин, внештатный преподаватель Уэйндельского факультета, безмерно отягощенный воспоминаниями о своем российском детстве и годах изгнанничества, проведенных во Франции и Америке, одинокий и общительный, близорукий и дальновидный, победитель и жертва — все мы подобных людей знаем или думаем, что знаем. К тому, что нам уже известно из дальнейшего развития сюжета, добавляется новое измерение нашего понимания Тимофея Пнина: мы можем теперь связать воедино историю его несчастливого брака, мы встречаем сына его жены в Сент-Барте и во время его краткого и молчаливого визита в Уэйндельвилль. Мы видим Пнина в компании его приятелей-эмигрантов, а к концу повествования, более отчетливо чем прежде, слышим голос самого пнинского биографа, который прибывает в Уэйндель занять профессорское место, причем именно тогда, когда Пнин, его старый знакомец, а теперь, по иронии судьбы, предшественник, собирается покинуть город. <…> Жизнь Пнина — вся эта цепь невероятных событий, его привычка извиняться — есть не что иное, как святость. Для этого чудаковатого эмигранта важнее всего твердая человеческая вера в праведность сердца, слова и дела. Его жизнь, подвешенная между горькой памятью и крушением надежд, между внезапным прозрением и шоком поражения, может так никогда и не прийти к соглашению с неподатливой сущностью злорадных предметов и близких людей, то и дело приносящих ему разочарование. Да, его английский, освоенный с трудом и весьма далекий от того мастерства, с которым он владеет своим родным русским, неловок и неточен, но подчас приобретает изумительную поэтическую силу. А как непосредственно его отношение к вероломному или насмехающемуся, но никогда не равнодушному миру вещей, расположившихся в многозначительном разнообразии тусклой и монотонной среды, в которой он действует. Бессмысленная и пошлая рутина общества и учреждений, в которых Пнин вынужден маневрировать, благодаря постоянному течению его воспоминаний и непрерывности его собственных суждений, исполнена гротеска и патетики. В жизни святого расхождение между верой и реальностью возводится на торжественную и героическую высоту. Но Пнин — комический святой, святой, как говорится, современного вероисповедания. При всех нелепостях его жизни, при всей его смехотворной рассеянности и явной неуместности, он убеждает нас подрегулировать фокус и проверить собственное зрение. Тема чудаковатой жизни в наши дни довольно распространена, но сомневаюсь, что она разработана кем-то столь же тщательно, с таким же великолепием и, что гораздо важнее, с такой человечностью. Ибо Пнин не «посторонний», его проницательность не обусловлена теми прерогативами психологической аберрации, болезни или неистовства, которые привносят в современную беллетристику так много модного правдоподобия. Он не тот разум, что безнадежно отделен от всего общества, а скорее, сознание, блуждающее снаружи, ибо отторгнут от природных условий своего опыта и выброшен в сбивающий с толку мир, где, в силу привычки и твердой решимости, должен защищать свое наследие, невзирая на то, что это ему будет стоить, невзирая на неизбежный риск выставить напоказ тупость тех, среди кого — подобно полтергейсту — он, покуда ему позволено, существует. Роман «Пнин», конечно же, не произведение социального критицизма, хотя немного существует столь же дальновидных и проницательных наблюдателей американской жизни, как у Набокова. Его безжалостное видение какого-нибудь частного эпизода гораздо лучше выявляет суть, чем если бы он резко осуждал вообще всю социальную среду, в соприкосновении с которой Пнину приходится жить. Набоковское чувство детали, к слову сказать, никогда не бывает натуралистичным, напротив, оно действенно поэтично, включая в себя тонкое, живое и часто остроумное понимание культурного выбора. Вот, к примеру, мы узнаем, что комнаты, которые обживает Пнин, обладают одной общей чертой: «…На книжных полках в гостиной или на лестничной площадке там с неизменностью присутствовали томики Хендрика Виллема ванн Луна или доктора Кронина; они могли быть разделены стайкой журналов, или пухлыми с глянцем историческими романами, или даже твореньями миссис Гарнет в своем очередном воплощении (в таких домах непременно висел где-нибудь плакат с репродукцией Тулуз-Лотрека), но уж эту-то парочку вы непременно находили на полке, где они, узнавая друг друга, обменивались нежными взглядами, как двое старых друзей на многолюдной вечеринке». Сам Пнин, русский эмигрант, никоим образом не теряется в этом странно очаровательном — американском — мире вещей; он живет не как рассеянный профессор, не отдельно от этого мира, а в качестве его безропотной жертвы: «…Напротив, он был, пожалуй, слишком настороженным, упорно выискивал вокруг себя дьявольские западни, слишком мучительно опасался, что безалаберное окружение (эта непредсказуемая Америка) может привести его к какому-нибудь ужасающему недосмотру. Это мир, окружающий его, был рассеянным, а потому именно ему, Пнину, приходилось направлять этот мир на путь истинный. Жизнь его была непрерывным сражением с неодушевленными предметами, которые то разваливались в руках, то совершали против него вылазки, то отказывались выполнять свое предназначение, а то и вовсе злокозненно исчезали, едва войдя в сферу его бытия». Этот фрагмент не просто показывает живость и бдительность пнинского характера, он отражает взгляд профессора на отношения между действительностью и воображением. Ему, к примеру, предлагают посмотреть картинки в журнале, а он отвечает: «Не хочу, Джоан. Ты же знаешь, я не могу понять, что есть реклама и что не есть реклама». Следит ли он зачарованно за кувырканием одежды в стиральной машине или читает последний выпуск русской ежедневной газеты, изданной в Чикаго, видим ли мы его счастливо усевшимся не в тот поезд, или когда он старательно готовится к своей последней вечеринке в Уэйнделе — везде Пнин возникает как личность, постоянно настороженная перед лицом объективного мира. Но настороженность не единственная, в конце концов, даже не главная черта его натуры. Америка, обретенная страна, воспринимается им без раздражения, а потерянная Россия — без сентиментальности: один мир озарен другим <…> Американский мир хоть и гостеприимен, но переносить его не легко; одно из первых деяний, которое профессор должен совершить в этой гигиенической стране, вытащить все свои зубы и вставить сияющие протезы. И если что придает ему мужества, так это память. Вновь и вновь погружается он в воспоминания о моментах своей прежней жизни, и воспоминания эти кажутся чем-то вроде прозрений, придающих истинность и остроту настоящему. А ни на миг не умолкающая в нем, вечная пульсация его природного языка остается лучшей гарантией, подлинным мерилом живости его сердца. Внутренняя сущность Пнина, само его объективное присутствие придают достаточно правдоподобия миру, курьезным членом которого он является. Но резонанс этого мира безмерно увеличивается и усиливается абстрактной, однако восхитительной стратегией, с помощью которой г-н Набоков, все более вовлекаемый в сюжет рассказчик, повествует о Пнине. Мастерство г-на Набокова превосходно; каждый элемент своего выдуманного мира он показывает нам в непрерывности иронических вариаций: со своими изумительными языковыми ресурсами и живым восприятием ассоциаций, он без конца восхищает нас и навсегда приучает исследовать осязаемо твердую поверхность своего повествования в поисках смыслов, затаившихся в ее бездонных расщелинах. Даже самый простой, если не сказать «простодушный», объект вдруг вызывает в нас незабываемое воодушевление: в конце концов, именно г-н Набоков перевел на русский «Алису в стране чудес». Пнин, как и мир, в котором он обитает, не может быть выражен однозначно. Своим знакомым, жителям Уэйндельвилля, он, возможно, кажется весьма нелепым; но для нас и для рассказчика — наконец, для него самого — это фигура почти неиссякаемой парадоксальности. Если бы он казался себе пародией, он не смог бы и, возможно, не должен был бы узнать одну истину: «Через два-три года, — сказал Пнин, который, упустив один автобус, не преминул вскочить в следующий, — меня тоже будут принимать за американца…» Пнинская биография, чья суть, казалось бы, одна безгрешность, все же плод блистательной магии и потрясающей иронии. Взять хоть эту злополучную поездку в Кремону для выступления в Женском клубе, во время которой Пнин столь напряженно беспокоится о том, чтобы не перепутать рукописи, будто в этом залог его будущих благ. Вплоть до самого конца книги мы так и не узнаем, что Пнин, не слушавший, как его представляла мисс Клайд, эта «безвозрастная, наряженная в нечто шелковое цвета морской волны блондинка с крупными, плоскими щеками прекрасного конфетно-розового цвета и яркими глазами, которые купались в голубом безумии за стеклами пенсне без оправы», и вставший, чтобы обратиться к дамам, обнаружил, что взял не ту лекцию. Victor Lange. A Saint of the Comic // New Republic. 1957. № 136 (May 6). P. 16–18 (перевод А. Спаль). Памела Хэнсфорд-Джонсон{129} Рец.: Pnin. N.Y.: Doubleday, 1957 <…> Набоков пишет в традиции Чехова, Свево{130}, Уильяма Жерарди. Некоторые пассажи в «Пнине» поразительно похожи на отрывки из тех книг Жерарди, которые нервировали литераторов тридцать лет назад, многое в методе Набокова нервирует их и теперь. Оба эти человека юность провели в дореволюционной России: и похоже, что этот жизненный опыт наделил их обоих ностальгической, но такой живой печалью. Набоковское мастерство — что в какой-то степени относится и к тем, кого я упомянула выше, — это мастерство тщательной разработки всех разновидностей плача. Здесь нет великих трагедий, разве что обыденная трагедия героя, который слишком мал, слишком упитан, слишком нелеп для настоящей трагедийности: но за всей этой нежностью и веселостью проглядывает неподдельная скорбь. Реальное достоинство этой книги — ее свежесть. Она очень забавна. В ней создан тип героя, в данном случае Вечного Беженца, стоящего рядом с Обломовым (и гораздо интереснее Обломова), — благодаря чему мы все теперь будем узнавать Пниных. Комический стиль захватывает, к тому же льстит детективному чутью читателя — здесь есть что-то от Кафки, что-то от Пруста, а в прилагательных, предшествующих именам собственным, сквозит Джойс. Не будь этой свежести, книга не намного превзошла бы первоклассный комикс. Но нет, герой, хоть и живет почти на грани абсурда, наделен в то же время достоинством и привлекательными нравственными качествами. Все это исполнено с подлинным мастерством. Pamela Hansford Johnson // New Statesman. 1957. Vol. 54. September 21. P. 361 (перевод А. Спаль) Кингсли Эмис{131} Русский салат Чтение литературных произведений — трудное, озадачивающее дело, ибо оно вызывает необходимость проявить независимость суждений. Потому неудивительно, что сочувственное внимание встречает писателя, который со всей возможной ясностью дает тебе понять, что из себя представляет его книга и как ты должен на нее отреагировать. Произведения Д.Г. Лоуренса, к примеру, едва ли оказывали бы такое воздействие на читателя без громогласной убежденности их автора в том, что они необыкновенно значительны и правдиво рассказаны, и без его еще более эффектного вывода, что расхождение во мнениях по этому поводу было бы равносильно признанию в терпимости к дурным привычкам. Большинство читателей весьма охотно верит обещаниям, и писатель должен порицать лишь себя, если его недостаточно громкие заверения обернутся отчаянным разочарованием читателя в его труде. Вышесказанное относится не только к книгам из разряда глубоких, но также и к тем, что считаются просто забавными. Работа, являющаяся предметом данной рецензии, явно относится к забавным. Действие — разные мелкие злоключения ученого, русского эмигранта, в университетском мирке Америки — всего лишь течение тонкой струйки, пробивающейся между громадными отмелями причудливых комментариев, излияний и уводящих в сторону описательных фрагментов; чуть не на каждой странице маленький фейерверк — вот пнинские трудности с радиатором, вот Пнин под солнечной лампой, пнинские сложности с английским, Пнин, принимающий ванну, Пнин учится водить машину, сообщение о том, что «у него была тогда редкая рыжеватая бородка (теперь, если бы он не брил ее, на подбородке торчали бы только седые щеточки, — бедный Пнин, бедный дикобраз альбинос)». Да, это должно быть забавно! И это должно быть здорово смешно, целомудренно проживать в кампусе, имея вокруг себя столько профессорских жен. Но есть в романе и определенная глубина, ибо в нем содержится множество литературных и живописных аллюзий. Тут же и печаль, ибо мы ни на минуту не можем позволить себе забыть, что Пнин навсегда изгнан из матушки-России. И, наконец, сюжет основывается на принадлежности к традиции… маленький человек… наивность… осада неблагоприятных обстоятельств, но… глаза ребенка… нежность… неисчерпаемая человечность… пафос… клоун… Почему этот вялый, безвкусный салат из Джойса, Чаплина, Мэри Маккарти и, конечно, Набокова привел в восторг и так захватил Эдмунда Уилсона, Рэндалла Джарелла{132} и Грэма Грина, есть тайна за семью печатями. Комментарии последнего в общем и целом сводятся к одному: «Это уморительно забавно и печаль…» Так, по-видимому, был захлестнут эмоциями, что даже не договорил. А с точки зрения Уилсона, Набоков, «вероятно», так же захватывает, как Гоголь. Похоже на рекламное шоу, не правда ли? Kingsley Amis. Russian Salad // Spectator. 1957. № 6744 (September 27). P. 403 (перевод А. Спаль). БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ PALE FIRE
Одно из самых экстравагантных произведений В. Набокова, не поддающееся какому-либо традиционному жанровому обозначению, «Бледный огонь» имеет долгую предысторию. Помимо набоковских комментариев к «Евгению Онегину» (подсказавших композицию «Бледного огня») предтечей этого удивительного литературного кентавра является незаконченный русскоязычный роман «Solus Rex», где были обозначены основные сюжетные ходы, связанные с «зембланскими» фантазиями фиктивного редактора и комментатора поэмы Чарльза Кинбота. (Отголоски темы короля-изгнанника и вымышленной северноевропейской страны, чье идиллическое благополучие разрушается в результате политического переворота, явственно различимы и в четвертой главе романа «Пнин».) Несмотря на то что замысел романа о далеком северном королевстве «Ultima Thule» возник у Набокова в начале 1957 г. (в конце марта Набоков изложил план будущего романа в письме к Джейсону Эпстайну)[131], непосредственная работа над этим произведением началась лишь осенью 1960 г. — во время триумфального европейского турне «автора „Лолиты“». 25 ноября Набоков сочиняет первые 12 строк поэмы вымышленного поэта-«фростианца» Джона Шейда. Первоначальное название поэмы «Brink» (что можно перевести как «край пропасти», «обрывистый берег») — вскоре было заменено на «Pale Fire». К 11 февраля 1961 г. Набоков закончил текст поэмы и приступил к созданию громоздкого «научного аппарата» — к предисловию, именному указателю и комментарию безумного Чарльза Кинбота, с маниакальным упорством вчитывающего в текст автобиографической поэмы Джона Шейда историю последнего короля Земблы Карла-Ксаверия. 4 декабря 1961 г. книга была завершена. Таким образом, на ее написание ушло чуть больше года — рекордно короткий срок для «послевоенного» Набокова. Выйдя из печати в апреле 1962 г., «Бледный огонь» сразу попал в центр внимания американских и английских критиков. Скажем честно, далеко не все из них по достоинству оценили новаторство писателя и разглядели за усложненной формой глубинную философскую суть его произведения, в котором раскрывается трагедия отчужденного от мира человеческого «я» и исследуются проблемы соотношения творческой фантазии и безумия, вымысла и реальности, временного и вечного. Отдав должное эрудиции, словесному мастерству и композиционной изобретательности автора, великодушно выделив отдельные эпизоды, многие рецензенты забраковали произведение в целом, сочтя его «печальной ошибкой чрезвычайно одаренного мастера, сотворившего затянутую, запутанную и по существу скучную шутку» (Peden W. Inverted Commentary on Four Cantos // Saturday Review. 1962. Vol. 45.26 May. P. 30). Уильям Пидн, одним из первых откликнувшийся на «Бледный огонь», неохотно признал его сатирическую мощь: «Как карикатуре на методы и нравы университетских паразитов, пирующих на развалинах литературных шедевров, „Бледному огню“ гарантирован <…> долговременный успех», — для порядку одарил писателя дежурными комплиментами: «Изобретательность Набокова, кажется, неистощима, его техническая виртуозность почти неправдоподобна», — а затем уже обрушил на свою жертву разящие удары: «Однако эта изобретательность и виртуозность оборачиваются скукой и воздвигают почти непреодолимый барьер между автором и читателем <…>. Если намеренный отказ от диалога со всеми читателями (исключая нескольких специалистов) означает литературную неудачу, тогда „Бледный огонь“ должен быть назван неудачей. Если поглощенность техникой — в ущерб диалогу с читателем — можно рассматривать как проявление упадка литературы, тогда „Бледный огонь“ — самый упадочный роман последнего десятилетия» (Ibid.). Примерно в том же духе была выдержана рецензия английского критика Джорджа Клойна, писавшего о том, что Набоков «находит удовольствие в интоксикации риторикой», «любит пародию ради самой пародии», «морочит голову себе и своим читателям», в результате чего его шутки выходят слишком скучными, «фантазия никогда не воспаряет над землей,» а «художественный мир, старательно сконструированный посредством комментариев, становится интересным только самому автору» (Cloyne G. Jesting Footnotes Tell a Story // NYTBR. 1962. May 27. P. 1, 18). He слишком высоко оценил Клойн и художественные качества «шейдовой» поэмы — «чинное упражнение в духе двадцатых годов», по своему уровню близкое виршам Альфреда Остина, сменившего Теннисона на посту поэта-лауреата: «…не плохая, но и не хорошая, в строгом смысле слова — вообще не поэма <…>. Хотя автор и продолжает утверждать, что Шейд был великим поэтом, а его поэма — это великое произведение» (Ibid. P. 18). Анонимного рецензента из журнала «Тайм» набоковский литературный гибрид просто-напросто озадачил. Вежливо назвав Набокова «умнейшим англоязычным писателем со времен Джойса», он аттестовал «Бледный огонь» как «самый эксцентричный роман из опубликованных за последнее десятилетие — чудовищную, остроумную, запутанно-занимательную вещь, чья словесная живость часто сбивает с толку». «Но в отличие от предыдущей книги, — продолжал рецензент, — „Бледный огонь“ не является сатирой <…> и к концу романа кажется, что это всего лишь упражнение на ловкость (а возможно, и на запутанность)». Рекомендуя читателям книгу «величайшего словесного престидижитатора нашего времени», рецензент выразил свое двойственное впечатление следующим образом: «Может быть, она и не так уж значительна, зато сделана с ослепительным мастерством» (The Russian Box Trick // Time. 1962. Vol.79. № 22 (1 June), p.5 7). Серую завесу настороженно-недоуменных, а то и откровенно враждебных отзывов прорвала фанфарная рецензия Мэри Маккарти <см.> — первое основательное исследование «Бледного огня», несмотря на некоторые перехлесты при выявлении литературных аллюзий и многомудрые рассуждения о цветовой символике, не утерявшее своей ценности и до нашего времени. Недаром же в англоязычном литературном мире критическому опусу Маккарти была уготована завидная судьба своеобразного литературного спутника «Бледного огня» (наподобие гончаровского «Мильона терзаний»). Восторженная статья Маккарти вызвала полемический ответ Дуайта Мак-Дональда <см.>. Объявив произведение Набокова совершенно нечитабельным, он усомнился в том, что «детективно-исследовательская работа» Мэри Маккарти доказывает художественную ценность «Бледного огня». Полемика между Маккарти и Макдональдом стимулировала дальнейшие критические баталии вокруг набоковского произведения, привлекая к нему все больше и больше внимание критиков и читателей, даром что поток отрицательных отзывов и не думал иссякать. Многих рецензентов прежде всего раздражала усложненная форма «Бледного огня». «Настойчивое внимание к стилю, к чистой воды фокусничанью столь упорно, что становится тягостным: то, что начиналось как удовольствие, заканчивается пресыщением», — писал Сол Малофф, обвиняя писателя в утомительном, ни чем не оправданном формальном трюкачестве, исчерпывающем, на его взгляд, все содержание «Бледного огня». По мнению критика, «маньеристский стиль» Набокова был приемлем в «Лолите», однако здесь стал самодостаточным, что и обусловило неудачу писателя: «Стиль, для создания художественного мира не нуждающийся ни в чем, кроме своих ресурсов, может стать — и становится! — самоцелью, в результате чего создается не мир (извечная цель и оправдание романиста), а созвездие удивительно изящных безделушек — искусство, которое второстепенно по определению» (Maloff S. The World of Rococo // Nation. 1962. Vol. 194. № 24 (June 16). P. 542). «Чуткий читатель не любит, когда его дразнят, даже если это делается с таким тактом и юмором, как в „Тристраме Шенди“. Он легко может обидеться на автора, который постоянно говорит ему: „Посмотри, какой я умный! Вот головоломка. Думаю, ты даже не заметишь ее. Бьюсь об заклад, ты не сможешь ее решить. А внутри нее еще одна головоломка. А внутри этой еще одна…“. Никто, за исключением платных специалистов, да мазохистов-бессребренников, не способен читать книгу, подобную Джойсовым „Поминкам по Финнегану“», — утверждал критик Гилберт Хайет, считавший, что «Бледный огонь» — это «шедевр изобретательности», «самое странное, хотя и не самое лучшее произведение» Набокова (Highet G. To the Sound of Hollow Laughter // Horizon. 1962. Vol. 4. № 6. P. 90, 89). К своей чести, сопоставляя «Бледный огонь» с предыдущими романами Набокова, Хайет по достоинству оценил сатирический пафос и идейно-тематическое богатство разбираемого сочинения: «Подобно „Лолите“, это исследование безумной одержимости, особенно ее способности приводить в систему изначально не поддающееся причинной обусловленности и создавать чудовищные произведения искусства из убогих, наугад выбранных элементов. <…> Подобно „Истинной жизни Себастьяна Найта“, это воссоздание жизни умершего автора посредством изучения его окружения и его сочинений. Но это еще и забавная карикатура на филологов. Как много существует комментариев, где разъясняются очевидные вещи или же авторы упрекаются за незначительные погрешности вкуса! А теперь мы имеем комментарий, который почти не соответствует комментируемой поэме и к тому же пытается переосмыслить ее. Таким образом, эта вещь еще и сатира на литературных паразитов, которых терпят из-за их живучести <…> которые помогают великим людям чувствовать себя великими и скрашивают одиночество гениев» (Ibid. P. 90). При разборе «Бледного огня» и Гилберт Хайет, и Сол Малофф, и другие рецензенты с тревогой и недоумением указывали на то, что Набоков сознательно подчеркивает искусственность своих персонажей и ирреальность описываемых событий, изначально отрицая всякую возможность эмоционального вовлечения в собственный художественный мир. Подробнее всех на этом вопросе остановился Джек Хэндли, автор вдумчивой, хотя и негативно окрашенной, статьи, посвященной «Бледному огню». «Это не художественная литература, а игра, скучная шутка, вызывающая не интерес, а любопытство, логомантический вуайеризм для лексических извращенцев. Я не советую кому-либо читать это. Читайте „Память, говори“, читайте „Пнина“, перечитайте „Лолиту“. Оставьте эти темные словесные игры будущим диссертантам», — дав читателям сей полезный совет и аттестовав «Бледный огонь» как «книгу-фальшивку, зеркальное пространство, пособие для литературных онанистов», критик тем не менее предложил дотошный анализ «скучной шутки», который (как это часто бывает с толково написанными отрицательными рецензиями) оказался содержательным и по-своему не менее интересным, чем интерпретация, предложенная Мэри Маккарти. Временами впадая прямо-таки в «джонрэевский» пафос, Хэндли указывал на то, что персонажи «Бледного огня» избавлены от социальной детерминированности, а значит — лишены психологической и житейской достоверности: «Набоков не загружает своих персонажей традиционными заботами социального бытия. Никто из них не воюет, не делает карьеру, не добивается имущества, власти и осуществления каких-либо честолюбивых замыслов. Никто не имеет обязательств перед семьей, наукой, политикой, религией и не интересуется проблемами морали (преступностью, ядерными испытаниями, разводами). Никто из них не показан в период юношеской влюбленности, во время бракосочетания, рождения ребенка или развода. <…> Подобные дела появляются в жизни этих персонажей только для того, чтобы воссоздать фон, место действия, охарактеризовать нравственный облик внешнего окружения. Как следствие — никто из его главных героев не интересуется вопросами, которые привлекают внимание социально активных людей: совершенствование системы образования, проблемы производства и распределения, очищения и оздоровления правительства или повышения благосостояния. Из вежливости Набоков может обратиться к этим проблемам, но ему безразлична их суть <…>. Из соображений художественной выгоды он не интересуется механизмами цивилизации, „условиями человеческого существования“ или хитросплетениями утонченных чувств. Набоков хочет оградить своих персонажей от всех детерминирующих воздействий. <…> Его отход от основного течения англоязычной литературы проявляется в том, как он создает своих персонажей: они лишены того, что мы называем человеческим характером. Они не настолько индивидуализированы, чтобы честолюбие, мужество, честь или чувство ответственности определяли их поведение или влияли на их решения. Никто из них не сталкивается с проблемой выбора между практической выгодой и принципами, никому не надо доказывать свою преданность или достоверность, совершать безжалостные поступки. Короче говоря, они аморальны настолько, насколько могут быть аморальны существа, окончательно не дошедшие до звероподобного состояния. Надеюсь, благодаря классификации этих негативных черт становится очевидным, что Набоков, создавая обитателей своих книг, приглушает значимость обыденных, повседневных занятий и общих интересов нашей жизни. Правда, он не стремится разрежать атмосферу своих произведений, заполняя ее экзотическими, отклоняющимися от нормы сверхъестественными существами. Все, что он делает, должно показать сквозь призму вымысла не столько само существование, сколько его квинтэссенцию — продукт сознания» (Handley J. To Die in English // Northwest Review. 1963. Vol. 6. № 3. P. 29–30). Разделив набоковских персонажей на две полярные группы — личностей, наделенных сознанием, и «самых настоящих скотов» — и высказав еще целый ряд интересных наблюдений относительно творчества писателя в целом, критик расценил «Бледный огонь» как неудавшуюся «попытку завершающего романа — художественного космоса, в котором авторские ингредиенты с беспредельным искусством и волшебством должны были превратиться в синергичный и бессмертный мир. Решающая победа должна была быть достигнута не симуляцией полного сходства с „реальным миром“, а воссозданием реальности с помощью памяти и нетленного искусства. В этом смысле можно сказать, что книга Набокова — о бессмертии, памяти, искусстве и конечно же о том, как человек пытается преодолеть силу земного притяжения. Но на фигуры людей, вовлеченных в эту борьбу, падает тень главного героя, потерявшего веру в собственные силы, лишенного традиций, родного языка и материала для искусства — пускающего в оборот самую фальшивую часть своего „я“. Мы видим глубоко личную трагедию — несколько видоизмененную, но не подвергшуюся метаморфозе. Я не знаю более ироничного произведения литературы. <…> Читатель пугается и поражается его невнятному хаосу и фразам, с их наводящими скуку загадками, — перед ним слишком много возможностей, слишком много ключей, слишком много вариантов ответа. Здесь так много заманчивых и кажущихся правдоподобными комбинаций, однако их неестественное смешение не способно зажечь огонь, доставить наслаждение» (Ibid. P. 39–40). Рассуждая о «Бледном огне», некоторые американские критики осуждали Набокова не только за его снобистское презрение к читателю, но и за бездушие и холодную жестокость по отношению к собственным персонажам. На этом поприще особенно отличился рецензент из журнала «Комментари» Альфред Честер, по сути обвинивший Набокова в нелюбви к человечеству и той самой «гносеологической гнусности», из-за которой был приговорен к смерти Цинциннат Ц. Честера особенно возмущало то, что «к концу набоковского антиромана[132] читатель уже ни во что не верит». «Мы больше не знаем, во что верить, — сотрясал воздух разгневанный критик. — Мы знаем только одно: реальность — это то, что отфильтровалось сквозь безумное сознание человека, пытающегося дать форму и значение тому, что априори бесформенно и бессмысленно. Мы не можем чего-либо знать, говорит нам создатель данной аллегории, за исключением того, что мы не можем знать ничего, а человек, совершающий героический акт познания, — ничтожнейший червь. Человек — это отвратительный гротеск, нелепый клоун, вовлеченный в трагедию» (Chester A. American Anti-novel // Commentary. 1962. Vol. 34. № 5. P. 450–451). Воскрешая давний тезис Константина Зайцева о мизантропии Набокова, Альфред Честер своим обличительным пафосом затмил всех эмигрантских набоковофобов. «Несмотря на весь свой блеск, „Бледный огонь“ — это полный провал (по одной простой причине: все это не смешно, хотя и задумывалось смешным). При всем несходстве объекта, юмор у Набокова — на том же уровне, что и сортирный юмор немцев: экскременты смешны просто потому, что это экскременты. <…> Если вы (как и Набоков) считаете, что это очень забавно: быть ученым, гомосексуалистом, писать комментарий, быть безумным — параноиком, не понимающим, как к нему относятся другие люди, — тогда, в отличие от меня, вы будете смеяться отвратительным набоковским смехом. Правда, мне лично нужен более существенный повод для смеха; открытие какой-либо истины — вот что вызовет мой смех, и в этом отношении, мне думается, я не слишком отличаюсь от других людей. Набоковское подтрунивание оскорбляет меня не потому, что я американский либерал и не выношу тех, кто выставляет в смешном свете других людей, а потому, что он высмеивает других, находя примечательное только в себе, но не в них. Он высмеивает людей, потому что не любит их, а вовсе не потому, что они или их действия смехотворны. Набоков ненавидит, подобно Свифту, однако он лишен свифтовской непосредственности. Его комедия лжива. Она бесплодна. Это такое же зло, как расовый предрассудок», — заклинал темпераментный рецензент, дойдя в своих инвективах до того, что поставил циничного и жестокосердого Набокова в один ряд с фашистским палачом Эйхманом (Ibid. P. 451). К счастью, далеко не все отзывы о «Бледном огне» были выдержаны в подобном ключе. Помимо Мэри Маккарти нашлись американские критики, сумевшие подойти к набоковскому произведению непредвзято, не загоняя его в жесткие рамки реалистического жизнеподобия и пуританского морализаторства. Здесь хочется особо отметить рецензию Дональда Малкольма, почувствовавшего в «Бледном огне» что-то — какую-то высшую художественную правду, которая искупала все авторские недочеты и условности. В отличие от большинства последующих интерпретаторов «Бледного огня» — профессиональных набоковедов, ударившихся в бесплодные рассуждения относительно того, кто является истинным автором поэмы и комментария (кто кого выдумал: Кинбот — Шейда или Шейд — Кинбота), — Малкольм нашел художественно оправданной необычную структуру «Бледного огня» и выдвинул идею о том, что поэма Шейда и комментарий Кинбота, при всем их внешнем противоречии, уравновешивают и гармонично дополняют друг друга на каком-то глубинном смысловом уровне, до которого удалось докопаться Набокову: «Между поэмой и комментарием происходит очень важный диалог о психологии творчества. В образах Джона Шейда и Чарльза Кинбота автор создает и исследует два полюса творческого сознания. По большому счету поэт из Новой Англии представляет добротный пытливый ум, страстно стремящийся открыть с помощью искусства многозначительный замысел в деяниях судьбы и мира. Кинбот, который совершенно ничего не может понять в этом аспекте творчества поэта, являет собой одержимую часть творческого сознания, которое, благодаря чудовищному напряжению, навязывает свой собственный закон хаосу жизненных впечатлений и готово совершить акт интеллектуального насилия по отношению ко всякого рода фактам, противоречащим предопределенному пути. С самого начала можно заметить, что он претворяет свою одержимость в художественный вымысел столь же успешно, как и Шейд, который превращает реальность семейной трагедии в поэзию. Даже то, что Кинбот мучается, осознавая полнейшую недостоверность своего рассказа, — одно из измерений его творческого успеха. Старый Джон Шейд был не так уж не прав, позволяя Кинботу водить с собой дружбу. Создание вымышленного убийцы — превосходное литературное достижение. Мы чувствуем, что этот убийца должен был быть именно таким, каким его описывает Кинбот: абсолютно тупым, безжалостным политическим механизмом, в равной степени смертельно опасным и для поэтов, и для кротких безумцев» (Malcolm D. Noetic License // New Yorker. 1962. Vol. 38. September 22. P. 174). В Англии литературный кентавр Набокова вызвал столь же разноречивые отклики, что и в Америке. Одни рецензенты (среди них — Энтони Бёрджесс <см.>, Найджел Деннис <см.>, Малкольм Брэдбери) восторженно приветствовали «Бледный огонь» — «причудливый мир вымысла», «самый значительный антироман со времен джойсовского „Улисса“» (Bradbury M. // Punch. 1962. 12 December. P. 876), «представление виртуоза, манипулирующего словами и идеями с беспечной ловкостью превосходного жонглера; великолепное развлечение» (Multivalence // TLS. 1962. November 16. P. 869). Часть критиков (например, Фрэнк Кермоуд <см.>) заняли промежуточную позицию. Большинство же, приняв сторону Дуайта Макдональда, осыпало писателя градом упреков и критических замечаний. «„Бледный огонь“ — книга, которую Набокову не следовало бы писать, — авторитетно утверждал былой набоковский поклонник Филип Тойнби. — И в „Лолите“, и в его более ранних книгах был элемент дешевого позерства, однако он заглушался эстетической страстью и удивительным богатством воображения. В „Бледном огне“ имеются великолепные бравурные пассажи; есть моменты, когда продуманная причудливость образных ассоциаций вызывает подлинный трепет изумленного узнавания; но по сути эта книга — лукаво-эксцентричный, легкомысленно-пустой эксгибиционизм» (Toynbee Ph. Nabokov's conundrum // Observer. 1962. November 11. P. 24). Поэма Джона Шейда, с точки зрения Тойнби, «хороша настолько, насколько может быть хорош блестяще выполненный пастиш, а в первых строчках, вероятно, она даже немножко получше. В ней есть что-то от Поупа, что-то от Донна, что-то от „Современной любви“ Мередита, что-то от Уоллеса Стивенса и Роберта Фроста. Но эти влияния не переплавлены, не трансформированы хоть какой-либо новизной поэтического видения и техники» (Ibid). Примерно в этих же выражениях писал о «Бледном огне» Сайрил Конопли, чья рецензия вышла день в день с отзывом Тойнби. «Я не решаюсь дать определение, что является великим произведением искусства, — скромничая (совсем в духе Адамовича) начал Конолли, — но если речь идет о романе, то мы обычно ожидаем значительных событий, возвышенных чувств и величия автора, и, конечно же, безукоризненного формального мастерства. „Война и мир“, „Госпожа Бовари“, „В поисках утраченного времени“, „Улисс“… Но я не нахожу подобных качеств в „Бледном огне“, которое на самом деле — всего лишь исследование паранойи. Двое из трех главных героев безумны и лишены моральных качеств настолько, насколько наделены всепоглощающей одержимостью. С точки зрения литературной техники это два слабых места. Набоков не настолько сильный поэт, чтобы выдержать тысячу строк ямбических двустиший, а комментатор, бородатый вегетарианец, педант и гомосексуал, намеренно или нет, бывает невыносимо скучным» (Conolly С. Nabokov's High Fantasy // Sunday Times. 1962. November 11. P. 31). Отметив, как и Тойнби, первые строки поэмы, Конолли признал, что «Набокову удались некоторые места, правда, — ехидно добавил критик, — ценою множества невыразительных пассажей» (Ibid.). Лоуренс Лернер более снисходительно отнесся к поэме — «смеси Поупа с Робертом Фростом», — однако в целом остался недоволен набоковским творением и закончил рецензию на взвинченно-раздражительной ноте: «Литературные произведения не пишутся как шифрограммы <…>. Г-н Набоков — высокоталантливый, возможно даже, гениальный комический писатель, но он может играть свои криптограммические игры с кем угодно, только не со мной» (Lerner L. Nabokov's Cryptogram // Listener. 1962. Vol. 68. № 1757 (November 29). P. 931). Последняя фраза ярко характеризует настроения, преобладавшие среди английских рецензентов «Бледного огня». Большинству из них литературный гибрид Набокова оказался явно не по зубам. Вопреки мрачным прогнозам набоковофобов насчет того, что книге не грозит успех у широкой читательской аудитории, это наиболее трудное и непрозрачное англоязычное сочинение В. Набокова стало бестселлером и довольно быстро было переведено на несколько европейских языков, по прошествии некоторого времени породив горы литературоведческих исследований. Увенчав один из самых плодотворных этапов творческой эволюции В. Набокова, «Бледный огонь» оказал заметное влияние на последующие поколения писателей, сделавшись, как и предсказывал Джек Хэндли, «структурой для будущих кристаллов» (Op. cit. P. 40), среди которых можно особо выделить «Хазарский словарь» М. Павича и «Бесконечный тупик» Д. Галковского. Мэри Маккарти{133} Гром среди ясного неба «Бледный огонь» — своего рода «Джек в коробочке»{134}, драгоценность Фаберже, заводная игрушка, шахматная задача, адская машина, ловушка для рецензента, игра в кошки-мышки, роман по принципу «сделай сам». Он состоит из разделенной на четыре «песни» поэмы в героических куплетах{135} объемом в девятьсот девяносто девять строк, снабженной редакторским предисловием, комментариями, указателем и черновыми вариантами текста. Если, согласно рекомендации составителя, собрать воедино и подогнать друг к другу отдельные его части, пользуясь разными ключами и перекрестными ссылками, которые, в свою очередь, приходится отыскивать примерно так, как мальчик-с-пальчик находил дорогу домой, тогда перед нами предстанет роман на нескольких уровнях. Эти «уровни» не являются привычными «смысловыми уровнями» модернистской критики, это скорее уровни в вымышленном пространстве, подобно «домам памяти» в средневековой мнемонике{136}, где слова, факты и числа, рассредоточенные по разным местам, ждали, когда в них появится необходимость, или подобно астрологическим «домам», на которые разделена небесная сфера. Автору поэмы, скромному, даже непритязательному поэту, в духе Роберта Фроста, шестьдесят один год; он преподает в Вордсмитском университете в Нью-Уае, Аппалачия. Его зовут Джон Шейд; имя его жены, урожденной Айронделл (фамилия происходит от французского «ласточка»), — Сибил. Родители поэта были орнитологами. Некрасивая толстушка-дочь Джона и Сибил по имени Гэзель покончила с собой в юном возрасте, утопившись в пруду рядом с кампусом. Предметом академических исследований Шейда является творчество Поупа, что нашло отражение в поэме «Бледный огонь», написанной героическими двустишиями, хотя по содержанию она ближе поэзии Вордсворта: поэма хаотична, в ней много автобиографического материала, детских воспоминаний, естественно-научных фактов, риторических вопросов, обращенных к мирозданию, — что-то вроде американской «Прелюдии»{137}. В роли комментатора поэмы выступает коллега Шейда, профессор-эмигрант из Земблы, мифической страны, расположенной к северу от России. Его зовут Чарлз Кинбот, и он живет по соседству с Шейдом в доме, который снимает у судьи Голдсворта, преподавателя юридического факультета, находящегося в академическом отпуске. (Комментатор подсказывает, что, поменяв конечные слоги в фамилиях «Вордсмит» и «Голдсворт», мы получим Годдсмита и Вордсворта — двух мастеров рифмованных двустиший.) На время работы над комментариями Кинбот покинул Аппалачию и жил в бревенчатой хижине поселка Кедры, расположенного на юго-западе страны. К этому времени Шейд уже погиб (по чистой случайности) от руки убийцы, назвавшегося Джеком Греем, и Кинбот с согласия вдовы увез с собой рукопись поэмы, дабы в уединении, укрывшись от двух мошенников с факультета, претендовавших на обладание рукописью, подготовить ее к изданию. Кинбот — в университете его за глаза называют Великим Бобром — бородатый педераст-вегетарианец, которому не повезло с юными «партнерами по пинг-понгу»; у этого одинокого филолога, давнего поклонника поэтического дарования Шейда (он переводил его на зембланский язык), есть отвратительная привычка «заваливаться» к Шейдам без приглашения и еще подсматривать за ними (они не задергивают штор) в бинокль, затаившись у окна или в кустах. Он ревнует поэта к миссис Шейд, а с отличающимся терпимостью Шейдом всегда готов сыграть партию в шахматы или отправиться на прогулку, без устали рассказывая тому о своей зембланской жизни. «Вы на редкость противный тип, — как-то прошипела жена одного преподавателя, встретив Кинбота в бакалейной лавке. — Не понимаю, как вас выносят Джон и Сибил. К тому же вы сумасшедший». Но это всего лишь нижний этаж фабулы. Затем идет piano nobile. Кинбот верит, что вдохновляет друга своими рассказами о родной Зембле, об ее изгнанном короле Карле Возлюбленном и революции, начавшейся на Стекольных заводах. Более того, он убедил себя в том, что поэма Шейда— его поэма (типичная мания комментаторов) и что ее нельзя понять без его примечаний, в которых параллельно поэтическому тексту излагаются события, имевшие место на Зембле. Из заметок Кинбота логично вытекает, что именно он сам и есть Карл Возлюбленный, укрывшийся под маской «бобра-преподавателя». Он бежал из Земблы на моторной лодке и после недолгого пребывания на Лазурном берегу перебрался в Америку, где симпатизирующая Кинботу американка и попечительница Вордсмита, миссис Сильвия О'Доннелл, нашла ему место на филологическом факультете. Среди его коллег (читай «смертельных врагов»), помимо дородного профессора Герли, декана факультета и поклонника «ангажированной» литературы, есть еще профессор С., фрейдист от литературы и владелец ультрасовременной виллы, профессор Пнин и молодой преподаватель Джеральд Эмеральд — всегда в галстуке и зеленом вельветовом пиджаке. Тем временем «Тени» — секретная полиция Земблы — нанимают бандита по имени Градус (он же Жак д'Аргус, Жак Дегре и Джек Грей), поручив тому убить царственного изгнанника. Неспешное приближение Градуса к цели — Вордсмитскому колледжу — полностью синхронизировано с работой Шейда над поэмой «Бледный огонь»: убийца в коричневом пиджаке, фетровой шляпе и с браунингом прибывает в кампус как раз в тот день, когда поэма закончена. В библиотеке он встречает Джеральда Эмеральда, который любезно подвозит его к дому профессора Кинбота. Там, целясь в короля, Градус убивает поэта, а когда на место преступления прибывает полиция, он, пытаясь сбить полицейских с толку, объявляет, что он сумасшедший, сбежавший из психиатрической лечебницы. Эта вторая история, «piano nobile», представляется Кинботу «истинной», именно она, по его мнению, приводит к смерти поэта. Однако подлинная история раскрывается исподволь и только читателю. Кинбот — безумец. Он безобидный эмигрант по фамилии Боткин, преподаватель русской литературы, вообразивший себя изгнанным королем Земблы. Боткин думает, что никто не разгадал его секрет, однако он ошибается: секрет известен и поэту, который сочувствует Боткину, и другим преподавателям, не столь великодушным, — грубая женщина в бакалейной лавке выразила общее мнение. Что касается убийцы, он тот, за кого себя выдает: Джек Грей, маньяк, сбежавший из психушки, куда его отправил судья Голдсворт, в доме которого живет Боткин. Это именно его, судью Голдсворта, намеревался застрелить безумец, а вовсе не Боткина, то бишь Кинбота, или Карла Возлюбленного. Убитый поэт — жертва вдвойне (его поэма тоже погублена — редактором, принявшим ее за нечто совсем иное). Более того, ключ к разгадке Градуса-Грея был в руках Боткина в тот момент, когда он листал альбом, куда сентиментальный судья вклеивал фотографии убийц, отправленных им за решетку или приговоренных к смерти: «вполне обыкновенные с виду руки душителя, самодельная вдовушка, близко посаженные безжалостные зенки убийцы-маньяка (чем-то похожего на покойного Жака д'Аргуса), бойкий отцеубийца годочков семи…». Тогда Боткин получил своего рода предварительный просмотр грядущего — вроде фильма, еще не вышедшего на экраны. В хозяине Градуса Изумрудове, одном из руководителей «Теней», с которым убийца виделся на Ривьере, носящем зеленый вельветовый пиджак, можно угадать «маленького мистера Анона», иначе говоря, Джеральда Эмеральда, или Реджинальда Эмеральда, преподавателя английского на младших курсах, который делал авансы (а может, получал?) профессору Боткину и являлся автором грубой анонимной записки, где недвусмысленно намекал на плохой запах изо рта у Боткина. Параноидальная политическая система с экстремистским правительством и секретными агентами, называемая Земблой, — всего лишь «транслитерация» комплекса преследования в воспаленном воображении педераста Боткина, комплекса, усугубляемого заговорщицкой атмосферой, обычной для преподавательской среды в университетах. Однако за «железным занавесом» действительно есть Зембла. Подлинная история, понимаемая на уровне нормального сознания и здравого смысла, свойственных среднему читателю, не является истиной в последней инстанции. Признание сумасшествия Боткина полностью удовлетворит разве что профессоров X. и С. и их супруг, которые отложат в сторону «Бледный огонь», сочтя роман всего лишь детективной историей, да еще читателя, подталкивающего автора к разрешению задачи. «Бледный огонь» не детектив, хотя роман включает в себя и детективную историю тоже. Каждый уровень (или каждая грань) в этом волшебном ящике — ложный, перед нами бесконечная смена перспектив — сплошные зеркальные отражения. В самом начале поэмы Шейда возникает прекрасный образ птицы, обманутой отражением неба в стекле и потому погибшей. «Я тень, я свиристель, убитый влет / Подложной синью, взятой в переплет/ Окна…» За этим образом следует другой, еще более прекрасный и трогательный, связанный с обманом зрения: когда шторы не опущены, отражение комнаты проступает на темном пейзаже за окном. …когда разъяв «О, эта хрустальнейшая страна… — замечает комментатор, безумный профессор Боткин. — Возможно, это аллюзия на Земблу, мою милую родину». На уровне здравого смысла он ошибается. Но на поэтическом и магическом уровне говорит чистую правду, потому что Зембла — это Видимость, Фантом, Зазеркалье Алисы. Здесь таится первый ключ к потаенным сокровищам, он указывает читателю на двойственную, каламбурную природу композиции романа. «Бледный огонь» — поэма-отражение, но она и призма, сама рождающая новые отражения. Управляемая ныне экстремистами Зембла — страна призрачная, она — прямая противоположность приземленной Аппалачии, которая в реальности не что иное, как демократическая Америка и одновременно ее отражение, увиденное в кривом зеркале. Противоположности сходятся. Слово «Зембла» встречается в «Опыте о человеке» Александра Поупа (Послание 2) — так поэт называет мифическую страну, расположенную на Крайнем Севере, у Северного полюса. Как знать, что в свете злейший есть порок? Поуп здесь говорит, что порок, если начать его искать, всегда будет где-то вдалеке — вроде блуждающего огонька. Так и Зембла, она одновременно и далеко, и совсем рядом, за забором у соседей. Боткин — сосед Шейда, и — наоборот; более того, они люди, живущие в стеклянных домах… У Шейда есть порок — он любит выпить, а порок Боткина — в том, что он половой извращенец, то есть находится по отношению к другим людям как антипод, — он как бы перевернут с ног на голову. Любопытно, что у Поупа по соседству с «Земблой» мы встречаем слово «Extreme»[135], написанное с прописной буквы (экстремисты Земблы!), а также слово «degree» (что по-русски означает «градус»). Все это воспринимается как предвестие «Бледного огня». Читая дальше, видим строчки (267–268), свободно использованные Джоном Шейдом в черновом варианте: Слепец танцует, инвалид поет, Во второй строчке — краткое содержание «Бледного огня». Далее Поуп продолжает: Благословенны будьте в миг удачи «Благословенный» — название книги о Поупе, написанной Джоном Шейдом. В этой части поэмы Поуп использует резкое противопоставление светлого и темного начал, а также то, что редактор называет «парадоксальным отношением» к двойственной природе человека. Безумец Боткин, считая себя королем, переставляет слоги в своей фамилии (Кин-бот). Оставим пока Поупа и вернемся к Зембле. В Ледовитом океане к северу от Архангельска есть группа островов под названием «Нова Зембла». Это название образовано от русского словосочетания «новая земля». По-английски это будет звучать как «new land». To же самое значение и у словосочетаний «terre neuve», Newfoundland, New World. Получается, что Аппалачия — Зембла. Для Поупа Зембла была, грубо говоря, чем-то вроде Гренландии, то есть «зеленой землей», Аркадией. Но Аркадией профессор Боткин постоянно называет Нью-Уай в Аппалачи, награждая его эпитетом «зеленый»; он цитирует «Et in Arcadia ego», потому что Смерть является в Аркадию в облике Градуса, бывшего стекольщика и убийцы, представителя Земблы на другом конце света. Джеральд Эмеральд в зеленом пиджаке подвозит Смерть в своем автомобиле. Красный — дополнительный цвет по отношению к зеленому. После революции, начавшейся на Стекольном заводе, Зембла стала красной. В романе зеленый и красный цвета вспыхивают и гаснут, словно сигнальные огни светофора, и иногда меняют свои привычные значения. Зеленый становится цветом смерти, а красный — жизни; красный — цвет короля, а зеленый — его врагов. Зеленый цвет больше других связан с иллюзией; он также цвет камуфляжа: природа (по крайней мере, летом) может скрыть в своей зелени человека в одежде защитного цвета. А вот красный цвет опасен: его не стоит носить тому, кто таится от людей. На короле, когда он бежит из тюрьмы, — красная вязаная шапочка и свитер того же цвета; его спасло только то, что сорок верных карлистов, его сторонников, тоже надели на себя красные вязаные шапки и свитера (у русских есть поверье, что красная пряжа — латинское слово «предсказатель» имеет тот же корень, что и английское «пряжа», — может защитить того, кто ее носит). «Тени» были сбиты с толку обилием поддельных королей. А когда король прибывает в Америку, он спускается с небес на шелковом зеленом (потому что скрывается?) парашюте, а у его садовника-негра, которого он зовет Вальтазар (чернокожий король, один из трех волхвов), — зеленые перчатки, красный свитер и зеленая лестница; именно этот садовник, когда появляется Градус, он же Грей, спасает королю жизнь. Попав в Зазеркалье, Алиса вступила в шахматную игру в роли белой пешки. В «Бледном огне» тоже идет своя шахматная игра или, скорее, разыгрывается шахматная задача на поле из зеленых и красных клеток. Поэт описывает свое жилище как «каркасный дом с потертою лужайкой меж Вордсмитом и Голдсвортом»; Розовый дворик в Королевском дворце в Онгаве, столице Земблы, выполнен из нарезной мозаики, розовые лепестки вырезаны из родштейна, а крупные тернии — из зеленоватого мрамора. При описании места большое значение придается деталям; есть также ссылка на такое положение на шахматной доске, при котором у одного из партнеров остается лишь король. Король-изгнанник сравнивается с этой шахматной фигурой, спасающейся от преследования на шахматной доске. Любопытно, что такое положение не всегда является проигрышным: например, король и два коня не могут поставить мат оставшемуся в одиночестве королю — создается либо патовая ситуация, либо игра заканчивается вничью. Все шахматные партии, разыгрываемые персонажами романа, — ничейные. Сама рассказанная история тоже заканчивается ничейным результатом или патом. Побег короля из замка — типичная шахматная рокировка. Шахматы — абсолютно зеркальная игра: фигуры стоят друг против друга, и каждое войско видит как бы свое отражение. Все фигуры — ладьи, кони, слоны — имеют двойников. Кстати, ладья называется по-французски «le fou», что переводится как «псих». В романе есть два психа, противопоставленные друг другу: Градус и Кинбот. Ходы, которые совершает Градус, двигаясь от зембланской столицы по направлению к Вордсмиту в Нью-Уайе, по времени соотносятся с ходами поэта к завершению поэмы — в решающий момент оба оказываются в одно время в одном месте. Здесь есть намек на шахматную игру в трех измерениях — на три одновременные партии, играемые двумя сильными шахматными мастерами на трех прозрачных, вертикально установленных досках. Хрустальная страна в оконной раме, отражение спальни на снегу за окном. Ходы Градуса подразумевают также некую астрологическую закономерность. Старый Джон Шейд начал писать свой шедевр 1 июля, как раз посередине 1959 года, а закончил его (осталась ненаписанной только последняя строчка) в день прибытия Градуса — 21 июля, на стыке созвездий Рака и Льва. Боткин поселился в доме судьи Голдсворта 5 февраля 1959 года; в понедельник 16 февраля его представили поэту на ланче в факультетском клубе; 14 марта он обедал у Шейдов и т. д. Тут содержится явный намек на роковое взаимодействие трех планет и идущее из древности астрологическое представление о земных делах как отражении движений звезд в небе. Удваивания и попарные соединения продолжают множиться; увеличение числа уровней создает призматический эффект. Зембла — не просто страна, но и земля — «янтарный нежный шар, страна желаний», как называет земной шар Джон Шейд; зембланский фельетонист шутливо окрестил столицу Земблы Уранградом, то есть «небесным городом». Судьба Карла Возлюбленного в какой-то степени отражает судьбу Карла II Английского, также много жившего за границей, и свергнутых правителей из драм Шекспира, в честь которых названы улицы, вроде улицы Кориолана или Тимона Афинского. В комментариях часто упоминается Просперо из «Бури», наводя читателя наложное предположение, что выражение «Бледный огонь» взято из этой «лебединой песни» Шекспира. Оно не оттуда, но сама «Буря» присутствует в «Бледном огне»: изумрудный остров Просперо, названный Далвичским холмом в Новом Свете, павлины Ириды и Юноны, морские пещеры, игра в шахматы Фердинанда и Миранды, волшебство Просперо, утраченное им королевство, Калибан, которого он учит языку, — настоящее чудо отражения! В тексте эхом отзываются также подражания Природы самой себе. Пересмешник, пристроившийся на телевизионной антенне (огромной скрепке-насесте), павлин, распустивший веер хвоста, переливающийся всеми цветами радуги, изумрудная спинка цикады, тополь с корнем в виде кроличьей лапы — все это «природные подделки», так называемая защитная мимикрия, в результате которой, как говорится в поэме Шейда, «пестрой птицей / Становится камыш, личинкой пяденицы / Сучок корявый, голова змеи / Огромной бабочкой». Эти маскировки из того же ряда, что и красные шапочка и свитер короля-изгнанника (как окраска птичьего оперенья) или игра актера. Но в тексте возникают не только «подлоги природы», а и ее капризы, вроде колец вокруг луны; радуг и ложных солнц (ярких, часто цветных пятен, которые иногда можно различить на сиянии вокруг солнечного диска); гелиотропа — это слово, по прихоти языка, означает не только растение, но и минерал; мусковита (слюды); фосфоресценции (названной в честь Венеры, «утренней звезды»); миражей; кружка бледного света, называемого ignis fatuus (блуждающий огонек); светлячков и всего того, что рябит, пестрит, принимает необычную форму, что бросается в глаза (как в поэме Хопкинса{138} «Пятнистая красота»). Стреловидные следы фазана, красные геральдические знаки на крыльях бабочки Ванессы, кристаллики снежинок. В производстве тоже существует подражание природным эффектам: цветное стекло витражей, пресс-папье с изображениями снежной вьюги или горных вершин, линзы. Не говоря уже о других любопытных вещах, вроде сигнального фонаря, стеклянных жирафов, «демонов Декарта». Бородатый Боткин сам — «каприз природы», вроде Гумберта. И причудливая игра слов («Red Sox win 5/4 on Chapman Homer» — «Бордовые чулки на Чапменском Гомере выиграли со счетом 5:4»{139}), мускат (mouse-cat — игра в «кошки-мышки»), анаграммы, зеркальное письмо. Автору нравятся полиграфические значки и уменьшительные существительные, оканчивающиеся на «етка» (типа «нимфетка»). Джон Шейд любит играть в «словесный гольф» и втягивает в это занятие Боткина. У Боткина есть удачи: от «ненависти» к «любви» он переходит за три хода (hate-late-lave-love), от «девушки» к «мужчине» — за четыре (lass-last-mast-malt-male) и от «живого» к «мертвому» — за пять. <…> Автора также занимают всякие ошибки и заблуждения ученого мира, случаи неправильного толкования слов. Например, «alderwood» и «alderking» связываются обычно с лесной магией северных стран. Кто такой «alderking», если исключить толкование «alder» как «старший», что является нелепой нагрузкой по отношению к «king» — королю? «Erle» — по-немецки «ольха» (alder — англ.); важное свойство этого дерева, растущего во влажных местах, заключается в том, что оно не гниет под водой. Поэтому из него делают сваи мостов. В том месте поэмы, где Шейд пишет о смерти дочери, явственно ощущается связь с «Лесным царем» Гете. Кто скачет, кто мчится сквозь ветер и ночь? Когда немецкий ученый Гердер переводил с датского историю о короле эльфов, он принял слово «эльф» (elf) за «ольху» (alder). Так что будет точнее сказать не «лесной царь», а «царь эльфов», но «alder», соприкоснувшись с таинственным словом «elf», само стало загадочным и опасным. По замечанию Кинбота, «лесной царь» у Гете влюбляется в маленького сына запоздалого путника. Следовательно, «лесной царь» — злобный и опасный извращенец, которого можно встретить в лесах северных стран. Подобные волшебные превращения происходят и со словом «stone» («камень» — англ.). Короля, пробирающегося в красной шапочке через зембланские горы, автор сравнивает со «Steinmann» (грудой камней, воздвигнутой альпинистом в память о восхождении, как объясняет Кинбот); на этих «каменных людей» обычно напяливали, как на снеговиков, красные шапочки и повязывали шарфы. Steinmann также — фамилия одного из переодетых в красные шапочки и свитера сторонников короля, а именно Джулиуса Стайнмана, зембланского патриота. Но у слова Steinmann есть еще одно значение, не отмеченное Кинботом: homme de pierre, или homme de St. Pierre из пушкинского произведения о Дон Жуане — каменная статуя, Командор из известной оперы. Тот, кто поужинает с «каменным человеком», как бы представителем св. Петра, пойдет в ад. Горы, которые должен преодолеть король-Steinmann, называются Мавдевильскими; ближе к концу путешествия он встречает барона Мавдевиля, переодетого женщиной, светского человека, утеху педерастов и зембланского патриота. Его фамилию можно прочитать как «человек-дьявол» (Mandevil), но можно и как сэр Джон Мандевиль — авантюрист, живший в средние века и оставивший после себя книгу путевых заметок. Он изображен на портрете в виде английского рыцаря-всадника (не подразумевается ли здесь шахматный ход конем?). И наконец, обыкновенный камень (тот, что отражался в стеклянных домах), камень, который бросают в пруд или озеро, тем самым творя трепетное волшебство зарождения кругов на воде, постепенно расширяющихся от места падения и нарушающих зеркальную гладь озера подобно тому, как само слово «камень», заброшенное в этот абзац, породило цепную реакцию разных ассоциаций. Озера — первые зеркала первобытного человека — играют важную роль в романе. Неподалеку от университета есть три озера: Омега, Озеро и Зеро (по утверждению Боткина, это изначально индейские названия, искаженные первыми поселенцами); король наблюдает, как его супруга Диза, герцогиня Больна (садизм: у королевской четы не было супружеских отношений), смотрится в зеркало итальянского озера. Дочь поэта утопилась в озере Омега; ее имя Гэзель («…в ореховой тени Гленартни…») взято из «Девы озера»{140}. Но ореховая ветка может использоваться как лоза, с помощью которой ищут воду; в детстве бедняжка Гэзель, колдунья Гэзель, была полтергейстом. Деревья, озера, бабочки, камни, павлины… здесь есть даже свиристель — alter ego поэта, он появляется уже в первой строке (которая должна была стать и последней, но осталась ненаписанной). Если вы посмотрите слово «свиристель» в толковом словаре, то прочтете, что эта птица «относится к отряду воробьиных; особенно известен Ampelis garrulus — богемный свиристель. Выделен среди других птиц месье Вийо». Можно сказать, что и поэт — тоже представитель богемы — выделен среди прочих говорунов мира. У свиристеля буро-красное оперенье (принадлежит к королевской партии). Еще один вид свиристелей — кедровый свиристель (Ampelis cedar). И тут же параллель — Боткин улетел в Кедры (Cedarn). Анаграмма «Cedarn» — «nacred» (перламутровый). Более объяснима (на популярном уровне) ассоциация «заднего прохода», «черного хода» и «porte etroite» с тайным лазом, который ведет по лестнице, устланной зеленым ковром, к зеленой дверце (та, в свою очередь, соединяется с «зеленой комнатой» — фойе онгавского Национального театра). Король пользуется именно этим тайным ходом (проложенным для Ирис Акт, ведущей актрисы труппы), когда бежит из дворца. «Трон» в значении «горшка» (как зовут его дети) повсюду шаловливо ассоциируется с королем. Когда прожорливый Градус прибывает в Аппалачию, у него случается сильнейшее расстройство кишечника, вызванное несовместимостью американских чипсов и сандвича с настоящей французской ветчиной, который сохранился у него со времени поездки на экспрессе «Ницца — Париж». Опорожнение его кишечника пугающе сопоставляется с «опорожнением» обоймы автоматического пистолета: Градус — современный «механический» человек. Расстреливая обойму, он воспринимает это действие как «естественное», а удовольствие, которое он предвкушает от будущего убийства, сравнивается с приятным ощущением, получаемым от выдавливания угрей. Все это вовсе не является претенциозным литературным снобизмом. Повторения, отражения, опечатки и капризы Природы расцениваются как приметы некоего замысла, своеобразным следом на земле или воде, оставленным Божеством или Разумом. Старый Джон Шейд приходит к выводу, что во всем сущем присутствует «паутина смысла» — не текст, но текстура, основа гармонии. Он надеется отыскать некий ключ к «Соотнесенным странностям игры. / Узор художества, которым до поры / Мы тешимся, как те, кто здесь играет»[137]. Наш мир — озорное художественное творение, мозаика, переливчатая ткань. Видимость и реальность взаимозаменяемы; все реально, сколь бы обманчив ни был внешний вид. Более того, именно в этом даре обмана (естественной мимикрии, оптической иллюзии, подмене), в этой способности к имитации — ключ к шифру Природы. У Природы «артистический темперамент»; если просканировать галактики, окажется, что они — написанные ямбом строки. Кинбот и Шейд (а также сам автор) сходятся в общей неприязни к символам, исключение составляют только типографские значки и, конечно же, те символы, что используются в естественных науках (Н2O как символическое представление о воде). Зато они принимают на веру разные знаки, указатели, отметины, зарубки, ключи — все, что уводит в ассоциативный «лес», где прежде побывали и оставили свои, наполовину стертые следы, прочие лесорубы. Все подлинные художественные творения содержат экстрасенсное предвидение других произведений искусства или воспоминание о них (или и то и другое) вроде того, как летучая ящерица уже обладала парашютом задолго до того, как о нем узнали: особая складка кожи позволяет ей скользить по воздуху. Шейд — американец, и потому, естественно, агностик, а европеец Кинбот — своеобразный христианин: он говорит, что принимает «присутствие Божие вначале как фосфорическое мерцание, бледный свет в потемках телесной жизни, а после — как ослепительное сияние». Или более вразумительно: «Разум участвовал в сотворении мира». Разум, в представлении Кинбота, наиболее ярко проявляет себя в двойственности, парах, близнецах, каламбурах, рифмованных двустишиях — всем том, чего так много в ранних комедиях Шекспира. Это не покажется удивительным, если вспомнить, что для того, чтобы смастерить ко Дню св. Валентина сердце или кружевную салфетку, ребенку требуются всего-навсего ножницы и сложенный в несколько раз лист бумаги. Когда, поработав ножницами, его развернуть, вам откроется подлинное чудо. По этому принципу создана бабочка. Его же использовали ремесленники Возрождения, когда получали замысловатые «природные» узоры, разрезая камень с прожилками — агат или сердолик — совсем как мы разрезаем апельсин. К области волшебства относится и детский фокус, когда на книгу кладется лист бумаги, а его поверхность заштриховывается карандашом; постепенно на бумаге, словно вылепленное рельефом, проступает оставшееся белым заглавие: «Записки о галльской войне». По этому принципу — только наоборот — оставлены фазаном иероглифы на снегу или ветром — рябь на песке, увидев которую, невольно восклицаешь: «Как прекрасно!» Несомненно, что это дублирование, выдавливание, отпечатывание (детские переводные картинки) — высшая форма магии, подобная той, что мы видим на расписанных Дедом Морозом окнах или в узорах, прочерченных в небе реактивным самолетом, — кажется, что их создало разумное существо. Но волшебное присутствие Разума ощущается не только в симметричности или копировании, но и в самой несовершенности творчества Природы, что воспринимается как свидетельство штучной, ручной работы. Именно в этих пятнышках, рябинках, прожилках и родинках проявляется юмор Творца. Нежность, которую Набоков чувствует к человеческой эксцентричности, к чудачествам и «отклонениям», частично является слабостью натуралиста ко всяким курьезам. Но его окрашенное иронией сострадание к черной одинокой фигурке на доске проистекает из источника более глубокого, чем интерес классификатора или азарт коллекционера. «Бледный огонь» — роман о любви, о любви и утрате. Любовь присутствует в нем как ностальгия, как тоска по союзу, описанному Платоном, как томление по своей второй половине, желание черной шахматной фигурки встретить белую. Чувство утраты любви, одиночества (комната за спиной, отраженная за окном, на снегу; воображаемые ходы шахматного коня, этой странной фигуры, на призрачной доске) способствует созданию типичных ситуаций — пожилые супруги смотрят телевизор в освещенной комнате, а «странный» сосед следит за ними из своего окна. Но особенно мучительно это чувство ощущается в изгоях: в некрасивой дочери поэта, к которой не пришел на свидание парень, в иммигранте, в «королеве», в птице, разбившейся об оконное стекло. Жалость — пароль, утверждает Шейд в философском споре с Кинботом; для поэта-агностика существуют только два греха: убийство и намеренное причинение страданий. В этом романе, полном жизнерадостности и фонтанирующего юмора, есть крик подлинной боли. Сострадание Набокова ни в коем случае не распространяется на Градуса, этого серого, деградировавшего субъекта, тени Шейда. Убийца — этот современный, весьма распространенный тип, быстро перемещающийся в пространстве и взращенный на легковесном газетном чтиве, — описан писателем с нескрываемой ненавистью. Он — сама Смерть, вышедшая на охоту. Противоестественная, преждевременная Смерть — враг всех тех нежных и эфемерных созданий, которые пользуются особой любовью Набокова. Кинботу принадлежит антидарвиновский афоризм: «Убийца всегда стоит ниже своей жертвы». За исключением спора между поэтом и его соседом, а также того места, где Кинбот дает теологическое оправдание самоубийству, роман полностью свободен от религиозного подтекста — большое достижение для произведения, в основе которого традиционные ассоциации. Как удалось избежать упоминания о Кресте Господнем, Святой Троице, муках ада, воскресении и т. д.? Среди множества отсылок только две относятся к христианской мифологии: одна косвенно связана со св. Петром как привратником у входа в Рай, а другая — шутливая — с чернокожим королем-волхвом. Роман подчеркнуто выделяется из прочих творений в этом жанре. Отношение автора к тайне мироздания больше похоже на то, что присуще ботанику старой школы, чем на мистическое отношение современного физика. Что касается практической морали, то автор, как и Кант, пытается примирить идеалы Просвещения и универсальные законы человеческого поведения, которые преподносятся как аксиомы. В пантеизме Набокова есть отблеск идей Платона{141}: «фосфорическое мерцание», упоминаемое Кинботом, заставляет вспомнить о «пещерном» мифе. Кинбот возвращается к этому определению, когда говорит в конце романа о том, что в поэме Шейда, несмотря на все ее недостатки, есть «отзвуки и отблески огня — фосфоресцирующие приметы» подлинного очарования Земблы. Это свидетельство безумца является также авторской апологией своего творения по отношению к огнедышащему Вулкану чистого воображения — платоновскому эмпирею, сфере чистого света или огня. Однако платоновский эмпирей есть нечто вроде небесного склада или хранилища моделей, с которых копируются разные виды земной жизни. По мнению Набокова (смотри двустишие Шейда: «Жизнь человека — комментарий к темной / Поэме без конца. Использовать. Запомни»), небесная Поэма сама еще не дописана. Я перелистала всего Шекспира, но не нашла ни у него, ни в каком другом месте словосочетания «Бледный огонь». В комментариях говорится о том, что поэт сжег отвергнутые им наброски в «бледном огне печи». Любопытный угол зрения на проблему открывает слово «ingle», которое употребляет Кинбот, говоря о мальчике, находящемся на содержании у педераста; это слово также означает «огонь в камине», идущее от гэльского «огонь». Один из товаров, которые производит Хелена Рубинштейн{142}, носит название «Бледный огонь». Мне также пришли на ум бледный огонь опала и поэзия Вордсворта, одного из святых покровителей университета, гротескно названного «Вордсмитским»: «Жизнь, подобно куполу из цветного стекла, окрашена бледным сиянием вечности». Чем же является окружающий мир? Призматическим отражением вечности или все как раз наоборот? Думается, это неважно, как несущественно, что было раньше: курица или яйцо? Отношения человека с космосом похожи на обмен световыми сигналами, у этих отношений нет ни начала, ни конца, между ними только расстояние — разлука — и возбужденные огни светофора. Но в любом случае этот набоковский роман-кентавр — наполовину стихи, наполовину проза, этот тритон глубоких вод, — произведение редкостной красоты, симметрии, оригинальности и нравственной истины. Как ни старается автор представить его безделушкой, ему не удается скрыть тот факт, что этот роман — одно из величайших художественных творений нашего столетия, доказывающий, что роман вовсе не умер, а только притворился мертвым. Mary McCarthy. A Bolt from the Blue // New Republic. 1962. Vol. 146. June 4. P. 21–27 (Перевод В.И. Бернацкой). Дуайт Макдональд{143} Оцененное мастерство, или Месть доктора Кинбота В этом году я не брал в руки другого романа, который было бы так же невозможно читать (исключение составляет разве что «Янгблад Хоук» Германа Вука{144}). Их непригодность для чтения порождена прямо противоположными причинами: «у одного ума недостает — зато у другого больше, чем надо». Это английское выражение — не только обывательское, но и ложное: нельзя быть слишком умным, как нельзя быть слишком богатым или добродетельным. В нем отражен один из национальных предрассудков англичан — недоверие к уму, существовавшее, по крайней мере, до недавнего времени, когда разум стал повсеместно цениться, даже в Лондоне. А так стоит вспомнить, как дружно англичане верили Стэнли Болдуину{145} и Невиллу Чемберлену{146} (до 1940 года) и не доверяли Уинстону Черчиллю и никогда не принимали всерьез Макса Бирбома{147}, одного из самых умных и оригинальных людей своего времени. И все же иногда можно с полным основанием посетовать на «ум», а именно в том случае, когда он становится «заумью» и отрывается от содержания и когда мастер-виртуоз достигает в своем ремесле такого совершенства, что получает огромное удовольствие от одной лишь демонстрации мастерства и подчас злоупотребляет им, применяя в значительно большей степени, чем того требует поставленная художественная цель. Набоков — блестящий стилист, что особенно замечательно, ибо английский язык не является ему родным. Его часто сравнивают с Конрадом, однако сравнение не льстит ни одному из писателей: Набоков заставляет звучать значительно больше струн, а у Конрада хоть их и меньше, но эти струны — важнейшие из всех. Набоков — писатель «второго ряда», что вовсе не является оскорблением: так, Геррик{148} — второй по отношению к Донну, Остен — к Диккенсу, Гоголь — к Толстому, Фрост — к Йейтсу или Элиоту. Критерием здесь является масштабность изображения, а не качество, и потому писатель, успешно разрабатывающий крупные темы, более велик, чем тот, чьи амбиции не столь высоки (иначе не было бы никакого смысла в делении писателей на «первый» и «второй» ряды). Однако талантливый писатель «второго» ряда подчас больше ценится, чем иные представители «первого», вроде Уэллса, Голсуорси, Беннета или — опустимся на порядок ниже — миссис Хэмфри Уорд{149}; нет смысла продолжать список за счет более отдаленных от нас по времени эпох. Свойственное людям романтическое предпочтение всего того, что отличается большим размахом, устремленностью в бесконечность, нелепая потребность заиметь еще одного «гения» заставляет нас переоценивать значение величины усилий… Так что нет ни малейшего повода сочувствовать господину Набокову из-за того, что все наиболее удачные его сочинения попадают под категорию романов «второго» ряда. (Мюриэл Спарк также принадлежит к прозаикам этого ряда и создает при этом великолепные произведения.) Набоков создал один шедевр — «Лолиту», — сочетающий в себе элементы высокой и низкой комедии, а также социальную сатиру, эмоциональность, неудержимое воображение и богатейший язык, какого, пожалуй, не было в английской литературе со времен елизаветинцев и Лоренса Стерна. Помимо «Лолиты» Набоков написал также еще три превосходные книги: историю о Пнине, небольшую работу о Гоголе (дающую самое лучшее представление об этом замечательном писателе из всего, что я знаю; к тому же написанную в том же ключе и так же оригинально, как и произведения самого Гоголя) и полные ностальгии и искрящиеся юмором воспоминания о раннем периоде его жизни, озаглавленные «Убедительное доказательство». Те рецензии на «Бледный огонь», которые я видел, были в основном неодобрительные, хотя критика высказывалась о них крайне осторожно: у Набокова слишком высокая литературная репутация, а его последний роман — бестселлер. Авторы рецензий создавали у читателей ложное впечатление, что, несмотря на отдельные недостатки, роман является занимательным чтением, полным «острот и софизмов, уловок и трюизмов». Но это вовсе не занимательное чтение. На самом деле пронизывающие текст лукавая насмешливость и фантастичность отталкивают читателя. Лишь профессиональный долг заставил меня с трудом добрести до конца романа — подобно тому как трезвый человек в Марди грас{150} с трудом тащится по мостовым, заваленным конфетти, гирляндами и фестонами. Этот роман, как и «Приглашение на казнь» и еще один-два ранних романа, представляется мне высококлассным надувательством, все они скучны, как любая демонстрация мастерства, лишенная мысли и чувства. Я согласен с господином Клойном, справедливо посетовавшим на Набокова, который «сознательно ограничил себя» и в том, и в другом. Я так и вижу, как автор романа, высокомерно улыбаясь, заявляет с бравадой широкой публике, знакомой с «Лолитой»: «Вы что, считаете меня поставщиком бестселлеров? Тогда попробуйте-ка вот это!» Такая позиция мне нравится, хотя конечный продукт и не устраивает. «Бледный огонь» состоит из четырех неравных частей: поэмы с одноименным названием, написанной, предположительно, Джоном Френсисом Шейдом, прославленным пожилым поэтом, живущим при американском университете, который напоминает Корнелл, где в течение нескольких лет преподавал Набоков (сатирическое изображение жизни американских академических кругов — самые живые страницы романа), а также предисловия, комментариев и указателя, написанных Чарльзом Кинботом, коллегой Шейда по университету. Смысловой центр книги — комментарии. Искусству, с которым Набокову, говорящему только от лица Кинбота, удается рассказать читателю все что надо, ни разу не сбившись с параноидально-фантастичного стиля безумца, можно позавидовать. Однако от аплодисментов стоит воздержаться, потому что автор столь навязчиво демонстрирует свое мастерство, что добивается результата прямо противоположного желаемому, — это убивает всякое эстетическое наслаждение от прочитанного. К примеру, его основной прием — пародия на академический метод исследования: в построчном комментарии доктора Кинбота, в пять раз длиннее самой поэмы, содержание интерпретируется самым произвольным образом: комментатор сводит все к зембланским реалиям. Это довольно забавно — но сколько места стоит отводить на анекдот? Мне кажется, двести двадцать восемь страниц — многовато. Я не противник пародий, но эта пародия почти столь же скучна, как и ее объект; вскоре начинаешь подозревать, что у пародиста гораздо больше общего с пародируемым, чем он показывает или думает. Автор явно получает удовольствие от игры, и поэтому эти пространные комментарии («приглашенный на свадьбу гость бил себя в грудь, заслышав громкие звуки фагота») — не пародия, а скорее подделка под нее. Словесная изобретательность автора выгладит столь же неуместной, как и Кинботовы педанты, которых, как ему кажется, он высмеивает. Он слишком «долго смотрел в бездну», и теперь, как предупреждал Ницше, «бездна глядит в него»{151}. Я уже заканчивал рецензию, когда вышел журнал «Нью рипаблик» от 4 июня с очень длинной и восторженной статьей Мэри Маккарти, посвященной «Бледному огню». Я чрезвычайно высоко ставлю критические способности этой писательницы, но в данном случае мне трудно понять ее энтузиазм. Я могу объяснить его разве только тем, что ей доставляет удовольствие решать головоломки больше, чем мне, а также тем, что она считает их литературным жанром. Ее статья занимает целых пять полос и почти вся посвящена детективно-исследовательской работе, выполненной на самом высоком уровне. Сама литературная критика или, точнее, оценка произведения сосредоточена в последнем абзаце — создается впечатление, что писательница осознала необходимость оправдать, хотя бы кратко, свои предыдущие страницы: «В любом случае этот набоковский роман-кентавр — наполовину стихи, наполовину проза, этот тритон глубоких вод, — произведение редкостной красоты, симметрии, оригинальности и нравственной истины. Как ни старается автор представить его безделушкой, ему не удается скрыть тот факт, что этот роман — одно из величайших художественных творений нашего столетия, доказывающий, что роман вовсе не умер, а только притворился мертвым». Такой вывод не представляется мне убедительным. Даже не придираясь к определению «наполовину стихи, наполовину проза» (пропорции здесь скорее один к пяти), я не могу найти ни в самом романе, ни в рецензии госпожи Маккарти подтверждение таким ее оценкам, как «произведение редкостной красоты, симметрии, оригинальности и нравственной истины… одно из величайших художественных творений нашего столетия». Предпринятые писательницей усилия по истолкованию романа весьма внушительны, поэтому вдвойне обидно видеть, что она приписывает Вордсворту известнейшее изречение Шелли: «Жизнь, подобно куполу из цветного стекла, окрашена бледным сиянием вечности».{152} Кроме того, как заметил один из читателей «Нью рипаблик», она, в целях обыгрывания названия романа, заменила слово «white» (белый) на «pale» (бледный). Госпожа Маккарти не сумела отыскать «Бледный огонь» у Шекспира, хотя поэма Шейда указывает на этот источник, я тоже тут не преуспел. Однако сам Набоков в интервью сказал, что это словосочетание взято им из «Тимона Афинского», — так оно и оказалось. В IV действии, сцене 3 читаем: …Солнце — Эта цитата явно намекает на интеллектуальную кражу Кинбота, переосмыслившего поэму Шейда. (Зуд интерпретатора заразителен.) Но одно дело — толковать произведение искусства, а другое — критически его осмысливать. Боюсь, что статья госпожи Маккарти, как и сам роман, выглядит упражнением в неуместной риторике. И я заканчиваю рецензию с неловким чувством, что писательница, последовав за Набоковым, упала в яму, которую им выкопал педантичный доктор Кинбот. Dwight Macdonald. Virtuosity Rewarded, or Dr. Kinbote's Revenge // Partisan Review. 1962. Vol. 29. № 3. P. 437–442 (перевод В.И. Бернацкой). Джордж Стайнер{153} Плач по утраченному языку <…> Что можно сказать об этой тяжеловесной jeu d'esprit[138]? В ней есть по-настоящему блестящие страницы. Отдельные пласты повествования хитроумно соединены друг с другом. Должны ли мы верить тому, что Кинбот говорит о поэме и о своих непродолжительных и нестабильных отношениях с Джоном Шейдом? Правда ли то, что Кинбот — преследуемый врагами правитель Земблы или, как он намекает в эффектном заключительном абзаце романа, — всего лишь псих, которого разыскивает другой псих, вознамерившийся лишить жизни мнимого короля? В поэме есть отдельные, стилистически весьма изысканные места, да и в прозаической части найдутся страницы, которые под силу написать лишь Набокову. Даже когда он просто перечисляет какие-то предметы, то делает это пусть несколько манерно, но с неподражаемым остроумием. Более того, в романе глубоко запрятаны искренняя печаль и протест. Подобно большинству подлинных удач Набокова, «Бледный огонь» — плач по утраченному языку. В наш век в мире много изгнанников, оторванных от родного языка. Набокову пришлось поменять свой родной русский язык на французский, а французский — на английский, и на всех трех языках ему удалось написать замечательные вещи. Это само по себе — уже чудо. Но в то же время он утверждает с гордостью и одновременно с горечью, что все созданное им на английском языке, сколь бы изобретательно и точно это ни было выражено, — всего лишь ремесленные поделки в сравнении с тем, чего он может достичь на материале русского языка. Особенно остро ощущает он горечь своего изгнания, когда думает о достижениях Пастернака. В «Бледном огне» эта щемящая нота проявляется по разным поводам: Он задыхается, кляня на двух наречьях Что Кинбот и комментирует, перечисляя «наречья» парами: «На английском и зембланском, на английском и русском, на английском и латышском… на английском и русском, на американском и европейском». И все же если кто и сумел извлечь из изгнания пользу, то только Набоков. Однако ни словесные выкрутасы страстного поклонника словарей, ни возникающие подчас взрывы неподдельного и глубокого искреннего чувства не могут заставить «Бледный огонь» гореть ярче. Читатели приняли «Лолиту», благодаря яркой и иронической интонации, и даже сочувствовали ее героям, тут все обстоит иначе: о гомосексуализме доктора Кинбота рассказано с какой-то дешевой и пошлой игривостью. Его похождения (действительные или вымышленные) с юношами в туго облегающих джинсах и зелеными абитуриентами представляются слабым подражанием порочной изобретательности небезызвестного Гумберта Гумберта. Иногда грубость и отсутствие творческого воображения просто пугают. Представляю себе, какое уничтожающее презрение вызвали бы у Д.Г. Лоуренса скабрезности на странице… (Нет, лучше найдите ее сами.) Роман — педантичные упражнения в остроумии, растянутые на множество страниц. Набоков не может себе представить, как много позаимствовал он у замкнутой на себе, замшелой и эгоистичной академической среды, которую он так зло высмеивает. Возможно, музы-покровительницы ученого мира — старые девы, но они умеют мстить тем, кто их предает. Слишком многое в «Бледном огне» — ennuyeux[139], langweilig[140] — откровенно скучно. George Steiner. Lament for Language Lost // Reporter. 1962. Vol 26. July 7. P. 44–45 (перевод В.И. Бернацкой). Фрэнк Кермоуд Земблане В наш век, когда критики наступают художникам на пятки, не приходится удивляться, что авторитетный разбор «Бледного огня», предпринятый Мэри Маккарти, появился в печати и стал доступен для благоговейного изучения уже в сентябре, хотя сам роман вышел только сейчас. Он по-прежнему остается, как утверждают издатели, «не похожим ни на один другой роман», однако, читая его, часто вспоминаешь статью госпожи Маккарти, особенно заключительный вывод, где говорится, что этот роман — «одно из самых величайших художественных творений нашего столетия». Этот тезис подвергся серьезной критике со стороны Дуайта Макдональда, который посчитал, что Мэри Маккарти угодила в ловушку, расставленную критикам. Я читал роман вовсе не для того, чтобы выяснить, кто из них прав, однако мне ясно, что госпожа Маккарти (которая, похоже, забыла все свои прошлые, столь категорично высказываемые, взгляды на литературу — во всяком случае, на то время, пока писала эту рецензию) права в частностях и не права в общей оценке романа. В основе «Бледного огня» — издание автобиографической поэмы известного поэта по фамилии Шейд, пишущего в стиле Фроста; оно стало возможным благодаря усилиям довольно странного субъекта. Этот человек, который редактирует поэму наперекор желанию вдовы и друзей Шейда, — беженец из Земблы, по имени Кинбот, или, по другим сведениям, Боткин. Этот сумасшедший гомосексуалист верит, что Шейд действительно собирается описать в своей поэме Земблу и особенно свершившуюся в ней революцию, в результате которой из страны бежал ее король — между прочим, сам Кинбот. В комментариях рассказывается, каким образом эта руританская{154} история оказалась в подтексте поэмы Шейда и как киллер из Земблы, посланный, чтобы убрать Кинбота, случайно убивает вместо него Шейда в тот момент, когда тот вручает поэму зембланскому другу. Благодаря разбросанным по роману тут и там намекам, постепенно понимаешь, что произошло на самом деле: убийца — сбежавший из лечебницы маньяк, который хочет отомстить упекшему его в психушку судье, в доме которого поселился Кинбот. Шейда он убивает по ошибке, приняв того за судью. Это, как замечает госпожа Маккарти, только завязка истории. «Бледный огонь», несомненно, — один из самых сложных современных романов. Кинбот выстраивает свою фантазию из разрозненных кусочков ассоциативного материала. Университетские события он проецирует на Земблу, вымышленную землю, страну-отражение. Напрашивается вывод, что Кинбот страдает некой лексической дезориентацией, являющейся симптомом некоторых психических расстройств (что использовал Музиль в образе Клариссы{155}). Так Кинбот произвольно трактует скрытые и личные ассоциации, создавая с их помощью свой фантастический мир; он также приспосабливает к своим целям астрологию и цветовую символику. Кинбот не упускает ни малейшей возможности увязать текст поэмы Шейда с зембланскими реалиями, переосмысливая все, что только поддается этому, и создавая тем самым множество зеркальных отражений и перевертышей — в духе своего имени и сексуальной ориентации. Безумный характер его поступков подтверждается полной неспособностью разглядеть в поэме Шейда очевидные аллюзии, он не понимает даже смысла ее названия — «Тимон Афинский» есть у него только в зембланском переводе. Иногда роман Набокова чем-то напоминает «Хапугу Мартина» Голдинга, однако в целом они очень разнятся по тону и поставленным задачам. Набоков передает несчастному безумцу собранный им и пронизанный скрытыми аллюзиями материал, из которого тот лепит свой мир, однако автор оставляет в тексте следы своего присутствия, как бы заверяя читателя, что все происходит под его наблюдением — заинтересованным и здравым. Основной вопрос состоит не в том, сумеем ли мы распознать эти хитроумные и многочисленные ассоциации, а в том, почему Набокову захотелось их создать — по его словам, он терпеть не может «символистских» романов — и предоставить в распоряжение безумцу. Чтобы ответить на этот вопрос, надо окинуть взором все творчество Набокова, в котором значительное место занимает то, что Дуайт Макдональд называет «высококлассным надувательством». Именно так можно было бы охарактеризовать метод Набокова — конечно, при условии снятия уничижительного оттенка с такого определения. Он увлечен формальным аспектом работы, очарован самим материалом. Невозможно определить, в каком отношении к реальности находится его творчество, и в этом — одна из отличительных примет «Бледного огня». Событиям в романе нет нужды быть правдивыми — главное, чтобы таковой была их взаимосвязь; мир же самого писателя соотносится с реальностью, как комментарии Кинбота с поэмой Шейда. И то и другое — не в фокусе, и в том и в другом случае версии сильно отличаются от очевидных фактов. Гомосексуализм Кинбота — метафора неприятия художником нашего несовершенного мира — «циничного века безумной гетеросексуальности». Если кто-то осмелится поискать подобные идиосинкразии у самого Набокова, то он натолкнется на интеллектуальное отвращение к фрейдизму и — учитывая, что писатель принадлежит к русской эмиграции, — также к марксизму. Кинбот служит целям Набокова главным образом потому, что он одержим, отравлен только своим текстом, как Гумберт Гумберт одержим девочкой. В своих романах Набоков обычно описывает возбужденное и внеэтическое состояние ума — сопоставимое, несомненно, с той психической активностью, в какой пребывает сам автор, работая над ними. Поэтому в них всегда есть толика презрения к реализму, которое в своем безумии демонстрирует Кинбот. В романе есть место, где Кинбот описывает портреты царственных особ Земблы, в которые художник, большой мастер trompe d'oeil, дабы усилить воздействие своего искусства на зрителей, вкраплял в полотно кусочки шерсти, золота или бархата. В этом приеме, как пишет Кинбот, было «что-то низкое» — он обнаруживал «элементарный факт», что «реальность не является ни субъектом, ни объектом искусства, которое создает свою собственную, особую реальность, не имеющую ничего общего с той усредненной „реальностью“, которую воспринимает обычный глаз». Между прочим, этот прием сбил с толку русских специалистов, которые прочесывали дворец в поисках сокровищ Короны. Набоков не сторонник «реализма по-советски» — он убежденный формалист. Он неоднократно напоминает, что ставит во главу угла искусный прием, который возвышает его «действительность» над «всеобщей». Это его принцип, а фантазии Кинбота — всего лишь последовательное развитие этого пристрастного убеждения. Зембланский бред — метафора творческого процесса. Впрочем, в «Бледном огне» присутствуют не только фантазии Кинбота, но и «окружающая действительность», которую привносят сюда жена Шейда, его несчастная дочь, университетские враги Боткина и, наконец, сама поэма, которая является более здоровым вариантом реальности, чем сама жизнь. Следовательно, автор должен донести до читателя не только то, что деятельность Кинбота — слепок с его собственной, но и то, что Кинбот не без оснований считается сумасшедшим. Это порождает множество свидетельств отмежевания автора от своего героя, множество маленьких предательств с его стороны. В стиле Кинбота, например, появляется некоторая манерность, когда он жеманно приоткрывает свои сексуальные интересы: «В бане среди густого пара его нагое лоснящееся тело вдруг явило дерзкие признаки пола, резко контрастировавшие с девичьей грацией. Это был самый настоящий фавн». Когда Набоков заставляет Кинбота говорить таким образом или предает его как-то иначе, мы вспоминаем Гумберта, неохотно снизошедшего до сострадания Лолите, когда та пришла, побежденная одиночеством, в его комнату в мотеле. И все же ничто из вышесказанного не может развенчать основную метафору: навязчивая идея Кинбота является тем, что Набоков именует «эстетическим блаженством»: «Для меня литературное произведение существует только в том случае, если дарует то, что я могу неточно назвать эстетическим блаженством, — это ощущение связи с другими состояниями бытия, в которых искусство (любопытство, нежность, доброта, экстаз) являются нормой». С такой идеей наслаждения согласятся и Гумберт и Кинбот; именно она противопоставляет их остальному миру, который предпочитает людей, похожих на машины, поддерживает безликих диктаторов, вроде Падука из романа «Под знаком незаконнорожденных», или бесполых примитивных механических людей, вроде Градуса, воображаемого убийцы Кинбота, за которым следишь на протяжении всего романа с крайним отвращением. И все же в «Бледном огне», как я уже говорил, автор претендует явно на большее, чем в «Лолите»: роман рассказывает не об одном лишь одиночном «блаженстве», но и об остальном, лишенном «блаженства», мире. А скрытые связи, которые исследует госпожа Маккарти, отражают сложные отношения между двумя «действительностями» — видением художника и голыми фактами. Стоит остановиться на одном примере. Шейд занимается изучением творчества Поупа, и в тексте есть несколько аллюзий к «Опыту о человеке». Подобный выбор Набокова не случаен (хотя, возможно, он и хотел бы, чтобы так думали) — писатель видел в этой поэме важный подход к проблеме «эстетического блаженства». Шейд, размышляя о нелепой ошибке — типографской опечатке, превратившей «вулкан» в «фонтан», в результате чего два разных видения после клинической смерти превратились в одно, — приходит к выводу, что зрительная близость этих двух образов гораздо больше свидетельствует о «соотнесенных странностях игры», чем полная тождественность. «Случайность, чью закономерность ты не можешь узреть» — вот мысль, которая присутствует у него в подсознании. Автор разворачивает метафору «игры», теперь он думает об игроках: Безмолвные, снуют они меж нас: Здесь Шейд отчасти вспоминает «Второе послание» Поупа и, возможно, более категоричные заявления, раздававшиеся в XVIII веке, и которые лучше всего знакомы нам из нападок Джонсона на Дженинса: болезнь, безумие, горе могут быть частью игры, которую ведут с нами существа более высокого порядка. Набокову приходит в голову, что романист в конце концов может развлечь себя, заставив кого-то из героев забиться в эпилептическом припадке, или подвинуться рассудком, или прийти в смущение от невероятных совпадений. «Блаженство» автора состоит в том, чтобы соотносить настоящие события и предметы с событиями, отдаленными во времени, исчезнувшими предметами. Подобно святым, он может восседать, если захочет, на троне, наслаждаясь муками обреченных. «Бледный огонь» воспроизводит эту божественную игру, давая нам возможность получать удовольствие не только от конечного результата, но и от самого процесса. Однако это удовольствие всего лишь соглядатая. Отношения Набокова с порожденным им миром очень своеобразны: он творец, мы же можем в лучшем случае быть на положении ангелов, стоящих в сторонке и аплодирующих. Что же касается тех читателей, которые порабощены «окружающей действительностью», то им ждать вообще нечего. Они именно те люди, которые думают, что «Лолита» — роман о болезненном влечении к нимфеткам, а не об эстетическом «блаженстве». К таким читателям автор, захваченный прекрасными образами, рожденными из неиссякаемого источника наслаждения, не чувствует ничего — разве что презрение. Frank Kermode. Zemblances // New Statesman. 1962. Vol. 64. November 9. P. 671–672 (перевод В.И. Бернацкой). Лесли А. Фидлер{156} Живучесть Вавилона Подлинно сатирических произведений немного, и потому для писателя, вознамерившегося работать в этом жанре, неплохо, если он может, как Набоков, писать хотя бы на двух языках. Нам неизвестно, было ли у строителей Вавилонской башни в их последние часы время для чтения, но если все же было, то они, осмелюсь предположить, предпочли бы чтение в духе «Бледного огня». Тогда они покинули бы этот мир, смеясь. Большинство сатирических произведений отталкиваются от таких иллюзорных «положительных» ценностей, как эгоизм или вера в социальные реформы, и потому обычно все заканчивается предпочтением одних вещей другим: меня — за счет тебя или их — за счет меня, Америки — за счет Европы. Однако у Набокова две чувственные природы и два мира противостоят друг другу, и конечная цель этого противопоставления — взаимное разрушение. Неудивительно, что название романа взято из «Тимона Афинского», самой мрачной пьесы прославленного англосаксонского нигилиста. Как и в «Тимоне», в «Бледном огне» содержатся нападки не только на человечество, но и на искусство: стиль и язык романа откровенно пародийны, и подобно тому как елизаветинская трагедия высмеивала претенциозность «трагедии мести», роман эпохи Кеннеди проделывает то же самое с собственным жанром. «Бледный огонь» — антироман, замаскированное оружие в непрерывной войне Набокова с этим самым буржуазным литературным жанром. Только вообразите себе книгу, переплетенную и оформленную как роман, которая состоит, однако, из написанной вымышленным поэтом поэмы в тысячу строк с присовокупленными и идущими вразрез с ней предисловием, комментариями и даже указателем, сочиненными тоже вымышленным редактором (этот дополнительный материал растянут более чем на 250 страниц). Причем поэма звучит совершенно по-американски (в ней лишь изредка ощущается неповторимый акцент Набокова), комментарии же явно написаны иностранцем, язык которого лишен идиом — что ясно даже Набокову, для которого английский язык не родной. Вполне уместно, что герой романа, выдающийся американский писатель, похож на Фроста и что погода в поэме все время морозная[142], самого же писателя зовут Джон Шейд[143], что дает возможность каламбурить по этому поводу. Уместно также и то, что эта тысячестрочная поэма иногда кажется пародией (нарочитой? нет?) на Фроста, а иногда — искренней попыткой (удачной? нет?) соперничества. Вырванная из контекста книги, эта поэма действительно похожа на то, чем должна казаться европейскому сознанию поэма Фроста: это заурядная семейная драма, местами берущая за душу, местами оставляющая равнодушным, это непритязательные размышления о смерти человека, для которого мир ограничивается ближайшим семейным окружением, а также флорой и фауной собственного сада. ***Однако поэма, и в этом хочет убедить нас Набоков, в результате превратностей восточноевропейской политики попадает в руки Чарльза Кинбота, самого неприятного из всех педантичных эмигрантов-вегетарианцев с гомосексуальными наклонностями. Он тщетно надеется, что поэма расскажет о его жизни, а когда этого не случается, вознаграждает себя тем, что топит ее в море примечаний, являющихся наполовину комическими свидетельствами его непонимания текста, а наполовину — собственной патетической автобиографией. Несмотря на очевидную ученость, бедняга Кинбот не может даже определить источник названия поэмы: ведь строки, которые у Шекспира звучат, как «луна — нахалка и воровка тоже: свой бледный свет крадет она у солнца»[144], он помнит только в зембланском переводе: «месяц — вор, свой серебряный свет он ворует у солнца». Кинбот не может уразуметь подлинное значение этих строк точно так же, как не понимает тонкости языка, а ведь они выражают его взаимоотношения с поэзией. Кинбот, однако, не просто педант, а жертва большевизма, свергнутый монарх, которого преследует убийца, и потому истинный романтик: у него не укладывается в голове, что талантливый поэт предпочел написать о самоубийстве юной толстушки, а дважды рассказанные им, Кинботом, истории о побегах, преследованиях и смертях королей оставил без внимания. Изгнанный из родной страны, Кинбот направляется в Европу, откуда тщетно обращается с просьбой о сочувствии в Америку, все это подготавливает лебединую песнь поэта. Принести в дар Новому Свету Кинбот может только одно — смерть, и вот от руки неумелого убийцы, который его преследует и о существовании которого Шейд даже не догадывается, погибает не Кинбот, а поэт. Основная тема «Лолиты», «Пнина», также как и «Бледного огня», — невозможность перевода, вечная проблема вавилонского смешения языков; тема, близкая Набокову, который принадлежит двум культурам и в конце концов пришел к тому, что стал переводить самого себя. «Бледный огонь» — своеобразная антология перевода: Шекспира здесь переводят на зембланский и обратно, Гете — на английский, Донна и Марвелла — на французский, но все эти переводы — шуточные, примером может служить преображение раблезианского «le grand peut-etre» в «the Grand Potato». Даже если мы возьмем в качестве ориентира самого Набокова, в котором уживались поэт и педант, неоклассицист и романтик, европеец и американец, взаимное непонимание по-прежнему останется комической (или трагической?) закономерностью. В поэме Шейда есть странное место, где Набоков словно пишет о собственной смерти и о своей раздвоенности: «И кто спасет изгнанника? В мотеле умрет старик… Он задыхается, кляня на двух наречьях туманность, что растет в нем, легкие калеча». Словосочетание «на двух наречьях» Кинбот прокомментировал: «На английском и зембланском, английском и русском, английском и латышском, английском и эстонском, английском и литовском, английском и русском… английском и русском, американском и европейском.» Leslie A.Fiedler. The Persistence of Babel // Guardian. 1962. November 9. P. 14. (перевод В.И. Бернацкой). Найджел Деннис{157} Такую бабочку трудно классифицировать! Великолепный юмор этой абсурдной книги по большей части объясняется сумасбродным стремлением Короля исказить значения слов, стремлением «подкинуть» невинной поэме до нелепости экстравагантное «толкование». И к моменту завершения своего поистине одержимого труда Король создал совершенно иной мир — мир чистой фантазии, переплетающейся с такими элементами, как игра корнями и окончаниями, обрывки датского, отзвуки Пруста, мимолетные впечатления Ниццы, намеки и цитаты из «Гамлета» и пристальные наблюдения за бабочками. «Реальность, — говорит король Чарльз в минуту просветления, — не является ни субъектом, ни объектом искусства, которое создает свою собственную, особую реальность, не имеющую ничего общего с той усредненной „реальностью“, которую воспринимает обычный глаз»[145]. Это замечание совершенно точно описывает созданное Набоковым. «Бледный огонь» насыщен именно такой «особой реальностью» всевозможных абсурдистских вымыслов и фантазий, но эта «особая реальность» выполняет и вполне практическую функцию. Она показывает, как может выглядеть мир, блистательно отраженный в ясном, но полубезумном глазу. Это — отповедь сумасшедшего степенным гражданам, пришедшим поглазеть на него. Это означает, что Набоков не просто старается вдохнуть дуновение зефира в безвоздушную пустоту. Ему знакомы страстные порывы ненависти и восхищения, например ненависть к «серым людям», отправившим его в изгнание, и благородная привязанность ко всему естественному, свободному от запретов и возвышающему дух. Его сумасшедшим и шумным королем владеют все эти страсти. И в этом он служит примером для всех нас. Многое в «Бледном огне» вызывает восторг, не требуя при этом особых разъяснений. Поэма, открывающая роман, — это настоящая поэма, написанная мастерски и проникновенно. Поэт и его практичная, служащая ему как бы прикрытием жена — полнокровные характеры точно так же, как профессора и местные чиновники университетского городка, в котором развертывается действие романа. Удовольствие, доставляемое романом, во многом основывается на констатации, что в нем все и вся абсолютно нормальны, — за исключением подозрительного королевского глаза, день и ночь подглядывающего за всеми через прорехи в занавесе. Совершенно ясно, что этот глаз, несмотря на весь тот заговор, который он обнаруживает, — всего лишь глаз короля-актера. Чарльз II Набокова очень похож на Генриха IV Пиранделло{158}, являющего собой представление сумасшедшего о самом себе. И все же в заключение необходимо отметить, что «Бледный огонь» вряд ли будет пользоваться широкой популярностью. Он слишком переполнен странными словечками, слишком громоздок, и до его смысла очень трудно докапываться. Многим читателям придется не по вкусу сама идея одновременного чтения двух экземпляров, один из которых должен быть раскрыт на поэме, а другой — на комментариях, и необходимость иметь под рукой словарь Чэмберса (карманный Оксфордский здесь не поможет), что способно отбить у них всякую охоту к чтению. Nigel Dennis. It's Hard to Name This Butterfly! // Sunday Telegraph. 1962. 11 November. P. 6. (перевод А. Голова). Энтони Бёрджесс{159} Маскарад Набокова Грязные свиньи, рыскавшие по страницам «Лолиты» в поисках скользких трюфелей и клубнички, были, разумеется, совершенно не способны поднять свои крошечные глазки и рыла в противогазах, чтобы полюбоваться зеленью, цветами и бабочками, делающими этот прелестнейший роман той литературной идиллией, каковой он является на самом деле. Гумберт Гумберт помешался на нимфетках, тогда как Владимир Набоков если на чем и свихнулся, так это на литературе. Его «роман с английским языком» достигает в «Бледном огне» своей кульминации. Джордж Герберт{160} создавал стихотворения в форме крыльев и песочных часов; Набоков же написал роман в форме поэмы, снабженной крыльями в виде предисловия, фаланги комментариев и указателя. Один из самых обворожительных текстов, встречавшихся нам за последние 20 лет, притворяется справочным критическим аппаратом. Какая чудесная шутка, какое редкостное изящество, как все это изысканно, как далеко отстоит от свинарника и вонючего пойла сексуально озабоченных поросят… Некоторые места его сатиры нарочито шумны: Набоков — прежде всего великий юморист. Но самая большая радость в этой книге — радость, которую автор испытывает от манипуляций с языком, от произвольных и капризных искажений традиционных представлений о литературе, от безудержной саморекламы эксцентричного Кинбота и от современной Америки, которая, как любимое пушистое существо со странными повадками, всегда таится на заднем плане набоковских романов. А в заключение нам еще раз напоминают о том, что настоящий художник довольствуется своим собственным искусством и что содержание, в конце концов, так же не имеет никакого отношения к эстетическому опыту, как песчинка — к устрице. Anthony Burgess. Nabokov Masquerad // Yorkshire Post. 1962. November 15. P. 4. (перевод А. Голова). ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» ALEXANDER S. PUSHKIN. EUGENE ONEGIN, translated and with a commentary in 4 volumes by Vladimir Nabokov
Комментированный перевод «Евгения Онегина» — самый масштабный литературоведческий труд В. Набокова, потребовавший от него около десяти лет самоотверженного «кабинетного подвига». В интервью, в «Заметках переводчика», в предисловии к переводу Набоков утверждал, что начал переводить пушкинский роман в стихах в 1950 г.: «Написание книги <…> было вызвано настоятельной необходимостью, возникшей около 1950 г., когда я вел занятия по русской литературе в Корнеллском университете в городе Итака штата Нью-Йорк, а также по причине отсутствия адекватного перевода „Евгения Онегина“ на английский; книга эта росла в часы досуга, с многочисленными перерывами, вызванными требованиями других, более сложных задач, — на протяжении восьми лет (один год я получал финансовую поддержку от фонда Гугенхейма)»[146]; «Этот опус обязан своим рождением замечанию, которое сделала мимоходом моя жена в 1950 г. — в ответ на высказанное мной отвращение к рифмованному переложению „Евгения Онегина“, каждую строчку которого мне приходилось исправлять для моих студентов, — „Почему бы тебе самому не сделать перевод?“»[147]; «Работу над переводом „Онегина“ я начал в 1950 г.»[148]. На самом деле Набоков начал переводить пушкинский роман в стихах гораздо раньше. В 1945 г. им был опубликован перевод трех строф «Евгения Онегина». Год спустя, когда Набоков приступил к занятиям в Уэлслейском колледже, он перевел для своих студентов еще несколько строф. «Он говорил нам, — вспоминает одна из бывших студенток Набокова Ханна Грин, — что произносит „Евгений Онегин“ скрупулезно по правилам английского языка как „Юджин Уан Джин“ (что означает: „Юджин, один стакан джина“). Он медленно и тщательно анализировал перевод „Юджина Уан Джина“, помещенный в нашей хрестоматии, и поправлял переводчика, давая нам верный перевод некоторых строчек. Мы записывали эти строчки в книге карандашом. Так он велел нам. Он говорил, что из всех русских писателей Пушкин больше всего теряет в переводе. Он говорил о „звонкой музыке“ пушкинских стихов, о чудесном их ритме, о том, что „самые старые, затертые эпитеты снова обретают свежесть в стихах Пушкина“, которые „бьют ключом и сверкают в темноте“»[149]. К концу сороковых годов Набоков окончательно созрел для того, чтобы взяться за перевод «Евгения Онегина». В августе 1948 г. в одном из набоковских писем Эдмунду Уилсону (в соавторстве с которым Набоков перевел «Моцарта и Сальери») как бы невзначай предлагалось: «А почему бы нам вместе не сделать прозаический перевод „Евгения Онегина“, снабдив его обширными примечаниями?»[150]. За осуществление этого плана Набоков берется в 1949 г., параллельно ведя в Корнелле пушкинский семинар. Едва ли он мог предположить, что работа над переводом и комментированием «Евгения Онегина» растянется более чем на десятилетие и его пушкиноведческие исследования войдут «в ту блаженную стадию, когда поиски перерастают заданную цель и когда начинает формироваться новый организм, как бы паразит на созревающем плоде». На протяжении пятидесятых годов в письмах Эдмунду Уилсону и своей сестре Елене Набоков периодически объявлял о том, что вот-вот закончит своего «чудовищного Пушкина». Составление комментария было в основном закончено к 1957 г., а вот перевод романа в стихах переделывался вплоть до сдачи манускрипта в печать. Последняя, шестая или седьмая, ревизия была проведена Набоковым в январе 1963 г.[151] — почти перед самой отправкой текста в типографию. Подобная дотошность и взыскательность в конце концов сыграли с Набоковым злую шутку. В то время как он отшлифовывал свой «дотошный подстрочник», во имя «идеального представления о буквализме» отказываясь от «изящества, благозвучия, ясности, хорошего вкуса, современного словоупотребления и даже грамматики», в 1963 г. Уолтер Арндт преспокойно опубликовал стихотворный перевод пушкинского шедевра, не жертвуя ни рифмами, ни благозвучием, ни даже грамматикой. Мало этого — арндтовский перевод встретил теплый прием в англоязычной прессе и получил Болингеновскую премию. Потеряв всякую осторожность, Набоков — буквально накануне выхода собственной книги — разразился резкой критикой по адресу удачливого конкурента, вольно или невольно создавая вокруг своего «честного, неуклюжего, тяжеловесного и рабски верного» перевода волнующую и бодрящую атмосферу скандала. Пожалуй, ни один художественный перевод не вызвал столько споров и кривотолков, как набоковский «Онегин». Сугубо академическое литературное предприятие — очередной перевод произведения русского классика — стало предметом жарких критических баталий, равных которым по размаху в англоязычной печати не было со времен полемики между Ф.Р. Ливисом и Ч. Сноу о технических и гуманитарных науках. Ожесточенность критических нападок была предопределена не только колким антиарндтовским выпадом Набокова, но и теми пренебрежительными оценками, которыми он удостоил всех своих предшественников: переводчиков, исследователей и комментаторов «Евгения Онегина». «Резко полемический тон Набокова по отношению к другим переводчикам Пушкина и небрежно высокомерное отношение к советским пушкиноведам» (Морис Фридберг <см.>) покоробили большинство рецензентов. Правда, некоторые из них, например Кристофер Рикс <см.>, простили автору его «чудачества и мстительные выпады», поскольку те «не потеснили главного»: информативной насыщенности комментария и абсолютной смысловой точности перевода. «Лучший из когда-либо писавшихся комментариев к поэме и, вероятно, лучший ее перевод» — так оценил набоковский труд Джон Бейли, оправдавший прозаическую форму перевода тем, что «„Евгения Онегина“ часто опошляли стихами, но никогда ими не переводили» (Bayley J. Nabokov's Pushkin // Observer 1964. 29 November. P. 26). Благожелательнейшей рецензией анонимного автора одарил Набокова журнал «Тайм». Примечательно, что именно ее оперативно перевели и напечатали в советском еженедельнике «За рубежом» — неожиданный поступок для руководства издания, выходящего под эгидой Союза журналистов СССР и издательства ЦК КПСС: «Американское издательство „Пантеон“ выпустило „Евгения Онегина“ в переводе и с комментариями Владимира Набокова в 4-х томах. До сих пор американец, не знающий русского языка, мог только вежливо соглашаться, когда ему говорили, что „Евгений Онегин“ — гениальное произведение. Владимир Набоков, ученый, поэт, литератор, пишущий изысканной английской прозой, познакомил с „Евгением Онегиным“ людей, не знающих русского языка, но так, что они могут судить о достоинствах этой поэмы. <…> При переводе „Онегина“ Набоков использовал нечто среднее между прозой и стихами (он сохранил пушкинский ямб). Если можно так сказать, перевод и оригинал находятся в двоюродном родстве. Конечно, русскому человеку, воспитанному на пушкинских стихах, перевод Набокова может показаться немузыкальным, но в нем есть ритм и мелодия — в отличие от других переводов. Набоков не пытается имитировать напев пушкинского стиха. Что же касается содержания, то оно передано настолько полно, насколько это возможно в переводе» (За рубежом. 1964. 19 сентября (№ 38). С. 30–31). Абсолютная точность перевода признавалась даже теми критиками, кто, «имея в виду крайне резкие наскоки Набокова на предыдущих переводчиков „Онегина“» (Роберт Конквест <см.>), дали себе полную волю и обрушили на Набокова шквал саркастических замечаний и придирок. Больше всего пострадал прозаический перевод, вернее — положенный в его основу буквалистский метод, которого упрямо придерживался Набоков. По справедливому замечанию Александра Гершенкрона <см.>, в своей обстоятельной рецензии давшего наиболее глубокий анализ набоковского творения, «эстетическая истина далеко не ограничивается точной передачей смысла; <…> „истина буквализма“ в лучшем случае имеет отношение лишь к одной стороне такого бесконечно сложного явления, каким является произведение поэтического искусства». Согласившись с тем, что «Набоков демонстрирует глубочайшее понимание текста оригинала», а его перевод «в известном смысле — настолько точный, насколько можно вообразить», Гершенкрон, как и многие другие рецензенты, без всякого снисхождения выявил многочисленные случаи, когда одержимость Набокова идеей буквализма приводила его к «гнетущим провалам»: безвкусной архаизации языка, разрушению (по причине полного отказа от рифм) уникальной онегинской строфы, прозаическому обесцвечиванию той самой «звонкой музыки» пушкинских стихов, о которой Набоков так увлекательно вещал американским студентам. Язык набоковского перевода, без меры щедро уснащенный архаизмами и неудобоваримыми диалектными выражениями, вызвал особое раздражение у рецензентов, оставив впечатление, что «его создатель — иностранец, не владеющий английским в должном совершенстве, поднаторевший разве что в экстравагантной малоупотребительной лексике» (Роберт Конквест <см.>). С наиболее резкой и бескомпромиссной критикой в адрес Набокова выступил его давний друг и покровитель Эдмунд Уилсон <см.>. Из всех ударов, обрушившихся на Набокова, его критический опус оказался самым болезненным. Не то что уж он превосходил все другие отрицательные отклики резкостью суждений и беспощадностью оценок… Внезапность, вот что, пожалуй, больше всего поразило Набокова, ведь незадолго до появления «Странной истории с Пушкиным и Набоковым» Уилсон гостил у него в Швейцарии и, коварный, ни словом не обмолвился о готовящемся сюрпризе. (Хотя, если вдуматься хорошенько, то, что «дорогой Братец Кролик» — так ласково-фамильярно Набоков именовал своего друга в некоторых письмах — показал волчьи зубы, было не так уж неожиданно: отношения с ним дали трещину уже в эпоху «L'affaire Lolita», жаркие дебаты о русской просодии и творчестве Пушкина были лейтмотивом набоковско-уилсоновской переписки сороковых — пятидесятых годов, да и при встречах, когда Набоков зачитывал «дорогому Банни» отрывки готовящегося перевода и комментария, тот со свойственной ему прямотой (нет бы вежливо похвалить!) то и дело затевал спор. Недаром же, когда представители Болингеновского фонда, спонсировавшего издание перевода, высказали пожелание, чтобы о только что вышедшем «Онегине» рецензию написал именно Уилсон, Набоков резко этому воспротивился, отписав из Швейцарии: «Как я уже упоминал раньше, его [Уилсона] русский — примитивен, а представление о русской литературе поверхностно и нелепо»[152].) Сразу же по прочтении уилсоновского опуса раздосадованный Набоков (неоднократно объявлявший о полнейшем равнодушии к любой критике в свой адрес) послал в редакцию «Нью-Йорк ревью оф букс» следующую каблограмму: «Пожалуйста, оставьте в следующем номере место для моих громыханий». Место для «громыханий» Набокова, язвительно уличавшего Уилсона в слабом знании русского языка, было предоставлено (NYRB. 1965. 17 August. P. 25–26) — рядом с ответным письмом «Братца Кролика», каявшегося в некоторых языковых ошибках, но горячо отстаивавшего основные положения своей статьи. Тут же были помещены письма других критиков и литературоведов, пожелавших вмешаться в схватку гигантов. Одни, как, например, Дэвид Мэгаршак, целиком и полностью поддержали Уилсона, заявив, что некомпетентность Набокова-переводчика превратила великое произведение в гротескную пародию (Ibid. Р. 26); другие (в частности, литературовед Эрнст Дж. Саймонс) превозносили Набокова до небес и утверждали, что его перевод наиболее адекватен пушкинскому шедевру (Ibid. P. 26–27). Кстати, тот же Саймонс годом раньше сочувственно отозвался о набоковском «Онегине», одним из первых указав на композиционную и тематическую связь между ним и «Бледным огнем»: «Набоков работал над переводом „Евгения Онегина“ с 1950 года, и его затянувшаяся битва породила ожидания, что это будет magnum opus[153]. Теперь, когда книга появилась, ее спорные моменты и полный отказ от рифм могут кого-то разочаровать. Но во всех формальных отношениях это великолепное достижение — непревзойденный перевод и комментарий пушкинской поэмы. Действительно, по точности перевода на английский с ним нечего сравнивать, точно так же и комментарий превосходит все, что есть на русском. Вполне очевидно, Набоков <…> не считает английскую прозу настолько точной и всемогущей, чтобы передать рифмованные стихи. То, что мы имеем в его версии „Евгения Онегина“, — это особого рода компромисс между стихом и прозой. Строфа, состоящая из 14 стихов, остается, но все остальные формальные элементы, спасая ямбический размер, приносятся в жертву полноте смысла <…>. Если читатель знает оригинал, данный перевод поначалу кажется разочаровывающим. Без своих памятных рифмованных строк поэма, в том виде, в каком ее передает Набоков, теряет свои краски. На ум приходит афоризм Роберта Фроста: поэзия — это то, что пропадает при переводе. Но по мере дальнейшего продвижения, от одной главы к другой, память о рифме приглушается каденциями привычного ямбического размера. В конечном счете бесспорная поэзия освобождается от словесной тяжести и искажений значения, столь частых в стихотворных переводах „Евгения Онегина“. Передается сам дух оригинала (фраза, которую Набоков ненавидит). Набоков по-особенному относится к музыке и тайне пушкинского стиха — так же как и к его концепции самоценного искусства» (Simmons E.J. A Nabokov Guide Through the World of Alexander Pushkin // NYTBR. 1967. June 28. P. 4). He менее высоко Саймонc оценил и грандиозный набоковский комментарий, оправдав и переизбыток содержащейся там информации, и многочисленные авторские отступления, порой чересчур далеко уводящие читателей от произведения Пушкина: «Кто-то может посетовать на безмерно-обширное половодье фактов и окажется прав, но за этим стоит определенная цель. Нелепое заявление критика Виссариона Белинского, что „Евгений Онегин“ — это энциклопедия русской жизни, после набоковского комментария не выглядит таким уж абсурдным. Кажется, что очаровательные пушкинские отступления, с помощью которых так искусно удается освещать развитие действия и характеры, вдохновили и автора комментария на подобные же отступления» (Ibid. P. 5). В то же время даже благожелательный Саймонc предположил, что «порой набоковская дотошность по отношению к деталям выглядит как пародия на филологов» (Ibid.). Точно такая же мысль возникла и у Рональда Хингли, заподозрившего Набокова в том, что некоторые фрагменты его комментария «были сознательно задуманы как изощренная шутка» (Hingley R. // Spectator. 1965. 1 January. P. 19). В доходящем до абсурда педантизме обвинял Набокова-комментатора и Эдмунд Уилсон <см.>, яростная полемика с которым перекинулась на страницы английского журнала «Энкаунтер». В феврале 1966 г. Набоков опубликовал там статью «Ответ Набокова», в которой отбивал наскоки оппонентов и упрямо защищал принципы буквального перевода (Nabokov V. Nabokov's Reply // Encounter. 1966. Vol. 26. February. P. 80–89). В апреле Уилсон контратаковал Набокова, вновь и вновь уличая его в полнейшей некомпетентности как переводчика. В майском номере в поддержку Уилсона выступил американский поэт и переводчик Роберт Лоуэлл. Признавшись, что не знает русский язык и не читал «Онегина» в оригинале, он нашел набоковский перевод странным и сверхъестественно эксцентричным, выглядящим наполовину намеренной пародией. «И здравый смысл, и интуиция, — восклицал Лоуэлл, — говорят о том, что Эдмунд Уилсон на девяносто процентов неопровержим и совершенно прав в своей критике Набокова» (Encounter. 1966. May. P. 91). В определенной мере запальчивое выступление Лоуэлла было нейтрализовано опубликованным здесь же саркастическим письмом Набокова: «Арифметика г-на Лоуэлла, основанная на интуиции (но едва ли на здравом смысле), мало меня волнует, поскольку он не знает пушкинского языка и не подготовлен к тому, чтобы иметь дело с весьма специфическими проблемами перевода, которые обсуждаются в моей статье. Но хорошо было бы (как здесь принято выражаться), чтобы он перестал терзать беззащитных мертвых поэтов — Мандельштама, Рембо и других» (Ibid.). На этом полемика, разумеется, не завершилась. И в письмах, и в интервью, и даже в художественных произведениях (например, в «Аде», где фигурируют нерадивый переводчик Лоуден — Лоу[элл] + [О]ден — и с иронией упоминается славист Гершчижевский — Герш[енкрон] + Чижевский) Набоков продолжал громить своих оппонентов — в первую очередь Уилсона, «имевшего наглость» оспорить его понимание «Евгения Онегина» (стоит ли говорить, что после «L'affaire Onegin» дружба с «дорогим Банни» сошла на нет). Однако, сколько бы Набоков ни изливал желчь по поводу «напыщенных остолопов», отыскивающих промахи в его переводе и при этом обнаруживающих «собственное фарсовое невежество по части русского языка и литературы», при подготовке второго издания комментированного «Онегина», которая началась уже осенью 1966 г. (книга вышла в год смерти писателя), он учел-таки многие критические замечания «остолопов». Таким образом, жаркие газетно-журнальные баталии не только изрядно потрепали нервы нашему герою, но и дали положительные результаты. Главным из них следует считать, конечно же, не частные исправления, внесенные Набоковым в перевод и комментарий, а утверждение (пусть и скандальное) его репутации в университетском и литературоведческом мире, где по поводу выполненного им «абсолютно буквального перевода» до сих пор не умолкают споры. И как бы ни оценивать «честную придорожную прозу», в которую Набоков превратил певучий стих «Евгения Онегина», несомненно то, что монументальный тысячестраничный комментарий стал одним из немногих литературоведческих «вечных спутников» «Онегина», конгениальных пушкинскому шедевру. Морис Фридберг{161} «Евгений Онегин» в переводе Набокова <…> Почти одновременно в Америке появились два перевода «Евгения Онегина». Причем оба издания получили поддержку одного и того же учреждения — Болингеновского фонда, который субсидирует издания по литературе и искусству, включая и художественные переводы. Ежегодная премия Болингеновского фонда за лучший литературный перевод была присуждена Уолтеру Арндту, филологу и профессору университета штата Северной Каролины. Интересно, что Арндт — уроженец Германии, и ни язык подлинника, ни язык перевода не являются его родным языком. И все же Арндт перевел «Онегина» стихами, да еще четырехстопным ямбом, и сумел даже воспроизвести знаменитую структуру онегинской строфы. Перевод Арндта вышел массовым тиражом в дешевом издании. Книга заслужила хорошие отзывы в педагогических журналах и, несомненно, будет читаться студентами английских и американских вузов. А несколько месяцев спустя появился еще один перевод «Евгения Онегина». На этот раз переводчик — известный писатель Владимир Набоков-Сирин, автор многих книг на русском и английском языках. Перевод Набокова издан тем же Болингеновским фондом, который присудил премию профессору Арндту. По внешнему виду издания переводов Арндта и Набокова совершенно разные. Перевод Набокова — это роскошное четырехтомное издание; цена его очень высокая — 18 дол. 50 ц. Это, конечно, не по карману рядовому читателю или студенту. Это — издание скорее для подарка. Что же представляет собой набоковский перевод «Евгения Онегина»? В предисловии к изданию Набоков пишет: «Мой идеал — дословность. Ему я принес в жертву красивость, благозвучие, ясность, вкус, современное употребление языка и даже грамматику». Набоков строго следует этому правилу. Его перевод действительно дословен и с предельной точностью передает содержание пушкинского романа в стихах. Но его перевод — проза с наличием ритма, но без какой бы то ни было рифмы, не говоря уже об онегинской строфе. В результате читатель узнает точно, что сказала Ольга Ленскому, что написала Татьяна Евгению — но отнюдь не как. Конечно, таким переводом не убедишь английского читателя в художественных достоинствах поэмы. Такой перевод, бесспорно, представляет собою некоторую научную ценность, но это скорее материал для будущего перевода «Евгения Онегина», а не законченный перевод. Набоковский перевод интересен, но он не увлекает и не захватывает читателя. А ведь это и составляет прелесть «Евгения Онегина». Ведь само по себе содержание произведения не так уж важно. Не оно владеет вниманием читателя. А так получается что-то напоминающее пародию Козьмы Пруткова: «Ты меня любила — я тебя любил». Кстати, Набоков уделяет мало внимания тому факту, что русский язык изменился гораздо меньше за последние 140 лет, чем английский. В результате «дословный» перевод Пушкина по-английски звучит архаически, в то время как современный русский читатель воспринимает язык Пушкина сравнительно легко: он не настолько уж отличается от современного русского языка. Несмотря на четыре тома набоковского перевода «Евгения Онегина», перевод нельзя назвать ни «научным», ни «академическим». Переводчик почему-то, например, решил не пользоваться русским шрифтом в сносках к тексту подлинника. В результате длинные русские цитаты напечатаны в латинской транслитерации. Кстати, научно не обоснованной — что приводит к крайней неудобочитаемости издания. Непонятно, какими соображениями руководился переводчик: вряд ли найдутся читатели, знающие русский язык, но не знающие русской азбуки! Серьезным недостатком издания надо считать и то, что Набоков, работая за границей, не имел доступа к пушкинским рукописям, хранящимся в архивах и библиотеках Советского Союза. Крайне неприятное впечатление производит резко полемический тон Набокова по отношению к другим переводчикам Пушкина и небрежно-высокомерное отношение к советским пушкиноведам, чьими достижениями, несмотря на исключительно трудные условия работы, вправе гордиться мировая наука. Об этом, кстати, подробно писал несколько лет тому назад в изданной в Нью-Йорке книге бывший член редакционного комитета академического издания Полного собрания сочинений Пушкина Людвиг Домгер, после войны оставшийся на Западе. Читая комментарии Набокова, создается впечатление, что до него никто серьезно не изучал «Евгения Онегина», что не было таких пушкиноведов, как Модзалевский, Томашевский, Бонди, Щеголев, Гофман и многие другие. Издание включает фоторепродукцию последнего при жизни Пушкина изданного «Евгения Онегина» в январе 1837 года — несколько небольших статей (включая интересное исследование биографии предка Поэта Абрама Ганнибала, знаменитого «арапа Петра Великого», и хороший общий обзор русской поэтики в целом и поэтической структуры «Евгения Онегина» в частности). Эти статьи, и особенно примечания, в которых сказывается большая эрудиция Набокова в области западноевропейской литературы, и составляют главную ценность издания. Они занимают около 600 страниц, в них много нового и интересного, хотя зачастую и спорного. Набоков известен также как переводчик других произведений русской литературы. Так, ему принадлежат лучшие английские переводы «Слова о полку Игореве» и «Героя нашего времени». Но, увы, его перевод «Евгения Онегина» нельзя считать удачным, хотя, как мы уже сказали, комментарии и примечания содержат много интересного материала и метких наблюдений. В предисловии Набоков говорит, что его перевод предназначается не для ученых, не для специалистов, а для студентов, не владеющих русским языком. Если эти студенты, заявляет Набоков, будут пользоваться его переводом в качестве шпаргалки, он будет доволен. Что ж, и шпаргалка, как известно, для любого студента — дело полезное, хотя и нелегальное. Но много ли пользы от четырехтомной шпаргалки, к тому же стоящей 18 долларов? Новый журнал. 1964. № 77. С. 297–300. Кристофер Рикс{162} Набоковский Пушкин Комментарий Набокова к замечательному «роману в стихах» Пушкина словно явился из прошлого века. Полный неожиданностей, демонстрирующий редкую самоуверенность и сокрушительную эрудицию — и почти такое же прямодушие, как «Тристрам Шенди», — он тем не менее блестяще написан и читается с неослабевающим интересом. Всякому, кто редактирует что бы то ни было, не помешало бы заглянуть в набоковский указатель — этот человек действительно настоящий кладезь знаний о жизни и литературе пушкинской эпохи. К счастью, поддержка фонда Болингена дала возможность издать труд столь объемный, что он вместил в себя набоковские чудачества и мстительные выпады, не потеснив главного. Варианты текстов достойны восхищения; предисловие замысловато, но доступно пониманию; а в последнем томе воспроизводится русский текст. 100-страничное Приложение о просодии вдыхает жизнь в мертвый предмет и, на мой взгляд, делает важный новый шаг в ее развитии своими толкованиями и примерами из английских поэтов (очень удачно подобранными). Комментарий содержит массу сведений о поэтическом языке классицизма и романтизма. О дуэльном кодексе, о вкусе трюфелей, о псише Красавчика Бруммеля, о вере предсказателя в то, что человек не может не написать даты своей будущей смерти почерком, несколько отличным от того, каким пишет всякую иную дату, — суждения Набокова о всяческих подобных вещах восхитительны и авторитетны. Куда менее благоприятное впечатление производят его нападки на собратьев по перу и частые остроумные колкости, которых всегда ждешь от Набокова. Сервантес, Джордж Элиот, Манн, Фолкнер — способен ли даже Набоков с его убийственным сарказмом в трех строчках уничтожить эту четверку? Одно из примечаний отсылает нас к «Федору Достоевскому, сильно переоцененному сентиментальному романисту, писавшему в готическом духе». Тон его лучших примечаний, так же как и худших, — это тон терпеливого патрицианского спокойствия. Дуэль, окончившаяся трагически для Пушкина, была ускорена оскорбительным письмом поэта Геккерену, в котором голландский посланник обвинялся в том, что «по-отечески сводничал своему незаконнорожденному сыну», — при этом проявляется старомодная деликатность Набокова: «Последний эпитет представляется оскорблением абсолютно необоснованным, ибо Геккерен был закоренелым гомосексуалистом, о чем наш поэт прекрасно знал». Однако же это спокойствие легко может превратиться в надменное бездушие, которое так портит рассказ Набокова, как, например, в примечании о дуэли, где Шереметеву прострелили грудь: «В яростной агонии бедняга метался и бился в снегу, словно огромная рыбина». Мыслимо ли даже Набокову быть столь отстраненным. Поразительно, что один и тот же человек способен проявить подобное самодовольное бесчувствие и вместе с тем так проникновенно перевести великолепную сцену, где Онегин убивает на дуэли своего друга Ленского. Но все же у Комментария есть одно выдающееся достоинство — то очевидное внимание, которое Набоков уделяет всем оттенкам смысла каждого слова своего перевода. «Agrestic» кажется излишне манерным по сравнению с «rustic»? Набоков тут же поясняет почему. «Juventude» не подходит в качестве «вечной рифмы» к «dulcitude», потому что «„dulcitude — juventude“ никогда не пользовались в английской поэзии такой популярностью, как „сладость — младость“»? Что ж, пожалуй, и Набоков в своем примечании не пытается этого отрицать, но смиренно признается, что в данном случае небезупречен. Лишь в редких случаях можно утверждать, что английский эквивалент звучит не столь естественно, как русский оригинал. «Mollitude», например, слово излишне напыщенное, а употребление «apparition» вместо «appearing» в данном случае («Onegin's apparition at the Larins'») не убедительно. Тем не менее в целом Комментарий заслуживает доверия читателя — Набоков знает, что делает. Превосходно использование им таких архаизмов, как «moveless» и «stirless». Инверсии тяжеловесны? Да, он и в самом деле «смело вводит инверсии и устаревшие слова» во имя своего «идеального представления о буквализме». Однако начитанный англичанин во многих случаях назовет эти инверсии весьма сомнительными: «Eight rubbers have already played whist's heroes»; «him who has felt disturbs the ghost of irrecoverable days» (особенно когда за «disturbs» следует перенос строки). Это неизбежные изъяны перевода — но они хотя бы вызваны не невежеством или небрежностью переводчика. Набоков безжалостно издевается над погрешностями, допущенными его предшественниками по переводу и комментарию «Онегина». Среди упоминаемых Набоковым «четырех „английских“, „стихотворных“ „переводов“… к сожалению, доступных студентам» — перевод, осуществленный Бабеттой Дейч, который теперь издан и в «пингвиновской» серии классики. В великолепном описании сна Татьяны косматый медведь несет ее… and straight he goes into the hallway Так переводит строки: «И в сени прямо он идет, / И на порог ее кладет» Набоков. Мисс Дейч в своей версии предлагает нечто совсем иное: And doing with her as he will, Набоков — и это, возможно, неожиданность для читателя — оказывается значительно интересней, когда просто рассказывает историю любви, несомненно одну из лучших по своему юмору и накалу страсти. Он решил совершенно отказаться от попытки воспроизвести сложную форму онегинской строфы, а верней, вообще от всех элементов формы. Каждая стихотворная строка у него той длины, какой требует передача буквального ее смысла, и оформлена лишь вольным ямбическим размером. Должно быть, у Набокова было сильное искушение восполнить то, чем ему пришлось пожертвовать, привнеся дополнительное изящество и благозвучие, но, кажется, он отказался от этого. Полагаю, он удостоил бы похвалы труд Бирбома «Стародавних дней муж, или Георгики, переложенные без прикрас, но со всею тщательностию» — при условии, что тот действительно полно передал бы смысл оригинала. Что восхищает в переводе Набокова, так это мастерство звукописи, богатство изысканных и выразительных аллитераций и ассонансов. В его примечаниях мы находим очень яркие примеры подобной изумительной инструментовки (у Драйдена и Вордсворта, как и у Пушкина). Возьмем для сравнения перевод мисс Дейч (строки о Ленском: «Он пел разлуку и печаль…»): Не sang of parting and repining: Ее внутренние рифмы соответствуют не столько трепетному и чувствительному, сколько порывистому и нервному персонажу. A «romantic flower» («романтический цветок») лишен дыхания жизни. А вот как переводит те же строки Набоков: Не sang parting and sadness, «Remoteness» (слово, которым Набоков передает «туманну даль») перекликается с «sadness» («печаль») и плавно подводит к «romantic roses» («романтическим розам»). Да, как показывает этот отрывок, Набоков — необычайно тонкий стилист, и он всегда на высоте, когда требуется подобная утонченность. Лучшие места в его переводе — это великолепные картины зимы, где описания мороза, льда и снега сами по себе образец изысканности. Холодное мастерство — в чем иногда можно упрекнуть Набокова — здесь как нельзя к месту. Christopher Ricks. Nabokov's Pushkin //New Statesman. 1964. Vol 67. December 25. P. 995 (перевод В. Минушина). Роберт Конквест{163} Набоковский «Евгений Онегин» Это четырехтомное переложение одной из самых пленительных поэм в мире содержит много такого, что заинтересует главным образом пушкиниста. Серьезные и проницательные «Заметки о просодии», составляющие Приложение II, стоят того, чтобы их прочитала более широкая аудитория, — хотя бы уже потому, что сегодня существует множество опусов, рассматривающих все свойства поэзии, кроме одного, благодаря которому мы безошибочно отличаем поэзию от прозы, с ее собственной техникой и ритмикой. (Было бы неплохо, если бы Набоков сопроводил «Заметки» строками 30–38 своего стихотворения «Вечер русской поэзии».) Обширный Комментарий, занимающий половину этого объемного труда, тоже полон неожиданных догадок, например, относительно «афористического стиля, который был несомненной уступкой Пушкина восемнадцатому веку». Но в то же время Комментарий то и дело превращается в какое-то родео на деревянных лошадках. Набоков осмеивает Вергилия, батлеровского «Гудибраса»{164}, Свифта{165}, Шеридана{166}, Беранже{167}. Он считает «Горести сна» Колриджа великим произведением. Отвергает старую орфографию. Глумится над другими переводами «Онегина». Все это эксцентрично, но, по крайней мере, выражает личную точку зрения. Как в случае Айвора Уинтерса, отдающего предпочтение Бриджесу{168} перед Хопкинсом, такая позиция, согласны мы с ней или нет, должна вызывать большее уважение, нежели тысячный пример бездумного следования существующему и, возможно, преходящему общепринятому мнению. Между тем, имея в виду крайне резкие наскоки Набокова на предыдущих переводчиков «Онегина», можем мимоходом заметить, что ему самому вряд ли стоит ожидать чрезмерной сдержанности от враждебно настроенной критики. В век «воссозданий» — произведений-паразитов, питающихся крохами от жизненной силы великих творений, — приятно обнаружить, что Набоков определяет истинный перевод как «передачу точного контекстуального значения оригинала, столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности другого языка». Он добавляет, что даже в идеальном случае перевод таких рифмованных стихов, как «Евгений Онегин», с сохранением рифмы и при идеальном построчном соответствии невозможен. Но тут начинаются сложности. Конечно, многое говорит в пользу точного прозаического перевода. Однако, теряя стихотворную форму, мы теряем и нечто действительно очень важное — особенно у Пушкина, очарование поэзии которого, как по-своему и поэзии Расина, во многом зависит от исключительно бережного обращения с тем, что при аналитическом подходе превращается в банальную прозу и стилизованный бутафорский реквизит. Но коли нам предлагают перевод в прозе, пусть будет так. К сожалению, Набоков не идет до конца. Он считает, что кое-что можно сохранить, и это кое-что — ямбический размер. Это выглядит бессмысленным, поскольку в результате он получил совершенно иные форму и стиль — разностопный, от четырех до двенадцати и больше стоп, белый стих. Более того, он сохранил единственный элемент «поэтической формы» — и как раз тот, который лишь естественным образом ведет к чрезвычайно строгой стихотворной структуре и даже к тому, что требует осторожного обращения, — к инверсии. В результате мы имеем подобные пассажи (прекрасный пример «отказа… во имя буквализма… от грамматики»): Having decided to detest Фактически подобный подход придает переводу неуклюжесть и вялость. И это печально, поскольку его же, Набокова, попытки использовать ритмизованный парафраз довольно удачны. Но есть у набоковского перевода и более существенный изъян — это его никуда не годный словарный состав. В своем Комментарии Набоков замечательно говорит о двойной ошибке «урезания или расширения содержания». Сам он не смог избежать искушения, и вот мы читаем, например, «peaceful sites» вместо простого «peaceful places» для пушкинского «мирные места» и прочее в том же роде. Хуже того, подобная тенденция ведет к щедрому уснащению текста излишне высокопарными или устаревшими словами. Набоков почти постоянно прибегает к ним при переводе вполне обычных мест русского оригинала, так что невольно вспоминается У.X. Оден и его жалоба на Англо-исландский словарь, где «полным-полно несуществующих слов». И действительно, некоторых из употребляемых Набоковым слов точно не существует (даже в огромном Оксфордском словаре их нет), другие отмечены как «устаревшие, шотландского главным образом происхождения» или упоминаются только в Оксфордском кладбище слов и даже не включены в донельзя снисходительный «Краткий» Оксфордский словарь. Но и те, что туда включены, в большинстве случаев можно отнести к «ancientry» (еще одно набоковское словечко, означающее «древность, седую старину») — вроде той «блаженной чепухи», из-за которой пресловутые стихи Хогга{169} вызывают такой смех. Можно привести еще множество примеров использования Набоковым экзотических и неподходящих жаргонных слов, в том числе и таких, которые впервые попали в Оксфордский словарь еще в 1872 году. Жаль, что приходится резко критиковать всякую попытку представить нам Пушкина. В переводе Набокова есть большие куски без упомянутых огрехов. Тем не менее в целом это перевод не столько на английский язык, сколько на набоковский. Он оставляет впечатление, что его создатель — иностранец, не владеющий английским в должном совершенстве, поднаторевший разве что в экстравагантной малоупотребительной лексике. Подойди Набоков к своему делу строже, он мог бы подарить нам добротный, без лишних прикрас прозаический перевод — и даже прекрасный поэтический, хотя последнее требует тяжелого труда. А так читатель, не владеющий русским, возможно, найдет, что то или иное из презираемых стихотворных переложений «Онегина» (предпочтительней сделанные Элтоном) все-таки приемлемей, невзирая на все недостатки, на которые справедливо указывает Набоков. Robert Conquest. Nabokov's «Eugene Onegin» // Poetry. 1965. Vol. 106. June. P. 263–268. (перевод В. Минушина). Эдмунд Уилсон Странная история с Пушкиным и Набоковым Издание это, в некоторых отношениях замечательное, все же несколько разочаровывает; и я, хотя господин Набоков мой хороший друг (к которому я питаю теплые чувства, сменяющиеся порой раздражением) и многое в его творчестве вызывает мое восхищение, не намерен скрывать своего разочарования. Поскольку г-н Набоков имеет обыкновение предварять всякую свою публикацию подобного рода заявлением, что он бесподобен и неповторим и что любой обращавшийся к тому же предмету — глупец и невежда, некомпетентен как лингвист и ученый, намекая, как правило, на то, что автор вообще личность жалкая и смешная, Набокову не стоит жаловаться, если я, стараясь, правда, не подражать его дурным литературным манерам, не колеблясь укажу на его слабости. До опубликования собственного перевода «Евгения Онегина», г-н Набоков на страницах этого же издания напечатал обширную статью с разносной критикой перевода профессора Уолтера Арндта. В этой статье — которую можно сравнить разве что со статьей Маркса, полной мелочных придирок к некоему автору, опрометчиво взявшемуся писать об экономике, имея взгляды, отличные от взглядов Маркса, — в этой статье Арндту особенно досталось за его германизмы и прочие погрешности против стиля, причем его критик явно не сознавал, насколько он сам уязвим в этом отношении. Профессор Арндт приложил огромные усилия, чтобы перевести всего «Онегина» четырехстопным ямбом, соблюдая довольно сложную строфическую форму оригинала. Господин Набоков решил, что невозможно воспроизвести форму, оставаясь действительно верным смыслу текста, и предложил «буквальный» перевод, который сохраняет ямбическую основу, но довольно часто попросту переходит на прозу. Результат подобного подхода оказался плачевней того, чего достиг Арндт в своей героической попытке, — на свет появился серый и неуклюжий язык, ничего общего не имеющий с языком Пушкина и самого Набокова, каким мы его знаем. Набоков известен виртуозностью в обращении с английским и своими очаровательными и остроумными неологизмами. Но он также известен и порочным пристрастием к словесным выкрутасам, шокирующим или раздражающим читателя; и похоже, что в данном случае это пристрастие послужило удавкой для его блистательного языка и что он — с садо-мазохистским упорством в духе Достоевского, которое столь проницательно подметил в нем Сартр, — старается подвергать мучениям и читателя, и самого себя, выхолащивая Пушкина и не позволяя собственному таланту развернуться во всю мощь. Кроме желания страдать самому и заставлять страдать других — что является столь важной темой его прозы — единственная бросающаяся в глаза характерная особенность перевода, исполненного Набоковым, — это тяга к употреблению редких и незнакомых слов, которая в свете декларируемого им стремления следовать столь близко к тексту оригинала, чтобы его перевод мог послужить подсказкой для студента, совершенно неуместна. Студенту легче будет доискаться до смысла русского слова, чем лезть в большой Оксфордский словарь, чтобы найти слово английское, которое он никогда не встречал и использовать которое ему никогда не придется. Никак нельзя считать настоящим переводом то, что делает автор, навязывая читателю подобные слова вместо того, чтобы пользоваться идиоматическим и узнаваемым английским. Эти отклонения у Набокова куда серьезней, чем все несуразности, что я нашел у Арндта. Он использует слова, которые можно отыскать в Оксфордском словаре, но они все до единого существуют не в живом языке, а только в словаре и, как правило, сопровождены пометкой «диалектизм», «устаревшее», «вышедшее из употребления» <…> Встречаются в переводе и просто ошибки, в частности грамматические <…> И раз уж речь зашла об арндтовских германизмах, то у Набокова, в свою очередь, нетрудно найти русизмы <…> И о чем еще следует сказать, — это топорный стиль, который, кажется, умышленно лишен остроты и изящества. <…> Комментарий, приложения и предварительные замечания в целом отмечены теми же слабостями, что и набоковский перевод, — то есть главным образом отсутствием здравого смысла; это не вредит фантастической его прозе (хотя здравый смысл является существенным ее элементом), но в научном издания это серьезный недостаток. Первое, что необходимо для публикации, подобной той, что предпринял Набоков, это постраничное сопровождение английского перевода текстом русского оригинала; но вместо этого Набоков помещает факсимильное воспроизведение прижизненного издания «Онегина» 1837 года, которое напечатано таким шрифтом, что без лупы не разобрать, заодно с указателями — в отдельный, 4-й том. Он неизменно прибегает к транслитерации русских имен и названий — занятие бессмысленное и никчемное <…> В скучном и утомительном Приложении, названном «Заметки о просодии», Набоков излагает систему стихосложения, для которой тоже разработал собственную терминологию и которая, как он заявляет, может быть применена как к английской, так и к русской поэзии… Комментарий к тому же перегружен лишними сведениями, что определенно не идет ему на пользу. Упоминая какое-нибудь стихотворение, Набоков не может обойтись без указаний на характер его строфы, размера и схемы рифмовки — в чем, как правило, нет никакой пользы, поскольку это не дает настоящего представления о произведении; и сообщает сведения, в которых мы не нуждаемся, — тут проглядывает энтомолог, специалист по чешуекрылым — о флоре и фауне «Онегина» в таком объеме, что мы чуть ли не удивляемся, почему нет научного описания медведя из сна Татьяны <…> Этот Набоков, наводящий скуку и утомляющий своим перенасыщенным информацией Комментарием, отличается от подлинного Набокова и от поэта, которого он пытается истолковать. Мне всегда казалось, что Набоков — один из тех русских писателей, чье мастерство во многом сродни пушкинскому. (С большим облегчением перехожу к этой стороне творчества нашего необычайно искусного автора, который, как публикатор, возможно, не идеален.) Пушкину нет равных среди поэтов — не исключая самого Данте — по стремительности, остроте и изяществу повествования. Как много заключено в «Онегине», и на каком малом пространстве! Как лапидарна и вместе с тем легка, непринужденна его строфа! В «Сказке о царе Салтане» — одном из примеров торжества стиля в литературе — в первых восьми строках рассказывается история (столь прелестная, что язык не поворачивается назвать ее «экспозицией») и дается завязка, определяющая последующее развитие всей поэмы. Пушкинских «Цыган» я впервые прочитал в поезде во время недолгого путешествия, и, когда беседовал об этой поэме с одной своей русской приятельницей, давно не перечитывавшей «Цыган», она изумилась, осознав, как коротка поэма. Сюжет ее развивается так стремительно, так захватывающе, что, когда прочитаешь все ее двадцать страничек, создается впечатление, что ты провел у цыган столько же времени, сколько герой-беглец, и был свидетелем драмы, совершавшейся на твоих глазах. Так вот, Набоков тоже способен так писать. Лучшие из его рассказов и романов — шедевры стремительности, изобретательности и тщательно замаскированного расчета. Каждая деталь обладает пикантной остротой и работает на целое, и все точно пригнано. Почему же тогда нельзя того же сказать о его комментарии и обоих приложениях (поскольку второе, об африканском происхождении Ганнибала, предка Пушкина, тоже представляет из себя нелегкое чтение)? Создается впечатление, что этот мастер, уверенно чувствующий себя в беллетристике, однажды решив отличиться на поприще науки, потерпел поражение, вынужденный доказывать свою состоятельность посредством нагромождения огромного количества информации. По правде говоря, лучшие места в его «Онегине» это те, где автор «Убедительного доказательства» соскальзывает на мерцающую фразу или демонстрирует изощренную игру слов <…> А теперь о положительном. Чтение Комментария, если пропускать longueurs[154], доставляет большое удовольствие, к тому же видно, сколько труда вложил в него автор <…> Полагаю, никто не исследовал пушкинские источники с такой тщательностью. Г-н Набоков, похоже, действительно не щадил усилий, чтобы прочитать все, что предположительно мог читать Пушкин, и продемонстрировал, что его язык многим обязан пушкинской поэзии и прозе. Кроме того, Набоков дотошно изучил отношение Пушкина к его русским предшественникам и современникам, которым и посвятил множество превосходных литературно-критических заметок. Я не говорю здесь о тех литературных obiter dicta[155], которые частью являются результатом набоковской мании сообщать ненужную информацию (он не может упомянуть книгу, сколь бы малоизвестной она ни была, которая как-то повлияла на Пушкина или была им походя отмечена, или содержащую пусть даже отдаленную перекличку с каким-то местом в «Онегине», без того, чтобы не высказать своего о ней мнения), а частью — результатом его инстинктивного стремления поиздеваться над высокими авторитетами. В одном абзаце, например, сообщается, что роман мадам де Сталь «Дельфина» «пресен», что «Жан Сбогар» Нодье — «жутковат, но не столь уж ничтожен», а бальзаковская «Тридцатилетняя женщина» — это «чересчур переоцененный пошлый роман». Достоевский назван «сильно переоцененным сентиментальным романистом, писавшим в готическом духе» (что может быть готического в Достоевском?), Бальзак и Сент-Бёв — «популярными, но, по сути, посредственными писателями». Роман «Красное и черное» тоже, по его мнению, «сильно переоценен», а стиль Стендаля — «жалок» (лишенный излишеств стендалевский стиль так же обусловлен задачей автора, как и причудливые украшения в духе Фаберже — у Набокова). Опера Чайковского «Евгений Онегин» сначала называется «глупой», потом «наскоро сляпанной», хотя Набоков всегда заявлял, что не любит музыку и ничего в ней не понимает, а то, что либретто Чайковского имеет с поэмой Пушкина общего не больше, чем «Фауст» Гуно с «Фаустом» Гете, ничего не значит. Здесь Набоков просто злобен и глуп, но когда он подходит к делу серьезно, то дарит нам великолепные короткие эссе — о Державине, Баратынском, Жуковском или Карамзине и столь же прекрасный сравнительный портрет Онегина и констановского Адольфа <…> В одном аспекте критического анализа г-н Набоков — величайший авторитет. При том, что сегодняшние критики стараются отыскать в литературном произведении скрытые символы и многозначные образы, что, толкуя тексты, они составляют схемы философских, теологических, политических идей, которые автор никогда не думал вкладывать в свое произведение, они еще демонстрируют поразительное отсутствие чувства словесной ткани произведения, его ритмической организации и стилистических приемов, используемых для создания разнообразных эффектов. Объяснение этих приемов, сопровождавшееся примерами из Поупа и Мильтона, обязательно присутствовало в разделе «стилистики» в старых грамматиках; но впоследствии они оказались в таком небрежении, — и, по сути, их так плохо понимали, что заметно по нынешним, отрицающим все правила стихосложения, виршам, не дотягивающим и до хорошей прозы, — что Эдит Ситуэлл{170}, взявшая их на вооружение, стала мишенью идиотских насмешек. У г-на Набокова — несмотря на то что ради своего «буквального» перевода Пушкина ему пришлось во многом ограничивать себя — это чувство в высшей степени развито. Он сам знаток всех этих приемов, и его высоко ценят как поэта, мастерски владеющего ассонансами, аллитерацией, анжамбеманами, модуляцией и другими тонкими инструментами поэзии. Мне представляется, что набоковские рассуждения относительно достижений Пушкина в этой области — самое ценное для студентов, изучающих творчество Пушкина или любого другого поэта <…> Важно отметить, что этот перевод «Онегина», помимо того, что обладает несомненными достоинствами, особо интересен как часть всех oeuvnes[156] Набокова. Основная тема его произведений — от ранней, написанной по-русски, повести «Машенька» до последних английских его романов «Пнин», «Лолита» и «Бледный огонь» — это смешное и жалкое, полное смятения и непонимания положение изгнанника, для которого нет возврата, и одной стороной этого положения является состояние человека, который, подобно Набокову, разрывается между культурой, оставленной на родине, и той, в которой он пытается адаптироваться. Набоков, выросший в России, в семье, говорившей дома по-английски, сын отца-англофила, возглавлявшего, будучи лидером партии кадетов, борьбу за установление в России конституционной монархии, Набоков, окончивший Кембриджский университет и великолепно владеющий английским, к этому времени уже показал, в первом своем написанном по-английски романе «Истинная жизнь Себастьяна Найта», который по-прежнему кажется мне лучшим из всего им созданного, так вот, Набоков уже показал игру в прятки своего русского и английского «я». И в его «Евгении Онегине» мы видим иную, не онегинскую, драму. Это драма самого Набокова, пытающегося совместить свои русскую и английскую половины. Как в «Истинной жизни Себастьяна Найта», они продолжают ускользать друг от друга. Когда Набоков пытается изобрести систему стихосложения, которая подходила бы обоим языкам, английская поэзия не принимает ее; когда он пробует перевести «Онегина» «буквально», то, что у него получается, это не всегда совместимо с английским языком. С другой стороны, иногда становится заметно — по его незнанию или непониманию определенных вещей, — что он не вполне в ладах с Россией. И все же это и остальные произведения Набокова выполняют нужное дело истолкования и взаимного обогащения литератур. Несмотря на его странные предубеждения, мало кем разделяемые, — вроде полного презрения к Достоевскому, — Набоков, с его чувством прекрасного и литературным мастерством, с его как будто неиссякаемой энергией, стал связующей нитью, вибрирующей между нами и тем российским прошлым, в котором Россия сегодняшняя черпает жизненную силу, способную иногда вдохновлять ее и спасать от серости <…> Edmund Wilson. The Strange Case of Pushkin and Nabokov // NYRB. 1965. July 15. P 3–6. (перевод В. Минушина) Энтони Бёрджесс Пушкин и Кинбот Жизнь человека — комментарий к темной(Примечание к нижесказанному) Взятые мною в качестве эпиграфа строки из поэмы Джона Шейда «Бледный огонь» ее комментатору, Кинботу, просто необходимы для оправдания своих отступлений, которые он маскирует под apparatus criticus. «Изысканность соответствия английского ряда „crown-crow-cow“ pycскому „корона-ворона-корова“ могла бы, я в этом уверен, привести моего поэта в восторг. Больше ничего подобного мне на игрищах лексики не встречалось, а уж вероятность такого двойного совпадения и подсчитать невозможно». Это означает, что всё памятное в жизни не вмещается в строгие рамки литературных форм, непременно воспринимаемых как протокольная запись жизни, — по крайней мере, так считает ученый или педант, который к тому же художник слова. Набоков, или Кинбот, отвергают требование быть расчетливым, которое роман предъявляет писателю, — для curiosa[157], подобных приведенному выше, в нем нет места. Набоков превратил apparatus criticus в новое художественное средство — сперва в «Бледном огне», а теперь в «Евгении Онегине». Если «Лолита» — это еще амуры с английским языком, то новый его труд — грандиозное совокупление с наукой. Прежде чем пускаться в дальнейшие рассуждения, стоит задать вопрос: много ли мы знаем об Александре Пушкине? И еще: много ли мы знаем об иностранной поэзии вообще? Я обращаюсь не к полиглотам — мальчикам за стойкой бара где-нибудь в Куала-Лумпур или к тем, у кого папаши импресарио, — и не к их высоколобым сверстникам, выпускникам лингвистических факультетов. Я обращаюсь к почитателям английской литературы, и не только профессиональным. Под «иностранной поэзией» имеется в виду, конечно, поэзия на языке оригинала, а не в «художественных» переводах (вроде поуповского Гомера, или святого Иоанна Крестителя Роя Кемпбелла{171}, или Фиццжералдова{172} Омара Хайяма). Мы с полным правом можем сказать, что «знаем» Пруста, Достоевского и Манна, если читали их только в переводе на английский, поскольку чувствуем лишь автора (несмотря на все изменения или потери), и действие помехи в виде личности переводчика здесь минимально. Но перевод поэзии — это почти целиком переводчик, и мы видим, — как бы ни были уверены, что можно отделить содержание от стиля, — что от такого перевода действительно мало толку. Очень многие из нас читали Малларме и Леопарди{173} в оригинале, имея перед глазами подстрочный перевод на соседней странице. Таким же образом мы читали Данте, корнелевского «Сида», Лорку — в школе нас лучше всего подготовили к чтению романской поэзии. Читали мы и Гете, и Гельдерлина, хотя в школьной программе не было немецкого языка. В конце концов, у английского больше общего с германскими языками, чем с романскими. Трудности возникли, когда мы обратились к Востоку. А возникли они из-за неведомых восточных алфавитов (выучить их можно было за час, но для многих и это было чересчур) и явного отсутствия узнаваемых элементов языка (мало кто способен под странной оболочкой разглядеть глубинное сходство). В таких случаях как будто бы неплохо иметь художественный перевод. Любители литературы, которые сочтут ниже своего достоинства читать «L'Apresmidi d'un Faune»[158] в переводе Олдоса Хаксли, проглатывают Артура Уэйли{174}, Фицджералда и любого другого, кто переложил (напрасный труд) Евтушенко. Одна из немногих вещей, на которые я способен, — это читать на фарси, и всякий раз, стоит только подумать о том, как Фицджералд исказил Хайяма, я выхожу из себя — мудрого метафизика он превратил в постдарвинистского романтического стоика. «Проснись! Ибо утро в чаше ночи…» Возглас же Хайяма — это рассветный петушиный вопль муэдзина: «Ishrabu!» («Пей!») — страшное богохульство — и bum, или купол мечети усилием космической мышцы переворачивается и становится jam, или чашей, в которую льется вино солнца. А позже Баграм, который все ловил диких ослов (gur), в свою очередь оказывается пойман gur (могилой). Если мы хотим читать Хайяма, то должны хотя бы поверхностно овладеть языком, на котором он писал, и просить хороший, очень точный буквальный подстрочный перевод. Если хотим читать Пушкина, то должны немного выучиться русскому и благодарить Бога за то, что есть Набоков. Если вообще можно было бы перевести «Евгения Онегина» в английскую поэзию, то единственный, кому это было бы под силу, — Набоков; но сам же Набоков в начале своего Предисловия говорит о том, что это невозможно. Есть три категории переводов, поясняет он: парафрастический, лексический и буквальный. Парафрастический предлагает «вольное переложение оригинала с опущениями и прибавлениями, вызванными требованиями формы, присущей адресату перевода языковой спецификой и невежеством самого переводчика». Иными словами, — это приятные стишки, которые заставляют критика («и щелкопера, никогда не читавшего оригинала») хвалить переводчика: «Легко читается». Автор таких коммерческих рифмованных переводов больше глумится над автором, чем «ошибающийся школьник». И хватит об этом! Лексический перевод — передача основного смысла слов и их порядка — это работа для вычислительной машины. Истинный перевод лишь буквальный, подразумевающий «передачу точного контекстуального значения оригинала столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности другого языка». Хотя он не может служить заменой оригиналу (как чапменовский перевод, который Китс считал заменою Гомеру), но вполне — дополнением к нему. Прежде чем читать набоковский перевод, я подумал, что любопытно было бы попытаться самому дословно перевести какой-нибудь отрывок из «Онегина». Я взял строфу из разговора Татьяны с няней («— Не спится, няня: здесь так душно!..»). Ее транслитерация показывает, как мудро когда-то поступили русские, выбрав кириллицу. Латиница смотрится грубей и менее экономна. Потом я сделал буквальный перевод строфы — довольно точный, но, думаю, не слишком изящный <…> Вот эта строфа в переводе Набокова: «I can't sleep, nurse: 'tis here so stuffy! Это прекрасный пример набоковской техники. Он не может одновременно перевести стихи буквально и сохранить схему рифм оригинала, но может вызвать тень строфической формы, напомнить о пушкинском образце, намекнуть на ямбический размер. Некоторые его обороты позволяют ощутить аромат эпохи («'tis here so stuffy!»), а слишком архаичное «ancient haps and never-haps» лучше подходит русскому «Старинных былей, небылиц», чем мой «рациональный» вариант. Мне не очень нравится, как Набоков передает Татьянино: «Мне скучно» — «I'm dull»; мой вариант: «I'm all befuddled» семантически точней и соответствует образу героини. «Онегин» у Набокова полон живого чувства, а порой этот дословный перевод пробуждает поэтический frisson[159], словно русский язык обогащает английский: …the cork goes ceilingward, (Попробуйте-ка заменить экзотический ananas (ананас) Набокова на привычный pineapple. Сомневаюсь, что будет лучше.) Выше я спрашивал, знаем ли мы Пушкина, но ушел от ответа главным образом потому, что не хотелось прямо отвечать «нет». Но, возможно, это было бы слишком — говорить, что Пушкин совершенно нам неведом. Мы знаем «Евгения Онегина» по одноименной опере и точно так же, по опере Глинки, «Руслана и Людмилу» (слышали хотя бы увертюру к ней) и «Бориса Годунова», а если брать прозу, то «Пиковую даму». Но мы знаем лишь парадигму, лишенную живой красоты, фабулу в общих чертах, точно так же, как сам Пушкин в нашем представлении — это Байрон с берегов Невы, безвременно погибший на дуэли, безымянная позеленевшая статуя Романтического Поэта. Мы отказываем литературе в уважении (гедонистическом уважении), если предпочитаем довольствоваться Онегиным (скучающим денди или франтом), Ленским, Ольгой, Татьяной, какими их представляет нам Чайковский. Набокова, или Кинбота, в «Онегине» привлекает «множество романтических, сатирических, биографических и библиографических отступлений, которые придают ему удивительную глубину и красочность». Иными словами, только литература учитывает, что: «Сочинение Пушкина — это прежде всего явление стиля, и с высоты именно этого цветущего края я окидываю взором описанные в нем просторы деревенской Аркадии, змеиную переливчатость заимствованных ручьев, мельчайшие рои снежинок, заключенные в шарообразном кристалле, и пестрые литературные пародии на разных уровнях, сливающиеся в тающем пространстве. Перед нами вовсе не „картина русской жизни“; в лучшем случае это картина, изображающая небольшую группу русских людей, живущих во втором десятилетии XIX в., имеющих черты сходства с более очевидными персонажами западноевропейских романов и помещенных в стилизованную Россию, которая тут же развалится, если убрать французские подпорки, если французские переписчики английских и немецких авторов перестанут подсказывать слова говорящим по-русски героям и героиням». Это своего рода рококо, по достоинству оценить которое способны только русские emigre, хотя люди, живущие на Западе, вроде нас, возможно, больше получают, читая Пушкина, чем многие «товарищи», хотя они и лучше знают русский. Эти четыре тома (прекрасно изданные, с закладкой в каждом) представляют собой верх учености, правда, учености, не блещущей талантом в той мере, как его же (такая мысль невольно приходит в голову), подобные пушкинским, романы. Во многом это тот же Набоков, какого мы знаем. Я не припомню другого подобного труда, который, казалось бы, ставя перед собой скромную задачу помочь читателю глубже проникнуть в неизвестное великое произведение искусства, сам бы стал явлением большого искусства. Anthony Burgess. Pushkin & Kinbote // Encounter 1965. Vol. 24. № 5 (May). P. 74–78 (перевод В. Минушина). Александр Гершенкрон{175} Рукотворный памятник Я памятник себе воздвиг нерукотворный…(Пушкин) Осуществленное Владимиром Набоковым монументальное издание «Евгения Онегина» представляет собой крайне необычную смесь, способную привести в восхищение и вызвать раздражение. Тут есть все: художническая интуиция и безапелляционность; несравненное мастерство и удивительное сумасбродство; тонкие наблюдения и унылая педантичность; излишняя скромность и непозволительное высокомерие. Это дитя любви и плод ненависти. Ошеломляет объем. В четырех изящно изданных томах — 1850 страниц. Первый том содержит разнообразные вступительные материалы и текст набоковского перевода «Евгения Онегина». Второй и третий отданы подробному комментарию, за которым следуют два приложения: первое — это пространное исследование, посвященное происхождению африканского предка Пушкина и являющее собой всего лишь не в меру разросшееся толкование одной-единственной пушкинской строки: «под небом Африки моей»; другое приложение составляют блестящие «Заметки о просодии», где Набоков, среди прочего, сравнивает роль ямба в русской поэзии и в английской. В четвертый том входят превосходный указатель и факсимильное воспроизведение издания «Онегина» 1837 года (впредь именуемое ЕО), которое вышло за несколько недель до смерти поэта. I. «Теория» переводаНабокову, независимо от того, на каком, русском или английском, языке он пишет, совершенно чужда спонтанность выражения[160]. Поэтому неудивительно, что набоковский перевод — это осознанное воплощение его общих идей относительно перевода поэзии. Он говорит, что «попытки переложить стихи на другой язык распадаются на три категории»: (1) парафрастический перевод, (2) лексический и (3) буквальный. Последнее означает «передачу точного контекстуального значения оригинала столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и синтаксические возможности другого языка. Только такой перевод можно считать истинным». Фактически, читаем мы дальше, только «буквальный перевод» является переводом как таковым, и, следовательно, это выражение — «некая тавтология». Терминологические разъяснения, конечно, менее интересны, чем список обретений и потерь, обусловленных этой концепцией. Повторно представляя ее мнимые преимущества, Набоков пишет, что «буквальный перевод предполагает следование не только прямому смыслу слова или предложения, но и смыслу подразумеваемому» и «когда переданы тончайшие нюансы и интонация текста». Звучит, без сомнения, многообещающе. Допустив на минуту, что это достижимо, необходимо задуматься о цене подобного метода. А цена и в самом деле высока. Набоковская программа подразумевает отнюдь не только отказ от рифм, и он откровенно признает это: «я пожертвовал ради полноты смысла всеми элементами формы, кроме ямбического размера… Фактически во имя моего идеального буквализма я отказался от всего (изящества, благозвучия, ясности, хорошего вкуса, современного словоупотребления и даже грамматики), что изощренный подражатель ценит выше истины.» «Истина» — превосходное слово, но оно не может ни скрыть наивности такой саморекламы, ни заслонить проблему. Безусловно, эстетическая истина далеко не ограничивается точной передачей смысла; и то, чем Набоков легко и с пренебрежением жертвует, — это не его, а пушкинское изящество, и ясность, и благозвучие. На протяжении всей книги Набоков с удовольствием говорит о критериях научного издания. Но то, что ученый считает истинным, — относительно и зависит от избранного им метода и цели, которую он преследует. Очевидно, что «истина буквализма» в лучшем случае имеет отношение лишь к одной стороне такого бесконечно сложного явления, каким является произведение поэтического искусства. Что же до других его сторон, то тут она откровенно ложна. Перевод несколько напоминает географическую карту, которая может дать верное представление о расстоянии и площади, или о расстоянии и рельефе, или о площади и рельефе, но не способна правильно показать все три элемента. Из этого не следует, что одна проекция «верней» других, хотя, конечно, существуют хорошие и плохие карты. II ПереводОставим сравнение из области географии, пока оно не захромало, и обратимся к набоковскому переводу. Во многих отношениях он превосходен. Прежде всего, Набоков демонстрирует глубочайшее понимание текста оригинала. Говоря это, я имею в виду не простое отсутствие неверных истолкований слов, выражений и событий, что так портит прежние переводы. Полвека прошло с тех пор, как я впервые прочел ЕО; множество раз я его перечитывал, и большая часть его стихов навсегда осталась в моей памяти. Но, должен признаться, лишь теперь, благодаря Набокову, мне открылось, что в пушкинском тексте достаточно мест неясных и допускающих противоречивые толкования. Набокову стоило немалых трудов раскрыть, что в точности означает то или иное выражение, пусть и не играющее особой роли, так что и мясные продукты, и пироги, и фруктовые напитки, ягоды и цветы, деревья и животные — все обрели надлежащие гастрономические, ботанические и зоологические эквиваленты. С другой стороны, Набоков мастерски владеет английским языком. Самые сокровенные богатства словаря всегда к его услугам. И как результат — перевод, в известном смысле настолько точный, насколько можно вообразить. Но в каком все же смысле? Оценивая перевод в терминах самого Набокова, следует сказать, что лексическая (структурная) верность его переложения вне всякой критики. Это значительное достижение — для некоторых целей. Но Набоков обещал куда больше: верную передачу «контекстуального значения», точность «нюансов и интонаций» оригинала. А здесь бесспорные удачи чередуются с гнетущими провалами. Один из секретов неотразимого очарования этого романа в стихах заключается в способности Пушкина с волшебной легкостью смешивать церковно-славянскую и русскую архаичную лексику с галлицизмами и простонародными выражениями. Набоков заявляет, что «выражения, звучащие по-русски высокопарно или архаично, были со всей тщательностью переведены мною на высокопарный и архаичный английский». В действительности же многие архаичные слова у него облачены во вполне современные одежды[161]. Если не принимать во внимание неуместность опрометчивых обещаний, эта оплошность вполне простительна, потому что во многих случаях в английском языке не существует эквивалента подобных архаизмов. Куда серьезней обратный случай, когда обычные слова и выражения, этот хлеб насущный языка, принимают непривычно архаичные, или чужеземные, или ходульные формы. Зачем надо было, к примеру, переводить обычное русское «обезьяна» не столь же обычным английским «monkey», a «sapajou»; или «пустынное озеро», которое и ныне, почти не задумываясь, употребит всякий русский, — как «wasteful lake»[162]. Почему часто употребляемое уменьшительно-ласкательное «цветки» должно передавать не «flowers», a «flowerets» — словом, которое никогда ни от кого не услышишь? Почему Татьянино лаконичное разговорное «до того ли?» переведено как «Is this relevant?», что более или менее передает смысл, но звучит нелепо в обращении к неграмотной крестьянке? Почему саму няню переводчик заставляет произносить: «no dearth of», а не говорить просто: «quite a few», — ведь это противоречит образу няни, да к тому же и контексту, пусть переводчик и совершенно точен здесь лексически. Есть несколько возможных причин для подобных неверно переведенных мест — это критерии, которыми руководствуется сам Набоков. Одна из причин, вероятно и в какой-то степени парадоксально, кроется в самой одержимости Набокова идеей «буквализма». Это заставляет его переводить обычное и отчасти народное ласкательное «голубка» (соответствующее английским «darling» или «honey») как «doveling» — так, пожалуй, не сможет выразиться никто из говорящих по-английски. Набоков, без сомнения, прекрасно знает, что выражение няни «непонятна я» — это диалектная форма от «непонятлива я», эквивалентная английскому «I am dim», «I am slow-witted»; но в нормативном русском «непонятна я» означает «I cannot be understood» («я непонятна»), и Набоков не колеблясь переводит это выражение как «I am not comprehensible», только усиливая вред, причиняемый смыслу буквализмом[163]. Порой вера Набокова в то, что ключ к пониманию слов лежит в их происхождении, вводит его в заблуждение. Русское «колпак» давно уже не ассоциируется с турецким «шапка из овчины» и превратилось в простое «cap» (foolcap — шутовской колпак, nightcap — ночной колпак); и когда русское слово, иначе уже не воспринимаемое, передается экзотическим для англичанина словом «colpack», которое сохраняет исходное значение, семантика безжалостно приносится в жертву этимологии. Схожая проблема возникает и с галлицизмами. Современный русский язык — также, как другие славянские и германские языки, — формировался под сильным влиянием французского. Русская поэзия восемнадцатого и начала девятнадцатого веков несет на себе следы этого благотворного влияния. Но нужно помнить, что, во-первых, проникновение в русский язык calques (или Lehnuebersetzungen) из французского началось еще до Пушкина, а во-вторых, что большая часть подобных постоянно употреблявшихся галлицизмов подвергалась русификации, в процессе которой смыслы и оттенки смыслов слов и выражений незаметно, а иногда и не так уж незаметно, менялись и ощущение их иностранного происхождения исчезало[164]. На первый взгляд может показаться, что прямая калька несла в себе мощный потенциал творческого усвоения. Подобное изменение происходило почти неминуемо и незамедлительно, когда калька расширяла сферу употребления давно устоявшегося русского слова. Тогда и ее иноземное содержание автоматически получало русскую окраску. По этой причине в обратном переводе русского галлицизма на французский изначальное французское выражение не обязательно получит точный перевод. Пушкинское «белянка» действительно произошла, конечно, прямо из «un blanche» Андре Шенье, но русское слово содержит намек на сельскую красавицу, что и правильно, и важно для контекста романа и что совершенно утеряно в «абсолютно точном» набоковском «a white-skinned girl» — «белокожая девушка» (конечно же, без всякого намека на расовый признак). Напротив, в слове «нега» нет ничего «народного». Набоков в своем Комментарии превосходно говорит о различных оттенках этого слова и приводит их французские соответствия. Но ко времени Пушкина это слово уже превратилось в избитый штамп русского литературного языка; морфологически оно неплохо подкреплено очень простым прилагательным, и набоковский перевод его — невероятно изобретательный — посредством «mollitude» (от французского mollesse) или «dulcitude» бесконечно тяжел и далек от русского оригинала. Подобным же образом, и даже еще более ужасно, такие простые слова, как «жар» или «мирные места», превратились под пером Набокова в торжественные «ardency» и «pacific cites» соответственно. Когда «румяные уста» переводятся как «vermeil lips», забывается, что это русское выражение неразрывно связано с крестьянским идеалом женской красоты, который подразумевает наличие румяных щек и розовых губ, с цветом румяной корочки хорошо пропеченного пирога на столе у крестьянина или с цветом яблок, выросших в его саду. Во всех подобных случаях игнорируется русификация иностранного, романтического словаря и его слияние с обыденной речью, а «буквализм» отбрасывается ради «исторического буквализма», при том, что всегда сохраняет лексическую точность. Наконец самое, быть может, важное. Нельзя не почувствовать, что очень часто выбор переводчиком странных и искусственных слов был определен желанием сохранить ямбический размер. Это правда, что Набоков довольно часто отказывается от размера ради точной передачи смысла. Но правда и то, что он снова и снова «нюансы и интонации» приносит в жертву размеру. Лишь этим объясняются определенные изъяны перевода. Только следование размеру виной тому, что такая очень русская вещь, как шуба, превращена во французское «pelisse», «брань» — в «imprecations», а старая крестьянка вдруг начинает говорить на языке студентов. Поэтому трудно принять набоковское утверждение, что «сохранение [размера] скорее способствовало, чем препятствовало переводческой точности». Совершенно непонятно, почему Набоков упорствовал в сохранении размера, а временами — лишь его подобия, ведь он вполне убедительно показал в своих «Заметках о просодии», что русский четырехстопный ямб и английский далеко не одно и то же и, соответственно, выполняют разные задачи и по-разному воспринимаются читателем[165]. Я почти не сомневаюсь, что Набоков быстрей бы достиг своего «идеала буквализма» с помощью честного прозаического перевода. Даже тогда перевод был бы не более чем приблизительным. Даже тогда Набоков столкнулся бы с присущими буквализму ограничениями, иными, нежели общепризнанная невозможность описать «национальные жесты и мимику». Даже тогда он потерпел бы поражение, столкнувшись с различным историческим развитием двух языков и результатом этого различия — лексическим несовпадением. А главное, даже тогда он по-прежнему мучился бы противоречиями, лежащими в основе его концепции буквализма. Потому что невозможно сочетать точный перевод контекстуального значения и перевод влияний, испытанных поэтом, и литературных реминисценций, которые тоже сказались или, вернее, могли сказаться на его произведении. Невозможно повторить uno actu сложный творческий процесс и его результаты. Поэтому неудивительно, что Набоков в своей попытке «перевоплотить» одновременно Пушкина и Шенье, не дает верного представления ни о том, ни о другом. Если теперь отвлечься от набоковской концепции, можно — с позволения нашего переводчика — задать себе простой и неуместный вопрос: способен ли его «Евгений Онегин» доставить нам такое же удовольствие, какое русский читатель получает от пушкинского «Евгения Онегина»[166]? В краткие моменты, когда с Набоковым случается приступ скромности, он говорит, что его труд может послужить в качестве «пони» и «подстрочника». Неуместное самоуничижение. Можно указать сотни строк и немало строф, переведенных им с подлинным блеском. Приведу несколько примеров. Вот первый катрен строфы из Главы первой; театр перед началом представления («Театр уж полон; ложи блещут…»): By now the house is full; the boxes blaze; Невозможно сказать лучше. А вот еще (Глава четвертая; «Но наше северное лето…»): But our Northern summer is a caricature of С некоторой неохотой Набоков вынужден согласиться трижды употребить «already», чтобы передать ладное и семантически не вполне эквивалентное английскому односложное русское «уж»; но если не обращать на это внимания и забыть о пушкинских текучих рифмах, то мы увидим, что английские строфы восхитительно передают красоту оригинала. Но столь дивные цветы окружены, если не сказать заглушены, менее благоуханными сорняками: …Seeing all at once (Глава пятая, конец V и VI строфы: «… Вдруг увидя / Младой двурогий лик луны…») Или еще: The fairs remained not long (Так переведены строки: «Нет: рано чувства в нем остыли; / Ему наскучил света шум…») (Между прочим, в данном случае этимология слова «fairs» скорее англосаксонская, нежели латинская; и лишь много дальше в романе Евгений Онегин проявляет мимолетный интерес к знаменитой ярмарке в Нижнем Новгороде.) А вот еще пример (из Главы шестой, III): With his unlooked-for apparition, Пушкин однажды сочинил эпиграмму на переводы Жуковского, взяв первые строки романтического диалога из его переложения «Vergaenglichkeit» Иоганна Петера Гебеля и по-своему дописав их; вот как это звучит: Послушай, дедушка, мне каждый раз, В языке, обладающем развитой системой флексий, каким является русский, глагольные окончания настоящего и будущего времени и падежные окончания существительных и прилагательных, изменяющихся по родам, как и глаголы в прошедшем времени, служат читателю надежными ориентирами. Такой язык предоставляет большую свободу в порядке слов, так что можно отважиться на любую инверсию без малейшего ущерба для ясности и изящества текста. При попытках Набокова переводить отдельные строки как можно ближе к оригиналу, предложения теряют пушкинскую прозрачность, не говоря уже об изяществе, от которого очень часто ничего не остается. Перевод Набокова можно и даже должно изучать, но, как бы ни был он искусен, а временами и блестящ, читать его невозможно. Любому, кто знаком с русским языком и может попытаться прочесть оригинал, набоковское переложение сослужит неоценимую службу. Он найдет в нем, особенно вкупе с Комментарием, помощника бесконечно лучшего, нежели любой подстрочный «пони». Но если он не владеет русским, то все же стоит попробовать, опять-таки с помощью Набокова, прочесть рифмованную, «не буквальную» английскую версию романа. Набоков неутомим в суровой критике своих предшественников по переводу «Онегина». Взвешенность суждений — не его конек, и не в его правилах подчеркивать удачи соперников. Те действительно излишне вольно обращались с текстом и грешат неточностью, хотя в своем большинстве их прегрешения не заслуживают той ярости, какую изливает на них Набоков. Но после его перевода читающий только по-английски должен обратиться к другим переводам, если хочет уловить слабое эхо пушкинской музыки и почувствовать, пусть смутно, воздушную легкость его стиха. Потому что набоковский «истинный» перевод оказывается далек от эстетической истины Пушкина точно так же, как Лолита (читаем мы у Набокова) была не столь умной девочкой, как мог показать ее IQ. Уолтер Арндт, последний из переводчиков романа, в полной мере испытал на себе гнев Набокова[167], однако по большей части перевод Арндта передает то главное, что утеряно Набоковым. Последний особенно горд своим переложением XXVIII строфы из второй главы романа. Он говорит, на сей раз без лишней скромности: «Точностью, которой мне удалось достичь в переводе этой строфы, я обязан безжалостному и победоносному устранению рифмы». Сравним же оба перевода. Набоков: She on the balcony Арндт[168]: Upon her balcony at dawning У Набокова это одна из лучших строф, но я предпочитаю вариант Арндта. Ни Набоков, ни Арндт не смогли передать замечательной аллитерации в шестой строке Пушкина: «И вестник утра ветер веет» (в-т-т-в-т-в-т), хотя оба и предприняли нерешительные попытки (Набоков: w-w; и Арндт: b-b). Полагаю, Набоков пролил крокодилову слезу над неточным переводом у Арндта пушкинского «предупреждать»; сам он, вновь окольным путем через Париж, нашел словечко «prevene». Он мог буквально прийти в ярость от того, что Арндт не проводит четкого различия между «dawn» и «sunrise» (или, скорей, между «l'aube» и «l'aurure») — чем он сам постоянно грешит. Но, несмотря ни на что, арндтовский перевод этой строфы успешно опровергает основную претензию Набокова. Здесь вполне «победоносно» переданы рифма и размер и очень близко — смысл. Несомненно, в целом арндтовский перевод неровен. В нем есть свои вершины и провалы — и плоские места. То же самое можно сказать и о переводе Набокова. В конечном счете пушкинский шедевр, возможно, непереводим[169], и никто никогда не воссоздаст его во всем его великолепии. Но если Набоков в точности пересказывает, о чем повествуется в «Евгении Онегине», то, читая Арндта и некоторых его предшественников, можно надеяться получить хотя бы отдаленное представление о том, что это за произведение на самом деле. III. КомментарийНабоковский Комментарий (куда следует включить и множество материалов из первого тома) — это нечто невероятное по объему, размаху, предварительным исследованиям и вниманию к деталям. Он охватывает как оригинальный текст «Онегина», так и его перевод. Набоков объясняет, сначала в кратком описании текста, потом в последовательных примечаниях, строфу за строфой, композицию и действие романа. Он неутомим в поисках источников пушкинских фраз, образов, характеристик персонажей и картин природы. Одно ясно: после этого Комментария будущие переводчики ЕО избегнут глупых ошибок; с этим Комментарием возможно куда более глубокое прочтение романа как на русском языке, так и на английском. Если при чтении Комментария к чувству восхищения и благодарности к автору примешается растущее раздражение, причину следует искать в авторском же несдерживаемом гневе, в недостатке у него великодушия, в его предубеждениях и странностях, противоречиях и анахронизмах. В Главе восьмой (строфа XXV) «Евгения Онегина» читаем: Тут был на эпиграммы падкий, Mutatis mutandis[170] и помня об очень теплых словах благодарности своей жене, высказанных в Предисловии, мы можем сказать, что это похожий портрет автора Комментария. Он действительно сердит на все: от незнания американскими студентами названий деревьев и цветов, американских «стейков» — «безвкусного мяса нервных коров» — и «невнятной американской речи» — имея, вероятно, речь лишенных вкуса и нервных людей — до поэтов, романистов, драматургов и критиков всех времен. Список можно продолжать бесконечно: «Вялый Вергилий и его бледные педерасты» (это, конечно, не что иное, как домысел и злостное извращение фактов); «нудный „Неистовый Роланд“» Ариосто; «условный, бесцветный и банальный стиль Фенелона и Расина»; «напыщенная и пошлая традикомедия „Сид“» Корнеля; «невыносимо скучные стихи Вольтера»; «болезненно впечатлительная, сложная и одновременно наивная натура Руссо»; «исключительно бездарная комедия Шеридана»; «странный налет тривиальности» в гетевском «Фаусте»; «добросовестный, но talentlos[171] Август Вильгельм Шлегель»; «вялый роман мадам де Сталь»; «сильно переоцененный роман Стендаля „Красное и черное“ и его ничтожный литературный стиль»; «Бальзака — популярного писателя — переоцененная вульгарная повесть»; «знаменитый, но бесталанный Белинский»; «несамостоятельный и посредственный Сент-Бёв»; Достоевский — «сильно переоцененный, сентиментальный романист, писавший в готическом духе»; и, наконец, Набоков сметает одним махом «всех гипсовых идолов академической традиции от Сервантеса до Джорджа Элиота (не говоря уже о рассыпающихся маннах и фолкнерах нашего времени)». Это, без сомнения, было то, что нужно pour epate la coed[172] в Корнеллском университете. Следует, однако, заметить, что большая часть этих беспримерно нелепых оскорблений громоздится совершенно необоснованно и никак не связана с ЕО или Пушкиным вообще. Стоит также сказать, что великолепные переводы из Шекспира, выполненные «talentlos» Шлегелем, не утратив своего значения, прошли «the envious distance of ages» (у Пушкина: «веков завистливую даль»), тогда как кое-кто из более поздних переводчиков могут (вновь цитируя Пушкина, переведенного Набоковым) «glance by and vanish; this is known, though to admit it we don't wish». И уж совсем курьезно то, что набоковское поношение великих невероятно напоминает нелепые выходки определенного сорта русской литературной критики 1860-х годов, когда Писарев (названный в Комментарии «типом резким и жестким») ничтоже сумняшеся изображал Пушкина фривольным рифмоплетом. Неудивительно, что определяемые настроением замечания Набокова о других комментаторах ЕО не отличаются ни сдержанностью, ни беспристрастностью. Он называет работы Н.Л. Бродского и Д.И. Чижевского «ничего не стоящими компиляциями» и постоянно обрушивается на них, указывая на малейшую ошибку в написании или сноске. Бродский, советский популяризатор, действительно во многом оправдывает сложившееся о нем мнение. Его старания превратить Онегина в радикала выглядят довольно жалко, на что указывали серьезные исследователи даже в советских изданиях[173], обстоятельство, которое Набоков прекрасно мог бы использовать; точно так же он мог бы упомянуть, что сам следовал Бродскому, по крайней мере в разделе «Пушкин о ЕО», содержание которого почти идентично высказываниям Бродского. Другое дело профессор Чижевский, видный ученый, обладавший обширными познаниями. Конечно, в его комментариях содержатся ошибки, за которые он должен нести ответственность. Однако Набоков обязан был знать, что Чижевский недостаточно хорошо владел английским, и комментарии, написанные им по-русски, затем были переведены для него и вычитаны. По ходу дела довольно много ошибок в транслитерации и много опечаток остались неисправленными. Но Набоков вышел на тропу войны, и никакие правила честной литературной борьбы ему теперь не указ. Тон самых мягких высказываний Набокова лучше всего можно продемонстрировать в замечаниях о его собственных ошибках. Они выглядели бы так: «Этот немыслимый Набоков умудряется сделать по крайней мере три ошибки в примечании об Очакове. Он прямо пишет: „В то время и позднее название этого укрепленного молдавского [?] города и русского порта, приблизительно в сорока милях к западу [опять неправильно: на самом деле — к востоку!] от Одессы, в британской прессе писалось „Oczakov“. В 1788 году, во время русско-турецкой войны, крепость была взята войсками Суворова и по мирному договору 1792 г. [вновь ошибка: в 1791 г.] отошла к России“». Или: «Ошибка, допущенная Набоковым при цитировании немецкого заглавия, делает фразу неправильной грамматически». Или: «Ошибка Набокова в написании румынского слова демонстрирует его невежество в отношении романских языков». Все это, конечно, сущие пустяки, и причину бесполезного гнева Набокова невозможно понять, если ничего не знать о его русских и немецких предшественниках, в чьем обычае было вести полемику методом мелочных и грубых придирок. Действительно, набоковский Комментарий во многих отношениях, включая его полноту и вероятную точность, стоит бесконечно выше подобных работ его предшественников. (Между прочим, я не смог проверить отсылки Набокова к другим текстам, кроме одной — к десятой сатире Ювенала, — где соответствующая строка оказалась не 213-й, как указано Набоковым, а 113-й, но мне, видимо, просто не повезло.) Справедливости ради, следует сказать, что многие примечания Чижевского превосходны, и Набоков поступил бы умно, приняв их во внимание и включив в свой Комментарий. Чижевский, в частности, тонко чувствовал эволюцию русского языка и характерное для Пушкина смешение архаизмов и просторечных выражений. Его указания на диалектные варианты русского ударения и произношения бесспорно более точны и более научны. Порой кажется, что Набоков полагает, что язык его прошлого петербургского окружения — единственно правильный русский язык. Довольно забавно выглядит его объяснение, что Пушкин имел возможность рифмовать «душно» и «скучно» в речи Татьяны только потому, что ее «провинциальное произношение» — это, «несомненно, влияние ее матушки-москвички». Поскольку та же рифма встречается в ЕО по крайней мере дважды (Глава первая, XIX и Глава седьмая, XLVIII), и в речи не Татьяны, а в авторской речи. Учитывая, что детство Пушкина прошло в Москве и под Москвой, для него должно было быть совершенно естественным произносить в определенных словах «ч» как «ш»[174]. Именно Пушкин говорил, что полезно прислушиваться к «удивительно чистому и правильному» языку московской просвирни; и, обсуждая как раз эти особенности московского говора, Пушкин явно полностью принимал их[175]. Чижевский к тому же более спокоен и уравновешен в тех случаях, когда встает вопрос, например, о времени, к которому относится действие романа, о возможных прототипах его героев и героинь и о литературных предшественниках Пушкина. Набоковские педантичность и противоречивость в отношении всех этих вещей, которые занимают существенную часть Комментария, поразительны. Он выписывает хронологию романа год за годом, месяц за месяцем, день за днем, пеняя Пушкину — на сей раз больше со скорбью, нежели с гневом, — что тот невнимателен в датах. Именины Татьяны 12 января 1821 года пришлись на среду, а не субботу, как непостижимым образом получилось у беспечного Пушкина. Пушкин опять-таки вынуждает Татьяну в 1824 году общаться с испанским послом, но Набоков (с помощью русского исследователя) выяснил, что в 1824 году при царском дворе в Петербурге не было посла Испании[176]. Много написано о возможных прототипах героев романа из числа знакомых Пушкина. Это вполне естественно для произведения, в котором так много, по выражению Набокова, «автобиографизмов». Пушкин в ЕО (Глава восьмая, LI) сам ссылался на ту или тех, с кого срисована Татьяна (черновики показывают, что он колебался между числом единственным и множественным, но решил наконец остановиться на единственном: «А та, с которой образован / Татьяны милый идеал…»). В то же время Набоков безусловно прав, возражая — как многие до него — против «поисков прототипов, поскольку они неизменно затемняют истинные, всегда атипические приемы гения». Беда, однако, в том, что о Набокове не скажешь ни того, что он твердо держится своей позиции, ни того, что он ясно представляет себе эту проблему. Несмотря на резкое осуждение «ищеек, занимающихся поиском прототипов», он сам с жаром пускается в некое расследование и отводит несколько страниц рассказу об отношениях родственника Пушкина с девушкой, упомянутой, отчасти в завуалированной форме, даже не в самом тексте романа, а в черновиках, которые, по мнению Набокова (высказанному ранее), следовало бы обязательно уничтожить без всяческого сожаления, «чтобы у академических бездарей не возникло никаких заблуждений относительно возможности разгадать тайны гения, прочтя вымаранные строки»[177]. Он уверенно идентифицирует юную жену купца, о которой бегло упоминается в «Путешествии Онегина», хотя не смог сделать того же, комментируя прекрасную строфу (Глава шестая, XVI), явно посвященную ее памяти[178]. Он не против того, чтобы различать между «более» и «менее» значимыми «прототипами», и отводит немало места обсуждению — заведомо безрезультатному — того, кому из реальных женщин принадлежала пара прелестных ножек в том, что Набоков называет «отступлением о ножках». У него уходит целых двадцать страниц на предмет, по его словам, «не представляющий никакого интереса», и страниц через шестьдесят он вновь возвращается к нему. Рассуждая о ножках, он заодно отвергает возможность того, что они принадлежали Марии Раевской — позднее жене декабриста, последовавшей за мужем в сибирскую ссылку, — поскольку-де в тот единственный момент, когда Пушкин мог восхищаться ее ножками, Марии — «гадкому утенку» — было не пятнадцать, как она ошибочно говорит в своих мемуарах, а лишь тринадцать с половиной лет. Странно, между прочим, что бард Лолиты, певец нимфетки исключил чувственный интерес к девочке, особенно учитывая, что у Пушкина была такая склонность[179]. Более важно, чем все эти противоречия, — неспособность Набокова понять, что он употребляет термин «прототипы» в двух различных смыслах. В результате возникает путаница между «прототипами» и «типическими» героями, создаваемыми художником. Если бы Татьяна была списана с определенной женщины, она представляла бы собой индивидуальность, а не «тип». Таким образом, поиск подобных личностей, сколь бы ни был важен сам по себе, не имеет никакого отношения к вопросам совершенно иного рода, к тому, например, в какой степени герои романа могут считаться типическими представителями определенных групп российского общества 1820-х годов; или, скажем, в какой степени Онегин может рассматриваться как один из первых образов «лишних людей», которые появлялись в русской литературе вплоть до конца века, и не столь давно один из них возник вновь в «Докторе Живаго» Пастернака. Существует необъятная литература, посвященная этим проблемам. К ним обращались великие — и просто — русские писатели, в том числе Ключевский, возможно самый выдающийся среди русских историков. О русской литературе с куда большим основанием, чем о какой-либо другой литературе, можно сказать, что в силу определенных причин она является неотъемлемой и решающей частью интеллектуальной истории своей страны; и подход к ней с этих позиций является, конечно, односторонним, но вполне оправданным способом литературной критики. Подобную критику Набоков называет «самой нудной из известных цивилизованному человеку частью комментариев». Но на набоковских суровых осуждениях, одновременно огульных и недалеких, редко сказывается его поддельное стремление к последовательности. Их главная цель — отвергнуть устоявшееся мнение и увеличить список пренебрежительных оценок. В данном случае, так же как в других, раз дав выход гневу, Набоков спокойно продолжает рассматривать Онегина как представителя определенного узкого «круга» русского общества, а Татьяну связывать не только с литературным «типом» возвышенных русских девушек (скажем, в романах Тургенева), но и с историческими героинями русского популистского движения; иными словами, делать то же, что он с таким высокомерием отвергал несколькими страницами ранее. Самым оригинальным и во многих отношениях самым замечательным, что есть в Комментариях, мы обязаны неослабным поискам Набокова, большей частью во французской и английской литературах, параллелей ЕО. Некоторые из них были уже прослежены прежде, хотя Набоков не любит признавать ничьих заслуг, когда это следовало бы сделать[180]. Но до Набокова никто не погружался в этот вопрос столь глубоко, и испытываешь благоговение, видя, какие источники ЕО он открывает. Взятые в совокупности, его комментарии создают захватывающую мозаичную картину того литературного окружения, в которое можно поместить ЕО. В этом, без сомнения, величайшая заслуга Набокова. Но здесь же одерживает свою главную победу его страсть к педантичности и к бесполезным сведениям. Его интересуют литературные долги Пушкина. Случаев, когда соответствующее заимствование может быть с уверенностью доказано, не так уж много. Некоторые вероятные связи с тем или иным произведением получили подтверждение, другие остаются под сомнением. Набоков редко признает, что его утверждения верны лишь до определенной степени. Он предпочитает не делать предположений, а говорить без тени сомнений даже о подсознательных реминисценциях, не заботясь о том, что довольно сложно установить долю сознательного и подсознательного в творческом процессе[181]. И временами он довольствуется тем, что указывает на простые совпадения, упоминая предшественников, о которых Пушкин откровенно ничего не знал, а в некоторых случаях цитирует произведения, опубликованные после завершения Пушкиным ЕО и даже после его смерти. Это призвано продемонстрировать «логику литературной эволюции», но трудно увидеть смысл, например, во много более поздних реминисценциях из Шатобриана, который тоже, как упомянутая в ЕО девушка, когда-то любил «бегать наперегонки» с морскими волнами, или в сопоставлении «все странней и странней» из Алисы и «еще страшней, еще чуднее» из сна Татьяны. Дело в том, что Набоков не смог противостоять искушению сделать Комментарий всеобъемлющим вместилищем своей эрудиции, точно так же, как он совершенно не в состоянии остановить поток свободных ассоциаций и постоянно отклоняется от темы, не соглашаясь и споря в своих отступлениях со всеми и обо всем[182]. Несмотря на внушительный объем Комментария и ошеломительное количество отмеченных Набоковым параллелизмов, странно видеть, что некоторые образцы наиболее вероятных заимствований или аллюзий отсутствуют, опущенные, видимо, по причине относительного невнимания комментатора к немецким, а иногда даже к русским источникам[183]. Складывается впечатление, что Набоков намеренно не обращает внимания на очевидное, отдавая предпочтение сомнительному и эзотерическому. Склонность Набокова вопреки всему (в том числе и логике) высказывать собственное, отличное от других, мнение в конце концов приводит его к расхождению с самим Пушкиным. Роман оканчивается признанием Татьяны, что она по-прежнему любит Онегина, но отказывает ему, потому что «я другому отдана; я буду век ему верна» (Глава восьмая, XLVII)[184]. Набоков допускает, что Пушкин «желал сделать решение Татьяны бесповоротным». И в самом деле главе предпослан эпиграф из Байрона: «Fare thee well, and if for ever, still for ever thee well» («Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай»). Бесповоротность решения Татьяны не позволила Пушкину вернуться к роману, когда он увлекся этой идеей несколько лет спустя[185]. Но нелюбимые Набоковым критики хвалили Татьяну за ее высокую нравственность[186]. То же самое делает сам Haбоков, говоря о ее «бескомпромиссном постоянстве»[187]. Но тут же забывает об этом и перед лицом «аморфной массы комментариев, порожденной с чудовищной быстротой потоком идейной критики» Набоков «полагает, что необходимо указать, что ее [Татьяны] ответ Онегину вовсе не звучит с той бесповоротностью, какую предположили в нем комментаторы». Таким образом, Пушкин ошибался («Hier irrt Goethe!»)[188], и у Онегина были отличные шансы поладить с Татьяной; роман остается неоконченным, и Набоков «не может не попытаться представить, как бы мы поступили, если бы пришлось ради него [Пушкина] продолжить книгу». Так что Набоков недаром в одном месте называет Пушкина, «бесподобного, не имеющего равных» Пушкина, «литературным собратом»[189]. В дореволюционной России был человек по имени, кажется, граф Амори{176}, специализировавшийся на том, что писал эпилоги объемом в целую книгу к «неоконченным» романам других авторов. Имея охоту преуспеть в том, что не удалось Пушкину, он с энтузиазмом подхватил бы идею Набокова. Совершенно очевидно, какое продолжение он бы избрал. Татьяна, по словам Набокова, — в силу родственных связей матери с московской аристократией[190] — могла стать двоюродной бабушкой, или троюродной сестрой, княгини Долли Щербацкой-Облонской из «Анны Карениной». Но из набоковской интерпретации романа следует, что Татьяна не приходилась родственницей ни Долли, верной жене неверного мужа, ни какой-нибудь из тургеневских барышень, а была скорее «прототипом» самой Анны Карениной[191]. Возможно, Пушкин в десятой главе романа (которую он сжег, по крайней мере, как утверждала полиция) собирался сделать Онегина участником восстания декабристов. Не было бы тогда естественным, чтобы нарушившая супружескую верность Татьяна героически отправилась за Онегиным в его сибирскую ссылку? В самом деле, поскольку Пьер Безухов, в конце романа, так же близок к кругу декабристов, оба произведения, и «Евгений Онегин», и «Война и мир», могли бы иметь общий финал с возможной завязкой любопытных отношений между Татьяной и Пьером, между Онегиным и Наташей. Но граф Амори мертв, «Евгений Онегин» останется неполным, как античный торс, и пушкинская ошибка будет жить во всей своей неподкорректированной славе. Достойно сожаления, что огромные усилия Набокова во многом сводятся на нет желанием во что бы то ни стало быть оригинальным, его путаным теоретизированием, обещаниями, которые невозможно выполнить, педантизмом, полным язвительности, и последнее, но не менее важное: неумеренным самомнением. Все это непременно вызовет раздражение одних читателей и протест других. Все вкупе, комментарии и перевод, в основе которого лежат принципы, лишь кажущиеся привлекательными, составляет произведение монументальное, но неоднозначное. И тем не менее это не все, что можно о нем сказать. В нем есть подлинные прозрения, и блеск, и свидетельство обширных познаний. Набоков заложил фундамент, и остается надеяться, что будущие переводчики и комментаторы «Евгения Онегина», в отличие от него самого, проявят большее благородство и с благодарностью признают, что безусловно многим обязаны его открытиям, освещению им спорных вопросов и интерпретациям — этому плоду огромного труда, мастерства и эрудиции. Alexander Gerschenkron. A Manufactured Monument?//Modern Philology. 1966. May. P. 336–347 (перевод В. Минушина) ПАМЯТЬ, ГОВОРИ SPEAK, MEMORY: An Autobiography Revisited
«Память, говори» — третья версия набоковской автобиографии, впервые опубликованной под названием «Убедительное доказательство» (Conclusive Evidense. A Memoir. N.Y.: Harper & Brothers, 1951). Как и роман «Пнин», автобиография писалась на протяжении нескольких лет, по частям публикуясь в различных американских журналах. Начало всей серии публикаций было положено еще до отъезда Набокова в США. В 1936 г. он написал по-французски небольшой рассказ «Mademoiselle О», который был посвящен детским воспоминаниям, связанным с Сесиль Миотон — глуповатой и обидчивой швейцарской гувернанткой Набокова. Этот рассказ сначала появился на страницах журнала «Мезюр» (Mesures. 1936. № 2), а затем, уже в авторском переводе на английский, — в бостонском ежемесячнике «Атлантик» (1943. № 1). После того как у Набокова, благодаря стараниям Эдмунда Уилсона, завязались тесные отношения с «Нью-Йоркером», почти все автобиографические очерки, писавшиеся Набоковым в сороковые — пятидесятые годы, были опубликованы в этом журнале. Впрочем, все необходимые библиографические сведения имеются в авторском предисловии к третьей версии автобиографии: «Моя связь с „Нью-Йоркером“ началась (при посредстве Эдмунда Уилсона) с напечатанного в апреле 1942 года стихотворения, за которым последовали другие перемещенные стихи; однако первое прозаическое сочинение появилось здесь только 3 января 1948 года, им был „Портрет моего дяди“ (глава третья в окончательной редакции книги), написанный в июне 1947 года в Коламбайн Лодж, Эстес-Парк, Колорадо, где мы с женой и сыном вряд ли смогли бы задержаться надолго, если бы призрак моего прошлого не произвел на Гарольда Росса столь сильного впечатления. Тот же самый журнал напечатал главу четвертую („Мое английское образование“, 27 марта 1948), главу шестую („Бабочки“, 12 июня 1948), главу седьмую („Колетт“, 31 июля 1948) и главу девятую („Мое русское образование“, 18 сентября 1948), — все они были написаны в Кембридже, Массачусетс, в пору огромного душевного и физического напряжения, в то время как главы десятая („Прелюдия“, 1 января 1949), вторая („Портрет моей матери“, 9 апреля 1949), двенадцатая („Тамара“, 10 декабря 1949), восьмая („Картинки с волшебного фонаря“, 11 февраля 1950 <…>), первая („Совершенное прошлое“, 15 апреля 1950) и пятнадцатая („Сады и парки“, 17 июня 1950) — все были написаны в Итаке, Нью-Йорк. Из трех остальных глав, одиннадцатая и четырнадцатая появились в „Патизэн Ревю“ („Первое стихотворение“, сентябрь 1949, и „Изгнание“, январь-февраль 1951), между тем как тринадцатая отправилась в „Харперс Мэгэзин“ („Квартирка в Тринити Лэйн“, январь 1951)»[192]. В феврале 1951 г. «собранье пестрых глав» вышло отдельной книгой, получив не слишком убедительное название «Убедительное доказательство». Оно закрепилось после того, как издатель отверг все те варианты, которые предлагал автор: «Speak, Mnemosyne» («Говори, Мнемозина»), «Rainbow Edge» («На краю радуги»), «The Prismatic Edge» («Грань призмы»), «Nabokov's Opening» («Набоков раскрывается») и др. Название это не нравилось ни Набокову, ни Уилсону, ни представителям лондонского издательства «Голланц», предложившим выпустить книгу в Англии под каким-нибудь другим заглавием. После того как любимое набоковское «Говори, Мнемозина» было отвергнуто (на том основании, что пожилые читательницы — видимо, тогда они были основными потребителями мемуарной литературы — «не станут спрашивать книгу, название которой они не смогут выговорить»), издатели и автор остановились на «Speak, Memory» («Память, говори»). Под этим названием английское издание набоковской автобиографии было выпущено в ноябре 1951 г. Книга эта потерпела полный финансовый крах, зато была встречена сочувственными отзывами в американской и британской прессе. «Владимир Набоков написал блистательную и захватывающую книгу. Это не только автобиография, но и рассказ о „дворянских гнездах“ последних лет царской России», — писал американский критик Морис Хиндус, отметивший, что в книге Набокова «читатель не найдет и намека на меланхолическую пассивность и возвышенную никчемность тургеневских героев. Набоковы не были Лаврецкими. Они любили разговоры — а кто из русских их не любит? — но также любили и действие <…>. От общества, в котором автор был рожден и в котором провел свои детские и юношеские годы, осталось всего лишь воспоминание. Ни один из русских писателей не смог передать все его очарование и всю его извращенность так, как это сделал Владимир Набоков <…>. Книга написана изящной прозой и доставляет наслаждение при чтении. Из англоязычных писателей славянского происхождения никто со времен Джозефа Конрада не демонстрировал столь великолепного владения изысканно-красивым английским языком» (Hindus M. Gentle Russian Yesterdays // Saturday Review. 1951. Vol. 34. № 15 (April 14). P. 29). Рецензент из «Спектейтора» (вот вам загадочная англосаксонская душа!) похвалив книгу за то, что в ней нет «ни старомодной русской душевности, ни новомодного мазохизма», простодушно рекомендовал ее как увлекательное чтение, поскольку «всегда приятно читать о детстве богатых людей — детство представителей среднего класса похоже на наше собственное, а при чтении о детстве бедняков удовольствие слишком часто ослабляется чувством жалости» (Cranston M. Last Enchantments // Spectator. 1951. № 6443 (December 21). P. 859). Более вдумчивый (хотя и более прохладный) отзыв дала Маргарет Лейн, акцентировавшая внимание на теме утраченного рая детства — одной из важнейших тем книги (да и всего набоковского творчества): «Для тех, кто был изгнан из Эдема, культ памяти в одинаковой степени таит опасность и вознаграждение <…> Он [Набоков] был грубо вышвырнут из своего Эдема <…>. А это был действительно рай, населенный милыми, интеллигентными родителями <…> дядюшками, столь же эксцентричными, как и второстепенные персонажи у Чехова, непостижимой странности учителями и гувернантками, маленькими девочками, к которым он испытывал чувство влюбленности и о которых, подобно Прусту, ничего не забыл» (Lane M. Paradise Lost // New Statesman. 1951. Vol. 42. № 1082. P. 634). В то же время Лейн выразила недовольство по поводу набоковской одержимости деталями, вредившей, с ее точки зрения, цельности художественного впечатления от изображенной картины мира: «Его воспоминания — это воспоминания человека, изощряющего память ради изысканных обломков прошлого, которые он должен спасти от забвения. Единственная опасность в подобной фетишизации мелочей заключается в том, что детали начинают заслонять целое, так что становится трудно воспринимать всю картину. Изгнанником г-н Набоков жил в Берлине и Париже, был несчастлив в Кембридже, женился, стал отцом (чудо, завладевшее его сознанием еще сильнее, чем бабочки) и в конце концов перебрался в Америку, где и благоденствует в настоящее время. Но все это проходит словно сквозь туман: что мы в действительности помним, так это поднос с приманкой для ловли бабочек, грушевое мыло в детской ванной да руки Mademoiselle, которые „были неприятны… каким-то лягушачьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей“» (Ibid). К сожалению, подавляющее большинство критических статей, появившихся в Англии и Америке в связи с выходом набоковской автобиографии, не радуют ни глубиной проникновения в авторский замысел, ни, тем более, тщательным анализом ее формальных особенностей. Лучше всех об этой книге написал сам Набоков — в полусерьезной, полупародийной рецензии «Третье лицо», которая должна была составить шестнадцатую главу книги (прием когда-то с блеском использованный в «Даре», а спустя некоторое время — в «Аде»). «Рецензенту, возможно, покажется, что непреходящее значение „Убедительного доказательства“ в том, что это точка пересечения внешней художественной формы и исключительно частной жизни. Набоковский метод состоит в исследовании отдаленнейших областей прошлого в поисках того, что может быть названо тематическими ходами или нитями, — проницательно указывал Набоков. — Однажды найденная тема прослеживается на протяжении многих лет. Развиваясь, она ведет автора к новым областям его жизни. Бубновая лента искусства и мощные сухожилия извилистой памяти соединяются в едином могучем и мягком рывке, создавая хоровод образов, который как бы скользит в траве и цветах, стремясь к нагретому плоскому камню, дабы блаженно свернуться на нем. Есть несколько основных и множество побочных линий, и все они организованы так, что на память приходят разнообразные шахматные задачи, загадки, все тяготеющие к шахматному апофеозу — тема эта то и дело появляется чуть не в каждой главе: вырезанные картинки, геральдическая шашечница, некие „ритмические узоры“, „контрапунктная“ природа судьбы, жизнь, „пугающая все роли в пьесе“, партия в шахматы на борту корабля в то время, как Россия исчезает за горизонтом, романы Сирина, его интерес к шахматным задачам, эмблемы на черепках, картина-головоломка, венчающая спираль этой темы. <…> Распутывание загадки — чистейший и самый основной акт человеческого сознания. Все упоминаемые тематические линии постепенно сводятся в одну, переплетаются или сливаются в тонком, едва уловимом, но совершенно естественном союзе, который является как функцией искусства, так и поддающимся обнаружению процессом в эволюции личной судьбы. Так, по мере движения книги к концу, тема мимикрии, „изощренного обмана“, которую Набоков исследует в своих энтомологических изысканиях, с пунктуальной точностью приходит на свидание с темой загадки, со скрытым решением шахматной композиции, со складыванием узора из осколков разбитой чаши — с загадочной картинкой, на которой взгляд различает контуры новой земли. В ту же точку слияния спешат другие линии, будто сознательно стремясь к блаженному анастомозу, создаваемому искусством и судьбой. Раскрытие загадки есть также раскрытие проходящей через всю книгу темы изгнания, внутренней утраты, и эти линии, в свою очередь, переплетаются, достигая кульминации в теме радуги <…> и сливаются в великолепном rond-point[193] с его бесчисленными садовыми дорожками, парковыми аллеями и лесными тропинками, петляющими по книге. Невольно восхищаешься ретроспективной проницательностью и творческим вниманием, которые удалось проявить автору, дабы замысел этой книги совпал с тем, по которому его собственная жизнь была замышлена неведомыми сочинителями, и ни на шаг не отступить от этого плана»[194]. Русская версия набоковской автобиографии, опубликованная в 1954 г. нью-йоркским Издательством имени Чехова, вызвала у доживавших свой век эмигрантов «первой волны» по большей части негативную реакцию. Печатных откликов на книгу было крайне мало — преобладали, так сказать, «непечатные» отзывы, среди которых самым резким является, пожалуй, отзыв, данный в письме Георгия Иванова Роману Гулю <см.>. Показательно, что «Другие берега» попали под обстрел не только со стороны заклятых литературных врагов писателя, но и со стороны его былых союзников. Давний приятель Набокова Г. Струве, автор фундаментальной «Русской литературы в изгнании», ограничился хлестким замечанием: «Как только Набоков пробует выйти в область человеческих чувств, он впадает в совершенно нестерпимую, несвойственную ему слащавую сентиментальность (напоминающую, правда, некоторые ранние его стихи). Кроме того, здесь, в рассказе о невыдуманной, действительной жизни на фоне трагического периода русской истории, с полной силой сказался феноменальный эгоцентризм Набокова, временами граничащий с дурным вкусом, как часто граничит с дурным вкусом его пристрастие к каламбурам, в оправдание которого напрасно ссылаться на Шекспира»[195]. Даже такая восторженная (порой слишком восторженная) набоковская поклонница, как Нина Берберова, сочла «Другие берега» (наряду с романом «Пнин») явной неудачей: «В воспоминаниях, вышедших по-русски под названием „Другие берега“, где половина книги состоит из рассказов о гувернантках, а на обложке почему-то изображена царская корона, сделан тот же упор на ценность факта и его объективное значение; обе книги — вне своего времени, и сейчас, в свете происшедшего позднее, кажутся вне самого Набокова» (Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // НЖ. 1959. № 57. С. 95). В ноябре 1965 г. Набоков взялся за давно намеченную переработку своей автобиографии, по ходу которой «не только добавил к исходному английскому тексту существенные изменения и обильные вставки, но и воспользовался множеством исправлений, сделанных в русском его переводе»[196]. «Повторное англизирование русской переделки того, что было прежде всего английским пересказом русских воспоминаний, оказалось дьявольски трудной задачей»[197], однако писатель справился с ней довольно быстро. Уже в январе 1966 г. третий извод его автобиографии был выпущен нью-йоркским издательством «Патнэмз». К этому времени Набоков уже завоевал себе репутацию классика американской литературы. После феноменального успеха «Лолиты» каждая его новая книга привлекала пристальное внимание ведущих критиков и даже академической закваски литературоведов, очень скоро превративших изучение набоковского творчества в особую отрасль филологии. Уже в 1966 г. вышла первая монография о Набокове, красноречиво озаглавленная «Бегство в эстетику: искусство Владимира Набокова» (Stegner P. Escape Into Aesthetics: The Art of Vladimir Nabokov. N.Y.: Dial Press, 1966); год спустя — первый литературоведческий сборник, полностью посвященный набоковскому творчеству: «Набоков: Личность и творчество» (Nabokov: The Man and His Work. Madison et al.: The University of Wisconsin Press, 1967). Неудивительно, что среди рецензентов, откликнувшихся на третью версию набоковской автобиографии, тон задавали уже не легковесные журналисты и юркие литературные обозреватели крупнейших газет, по долгу службы вынужденные откликаться на выходящие книжные новинки, а ведущие критики и литературоведы, чьи отзывы порой не вмещались в традиционные жанровые рамки журнальной рецензии и превращались в обстоятельные исследования всего творчества писателя. Наиболее показательна здесь пространная рецензия бывшего набоковского ученика по Корнеллскому университету Альфреда Аппеля, младшего <см.>. Предложив гиперформалистское (далеко не всегда обоснованное и убедительное) истолкование творчества писателя, Аппель высказал ряд интересных мыслей относительно тематики, структуры и игрового характера набоковских произведений. Пародирование, литературная рефлексия и авторское самосознание, образующие внутренний сюжет книги и размывающие фабульное действие, соответствие тематических узоров как принцип построения произведения, приемы остранения и отстранения, препятствующие «самозабвенному слиянию читателя с персонажем», — эти художественные принципы (пусть и не в одинаковой степени присущие произведениям Набокова и, тем более, не исчерпывающие всего идейно-художественного богатства его творчества) отныне сделались излюбленными темами для представителей неуклонно растущей армии набоковедов, для которых Набоков стал чем-то средним между объектом пылкого, безрассудного поклонения и восхваления и удобным полигоном для испытания тех или иных литературоведческих доктрин и методологий. Тем не менее, несмотря на высокий писательский статус Набокова, «Память, говори» вызвала и ряд негативных откликов. Особенно ядовитым получился отзыв у Александра Верта <см.>, которого, как в свое время и Глеба Струве, вывел из себя откровенный эгоцентризм автора. «Курьезное набоковское самодовольство» не пришлось по душе и Деннису Джозефу Энрайту, английскому поэту и критику, назвавшему «Память, говори» одним из лучших произведений Набокова, но в целом давшему довольно пренебрежительный отзыв о книге (как и обо всем набоковском творчестве): «Гораздо приятнее было жить этой, исполненной чувствительности и изящества жизнью, нежели читать про нее. Временами неестественный язык автора становится невыносимым. <…>. Любовь, страстное воодушевление и увлекательность подавляются надменным жеманством, а неожиданное для такой умудренной персоны игривое лукавство — лицемерием» (Enright D.J. Nabokov's Way // NYRB. 1966. November 3. P. 4). По мнению Ричарда Левина, неудача Набокова была обусловлена тем, что ему не удалось добиться должного равновесия между объектом и субъектом повествования, между Набоковым-мемуаристом, «движущимся сквозь реальные Санкт-Петербург, Берлин или Париж, и Набоковым-литературным героем, живущим в своем собственном мире». Признав, что Набокову по силам создавать отдельные фрагменты «удивительной красоты», критик считал, что эта красота «требует слишком высокую цену, возможно, слишком высокую для произведения, предназначенного быть автобиографией. Поскольку реальность и вымысел — одно и то же для Набокова, его способ постижения мира предполагает описание, а не анализ, внимание к следствиям, а не причинам. Его безразличие к психологии гораздо ярче проявляется не в презрительных насмешках над ней, а в созданных им двухмерных и гротескных персонажах, чья деформированность говорит об искажении реальности и указывает на художника, творящего свой вневременной Эдем искусства из грубого материала жизни и времени. Парадокс заключается в том, что после того, как лампа искусства осветила своим бессмертным изяществом „шутовской колпак жизни“, не уцелело ни одно живое существо. Выбравшись из тюрьмы времени, Набоков попал в тюрьму собственного искусства. Ограниченность сознания перволичного повествователя и авторские отступления „в сторону“ создают эстетическую дистанцию, в романах она изначально предусмотрена набоковским антиреализмом. „Память, говори“ содержит в себе точно такие же отступления <…>, но в то же время претендует на целостность сознания или, по крайней мере, на полноту воспоминаний <…>. Подвох не только в том, что по прошествии сорока лет память, как и следовало ожидать, говорит запинаясь, но и в том, что ее оплошности, так же как и превосходные реконструкции прошлого, специально предназначены создать эффект отсранения, присущий набоковским романам. Набоков лишь случайно выглядывает из-за щита искусства, в результате чего он становится таким же двухмерным, как и его персонажи; в то же время, лишенный гротескности, составляющей их сущность, он гораздо менее интересен, чем они. Набоков уже создал несколько романов в форме биографии. „Память, говори“ — еще один курьезный гибрид: не то мемуары романиста, не то романизированная автобиография» (Levine R. Clockless Eden // New Leader. 1967. Vol. 50. № 7. P. 27–28). He знаю, как отреагировал бы на эту въедливую рецензию Набоков, но, думаю, его порадовало бы следующее заключение, сделанное Ричардом Левиным. «В конце книги „истинная жизнь“ Владимира Набокова остается для нас такой же загадочной, как и „истинная жизнь“ другого художника-фокусника, Себастьяна Найта» (Ibid. P. 26). Альфред Аппель, мл.{177} Кукольный театр Набокова Сегодня, на шестьдесят седьмом году его жизни, о Владимире Набокове заговорили снова. Конечно, он никуда не исчезал из виду, но его труд был подобен айсбергу, потому что невидимая масса его русских романов, рассказов, пьес и стихов не была переведена и оставалась неизвестной, скрытая в тени шедевров: «Лолиты» (1955), «Пнина» (1957) и «Бледного огня» (1962). Однако за последние восемь лет шесть его книг были переведены с русского и три уже знакомых читателю романа переизданы. Прошлой осенью без всякой помпы вышли русский перевод «Лолиты», сделанный самим Набоковым, а также переработанный им сборник рассказов, названный «Квартетом Набокова», но публикация «возвращения к автобиографии» «Память, говори» — значительно переработанных и дополненных воспоминаний, впервые вышедших в свет в 1951 году под названием «Убедительное доказательство», — это событие, достойное того, чтобы на нем остановиться, так как это самая блестящая из написанных в наше время автобиографий и, как видно из неполной набоковской библиографии, его двадцать вторая книга на английском и тридцать вторая вообще, не считая пьес и рассказов, которые еще предстоит собрать в сборник, а также энтомологических работ, которые составят увесистый том. После издания «Подвига», который в настоящее время переводится Дмитрием Набоковым (чьи великолепные переводы его отца еще не получили достойной оценки), непереведенными останутся только два первых романа Набокова двадцатых годов, которые он считает «посредственными». Необычайный всплеск набоковианы демонстрирует твердость духа и несгибаемость человека, который опубликовал свои шедевры «Лолиту» и «Бледный огонь» в возрасте, соответственно, 56 и 62 лет. Набоков изведал судьбу писателя-эмигранта, когда западный мир, казалось, замечал исключительно его менее талантливых советских современников, и предстал перед нами не только как крупный русский писатель, но и как самый значительный из живущих американских романистов. Нет сомнений, какой-нибудь американский буквалист все еще печется о национальности Набокова и о том, куда «отнести» его, но эту надуманную проблему разрешил Джон Апдайк, назвав Набокова «лучшим английским прозаиком, имеющим сегодня американский паспорт». После Генри Джеймса, бывшего своего рода эмигрантом, ни одному другому американскому гражданину не удалось создать столько произведений. Набоков родился в 1899 году, когда родились и Хемингуэй, и Харт Крейн{178}, за год до Томаса Вулфа. Его как-то не воспринимаешь как их современника, и от этого невольно на ум приходит грустная мысль об американской литературе и задумываешься о том, какой замечательный успех выпал на долю Набокова. Может быть, не годится прибегать к языку, который больше к месту в отчетах «Дженерал Моторз», но по общему объему производства Набоков превосходит Фолкнера, единственного крупного американского писателя современности, чьи работы не уместятся на одной полке, и даже Драйзера, эту настоящую пишущую машину. По мастерскому владению слогом его можно сравнить разве что с Мелвиллом и Готорном, но поэтический строй виртуозной набоковской прозы, легкость и точность, с какими, кажется, сочинялось каждое его предложение, в конечном итоге делают его несравненным. Критике теперь нужно поспешать за Набоковым, и нетрудно предвидеть, каким половодьем статей и книг она разольется в следующем десятилетии, соревнуясь с недавним выбросом старых произведений Набокова. Этой осенью вышла первая книга о Набокове «Бегство в эстетику» Пейджа Стегнера, в которой разбираются пять романов, написанных на английском языке. «Труды Висконсинского университета по современной литературе» посвящают Набокову весь свой весенний выпуск, и к этому можно добавить, что автор «Лолиты» появляется на экране образовательного телевидения. Но, как и великолепная рецензия Мэри Маккарти на «Бледный огонь», эти фанфары заиграли слишком недавно, чтобы ими объяснить его репутацию, неприметно сложившуюся за десятилетие у нового поколения серьезных читателей и, что особенно примечательно, у молодых писателей, вроде Джона Барта{179}, Джерома Чарина, Джона Хоукса{180} и Томаса Пинчона{181}. Одна из радующих особенностей набоковского взлета, свидетельствующая о его здоровой природе, заключается в том, что, в отличие от стольких нынешних писателей, слава пришла к нему помимо неустанных стараний критиков. Подчеркнутая неприязнь Набокова к Фрейду и социальному роману будет по-прежнему отталкивать некоторых критиков, но есть причина, по которой он не сразу приобретет заслуженный статус, и более веская, чем то, что он не вписывался ни в одну из принятых школ или не гармонировал с Zeitgeist[198]; привыкшие к догмам формалистической критики читатели просто не представляли себе, как воспринимать работы, которые не считают нужным выстраивать мифические и символические «уровни значения» в строго упорядоченные ряды и совершенно отходят от постджеймсовских обязательных требований, предъявляемых к «реалистическому» или «импрессионистскому» романам, чтобы беллетристика была безличным продуктом чисто эстетического импульса, самодовлеющей иллюзией реальности, порождением последовательно выдержанной точки зрения или некоего абстрактного интеллекта, продуктом, из которого вытравляется всякая авторская позиция. Совсем по-другому выглядят и фантастичные, нереалистические и спиралевидные формы, в которых движется повествование даже его ранних произведений, они не оставляют сомнений в том, что Набоков всегда шел своим путем, и этот путь не имеет ничего общего с Великой Традицией романа, как ее видит Ф.Р. Ливис{182}. Но нынешняя слава Набокова говорит о радикальном пересмотре отношения к роману и этической ответственности романиста. Будущий историк романа как литературного жанра сможет утверждать, что именно Набоков, как никакой другой из живущих ныне писателей, не дал умереть этой форме искусства, не только открыв ее новые возможности, но и напомнив нам собственным примером о разнообразных эстетических ресурсах своих великолепных предшественников, таких, как Стерн и Джойс, который был скорее пародистом, чем символистом. Новое издание книги воспоминаний «Память, говори» дает возможность сделать несколько общих замечаний относительно набоковского искусства, о котором, как бы им ни восхищались, почти никогда не судят по тому, что оно есть на самом деле. Завзятый толкователь мог бы исписать сотни страниц, чтобы прояснить литературные аллюзии в «Лолите» и «Бледном огне», и все же оказаться бессильным определить, что же главное в переживаниях и методах Набокова. «Память, говори» дает поразительно много для того, чтобы постичь это. Вариант «Памяти…» 1951 года в мягком переплете пользовался успехом у широкой публики, но заверяю читателей, что переработанные воспоминания неповторимы, более сотни страниц нового текста и множество важных исправлений и дополнений значительно усиливают общее впечатление. Новое издание много выигрывает от восемнадцати фотографий Набокова, его семьи, его бабочек. Это не второстепенные документы, некоторые из них позволяют сделать разительное сопоставление: Набоков в гребной шлюпке, красивый кембриджский студент двадцати одного года в белом, открытый нараспашку русский романтик в духе Руперта Брука{183}; потом снимок, сделанный девятью годами позже, Набоков в непринужденной позе, выглядит не по годам старше, за спиной десяток лет изгнания, на лбу пролегли морщины, он пишет свой третий роман «Защита Лужина» (1930). Набоков также нарисовал для новой книги форзацы: карту набоковских владений и бабочку (она не названа, но это Parnassius mnemosyne, и вообще Набоков поначалу хотел назвать свои воспоминания — «Говори, Мнемозина»). Как и первое издание, расширенные «Другие берега» охватывают первые сорок лет жизни Набокова, — половина из них прошла в России, другая в эмиграции в Англии, Германии и Франции, откуда в 1940 году он выехал в Америку. Здесь история его знатной семьи прослеживается с XV века, и третья глава, где фигурировал дядя Рука, после смерти которого в 1916 году юный Набоков унаследовал его земли и состояние в несколько миллионов долларов, теперь выросла вдвое, чтобы дать место по возможности всему фамильному дереву. В четвертой главе содержится история другого рода. Отчасти в ней рассказывается о жизни русской эмиграции в Берлине и Париже (1922–1930 гг.), призрачных мирах, где Набоков зарабатывал на жизнь переводами, уроками английского языка и тенниса и, весьма удачно, первыми русскими кроссвордами, которые он сочинял для ежедневной эмигрантской газеты. В «Даре» (1938) он очень живо воссоздает картину эмигрантской литературной жизни, но на страницах этой книги Бунин, Алданов, Куприн, Марина Цветаева и другие писатели-эмигранты мелькают слишком быстро, и немало читателей сожалеет, что четвертая глава не увеличилась в пропорции к главе третьей, особенно если учесть, что существует лишь одно-единственное подробное исследование эмигрантского периода русской литературы (написанное Глебом Струве и доступное только на русском языке). Тем не менее сама мимолетность такого документального материала говорит о высоких достоинствах и редкой безупречности «Памяти…»: подобно набоковской беллетристике, созданная им панорама жизни в конечном итоге обращена вовнутрь, и воспоминания, дающие Набокову убедительные доказательства того, что он существует, складываются вовсе не из светских сплетен, которые многими литературными мемуаристами принимаются за личные переживания. Несмотря на то что «Память, говори» изобилует именами и лицами, самые откровенные места книги касаются одного только автора, в них описываются муки, радости и забвение времени, испытанные им во время погони за редкими бабочками, сочинением стихов и составлением шахматных задач. Но самые солнечные страницы вдохновлены воспоминаниями, «которые принадлежат гармоничному миру безоблачного детства», и Набоков воссоздает этот утерянный мир с необычайно трогательной нежностью: летние месяцы в поместье; зимы в Санкт-Петербурге; поездки на «нордэкспрессе»: Биарриц и Ривьера; вереница гувернанток и домашних учителей; тепло и веселье больших семейных праздников; элегантная обстановка англофильского дома — все, как говорится, из эры минувшей, что и делает «Память, говори», наряду с прочим, важным социальным памятником, хотя их автор может и не счесть это для себя лестным заключением. Богатых аристократов Набоковых нельзя назвать типичными столпами «Белой Руси», как их рисовала западная либеральная демонология — монокли, табакерки Фаберже и реакционные взгляды, правильнее сказать, что это была семья с долгой историей высокой культуры и государственной службы. Дед Набокова был министром юстиции при двух царях, провел в жизнь судебную реформу. Отец же Набокова придает особое звучание ностальгическим мемуарам своего аполитичного сына, так как был трагическим воплощением последних попыток несоветской интеллигенции создать в России демократическое общество. Юрист по образованию, он читал лекции в Императорском училище права, редактировал либеральные газеты, боролся с антисемитизмом, был знатоком Диккенса, плодовитым журналистом и ученым-правоведом, написал несколько книг и тысячи статей, в том числе «Кишиневская бойня», знаменитый протест против погромов 1903 года. «На банкете, — пишет его сын, — он отказался поднять бокал за здоровье монарха и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира». Лишенный императорским указом своего титула, он «решительно окунулся в антидеспотическую работу». Правительство оштрафовало его за страстные статьи по поводу суда над Бейлисом (Морис Самуэль несколько раз упоминает его в своей книге «Кровавые обвинения», вышедшей по совпадению одновременно с «Продажным ходатаем» Меламуда, и цитирует репортаж Набокова). Будучи вождем либеральной оппозиционной партии (кадетов), он избирается в Думу, заключается в тюрьму за издание революционного манифеста, входит в состав Временного правительства после революции 1917 года, затем бежит в Крым, где занимает пост министра юстиции в областном правительстве. В 1919 году он эмигрирует, в качестве соредактора выпускает в Берлине либеральную эмигрантскую ежедневную газету, пока в 1922 году не погибает (в возрасте 52 лет) на политическом митинге, прикрывая своим телом оратора от пуль двух убийц-монархистов. В одной из первых рецензий на «Память, говори» мистер Д.Дж. Энрайт тщательно уходит от упоминания чего бы то ни было из сказанного выше и делает вывод, что Набоков «любил отца и восхищался им» не за либерализм, а за его снобизм, результат его богатства и положения. Отсюда и мораль рецензии. То, что Набоков в Послесловии к «Лолите» называет своим «второстепенного сорта английским языком», никогда не поднималось до той виртуозности, какой отмечена «Память, говори». Используя столько поэтических приемов, сколько может выдержать проза, он разворачивает свои воспоминания в сочном, лучезарном стиле, который в самых экстатических местах становится чарующим, иначе его не назовешь. Когда он пишет о тех, кого любит больше всего, брызжущая проза возвышается до финального крещендо, как в конце первой главы, где он описывает «национальный обычай качания», которого удостоили его отца крестьяне после того, как вызвали из-за обеденного стола и он тут же уладил местные споры и согласился помочь деньгами: «Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыбился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоившимся навзничь и как бы навек на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мрении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среды плывущих огней, в еще не закрытом гробу». Такие же эффекты разбросаны по всей книге, и это отнюдь не свидетельство стремления автора к «красивости», что пахнет чем-то уничижительным, наводит на мысль о пустопорожнем словоизлиянии, разрыве между высокими словами и низменным предметом, потому что они изливаются из самых глубин набоковской души. Хотя приведенная цитата есть и в издании 1951 года, в том первом издании поразительно мало пространных пассажей об его отце. Этот факт, взятый вместе с той его краткой биографией, которую Набоков добавил к девятой главе, говорит о том, как ему трудно было писать об отце, и раскрывает особенно чувствительное измерение новой книги, которое может не сразу броситься в глаза. Девять новых страниц об отце рассказывают достаточно много. Незадолго до того найденный семейный альбом с вырезками помог Набокову освежить в памяти многое и без лишних эмоций описать в подробностях во всех отношениях примерную карьеру отца, но, по мере того как одно за другим встают на свое место повествовательные предложения, начинаешь понимать, что чувства Набокова к отцу так глубоки, что по прошествии 45 лет после его убийства они все еще в состоянии поглотить его, и эмоции, кажется, так и бурлят за крепостью фактов. В одном месте он прерывает очень короткий пассаж об отцовских рукописях и говорит: «Я трачу сейчас два часа на то, чтобы описать двухминутный бег его безупречного почерка». Эти новые страницы, неприукрашенные и выдержанные, остро контрастируют со звонкими, будоражащими воспоминания страницами, неожиданным образом представляя биографию его отца необычайно выдающимся жизненным путем. Завершение крещендо первой главы задает тон всему изложению до самого конца книги. Невзирая на безразличие Набокова к музыке, он пишет о том, как память пользуется «врожденной гармонией» и «перемежающейся тональностью», разрешением диссонанса в какофонии звуков, и все построение книги носит полифонический характер. В каждой из пятнадцати (в русской версии четырнадцати) глав звучит какой-то ведущий мотив, и названия глав, впервые появившихся в виде отдельных журнальных публикаций, лучше всего передают эти мотивы: «Портрет моей матери», «Мое английское образование», «Бабочки», «Изгнание» и т. д. (см. набоковское предисловие в английской версии). Эти «яркие блоки ощущений» располагаются грубо хронологически, но в последовательное повествование почти в ритмически ассоциативной прогрессии вплетаются отдельные, взятые вразброд темы, которые, будучи отслежены и выявлены автобиографом, сводят время к удобной абстракции. Каждая глава, каждая по-своему и в то же время в разной степени, делает шаг к сведению воедино перекручивающихся тематических линий, и складывается целостная оркестровка, которая в свой кульминационный момент затрагивает струну, чье резонирующее звучание создает сверкающий обобщающий образ. Поскольку самосознание для Набокова — настоящий оптический прибор, его попытки вернуться в прошлое порой кажутся ощутимо зримыми. Перед читателями разворачивается борьба, и он разделяет с мемуаристом ту радость, когда Мнемозина повинуется повелению Набокова и не связанные друг с другом, смутно вспоминаемые моменты — безмолвные образы, которые то наплывают в фокус, то выпадают из него, вдруг сливаются воедино и оживают, высвобождая каскад реверберирующих звуков и картинок, как мы это видим в конце восьмой главы, когда, воссоздав семейный пикник, Набоков слышит, как «из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций», — словно купающиеся дружно аплодируют бравурности набоковского исполнения, подвигу памяти, частью которого стало и их собственное блестящее воссоздание. «Память, говори» — не только мемуары, это, вместе с пятой главой «Гоголя» (1944), идеальное предисловие к набоковскому искусству, потому что самый внятный критический разбор набоковского творчества находим в его собственных книгах. Самые откровенные его романы-пародии оборачиваются к самим себе и себя же сами комментируют: отдельные места в «Даре» и «Истинной жизни Себастьяна Найта» (1941) просто и ясно описывают повествовательную стратегию более поздних романов. Возможно, то, что заботит Набокова, лучше всего можно выразить, соединив начальное и завершающее предложение его мемуаров: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями». В конце книги он описывает, как они с женой впервые восприняли океанский лайнер, который должен был увезти их с сыном в Америку, увидев его сквозь множество отвлекающих деталей окружающего пейзажа: «Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как, например, голубые и розовые сорочки, пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатой кошкой чугунный балкончик, — можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано („Найдите, что спрятал матрос“), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Для «Соглядатая» автор нашел превосходное название; постижение «реальности» (слово, которое, как говорит Набоков, всегда должно браться в кавычки) — это прежде всего волшебство видения, и наше существование не что иное, как сменяющие друг друга попытки разгадать «картинки», мелькающие в эту короткую щелочку света. И искусство, и природа для Набокова — «игра сложного волшебства и вымысла», и процесс чтения и перечитывания его романов — это игра воображения, о таких романах Е.X. Гомбрич пишет в «Искусстве и иллюзии»: все есть, все видно невооруженным глазом (никаких таинственных символов, мерцающих где-то в тайниках глубин), но требуется проникнуть в trompe l'oeil — обманчивую оболочку, — за которой в конце концов откроется почти совершенно отличное от того, что ожидаешь увидеть. Кажется, что Набоков заранее рисует в своем воображении игру жизни и эффект своих романов: всякий раз, когда «загадочная картинка» разгадана, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Слово «игра» в обычном употреблении подразумевает известную фривольность, легкость, несерьезность, уход от сложностей жизни, но Набоков противопоставляет этой пустоте свои правила игры. Его «игра миров» (как говорил Джон Шейд в «Бледном огне») идет в устрашающе раз и навсегда заданных границах, которые установлены «двумя черными вечностями», и, по существу, не что иное, как поиск упорядоченности, «своего рода скоррелированной модели всей игры», которая требует от участников полного напряжения умственных сил. Автор и читатель — «игроки», и когда в «Памяти…» Набоков описывает работу над составлением шахматных задач, он одновременно излагает свою систему вымысла. И если возьмешь авторский «ложный след» и поддашься на «видимость правдивости», наилучшим образом передаваемую пародией, и поверишь, скажем, в «искренность» гумбертовской исповеди и в то, что он очистился от своей вины, или что повествователь в «Пнине» и в самом деле озадачен враждебностью к нему Пнина, или что эта книга Набокова — иллюзия реальности, двигающейся по естественным законам нашего мира, то это значит, что ты не только проиграл автору эту игру, но и то, что ты, по всей видимости, далеко не в выигрыше и в «игре миров», в своем собственном разгадывании картинок. «Память, говори» заявляет все главные темы набоковской прозы: встреча со смертью, борьба с невзгодами изгнания, поиски полного самосознания и «свободного мира безвременья». В первой главе он пишет: «В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость». Главные герои Набокова живут в кластрофобных, похожих на тюремные камеры, комнатах, и Гумберт, Цинциннат в «Приглашении на казнь», и Круг в «Под знаком незаконнорожденных» — все они, по сути дела, заключенные в тюрьме. Стремление вырваться из этой круглой тюрьмы (не случайно героя «Под знаком незаконнорожденных» зовут Круг) во всех произведениях Набокова принимает много форм, и его собственные отчаянные и временами смешные попытки, как они описаны в «Памяти…», всевозможными способами пародируются кознями призраков в «Соглядатае», в «Бледном огне» (связь Гэзель Шейд с «Домашним Привидением», ее спиритические писания в амбаре, посещаемом духами) и в рассказе «Сестры Вейн», где в четвертом абзаце акростиха раскрывается, что два живых образа из первых абзацев повести были продиктованы умершими сестрами Вейн. Хотя «Память, говори» проливает ясный свет на самопародийное содержание набоковской прозы, никто еще в полной мере не понял скрытого эстетического смысла этих превращений или той степени, в какой Набоков сознательно проецирует в свои произведения собственную жизнь. Что и говорить, это опасная тема, здесь легко быть неправильно понятым. Конечно, Набоков далек от плохо закамуфлированных описаний собственных житейских перипетий, которые слишком часто выдают за художественную прозу. Но для понимания его искусства крайне важно осознать, как часто его романы — это импровизация на автобиографическую тему, и в «Памяти…» Набоков добродушно предвосхищает своих критиков: «Будущий специалист в таком скучном разделе литературоведения, как автобиографизм, будет с удовольствием сопоставлять ситуацию главного героя в моем романе „Дар“ с тем, что было в жизни». Далее он упоминает о своей привычке дарить своим героям «живые мелочи» из своего прошлого, но это не просто «мелочи», которые Набоков магическим пассом превращает в «рукотворный мир» своих романов, как обнаруживает скучный литературовед, сравнивая главы одиннадцатую и тринадцатую с «Даром» или, поскольку это главный предмет у Набокова, сравнивая отношение к эмиграции, выраженное в этой книге, с подходом к ней в других его произведениях. Читатель его мемуаров узнает, что прадед Набокова был исследователем Новой Земли и составил ее карту (где набоковская Река названа его именем), и в «Бледном огне» Кинбот воображает, что он изгнанный из страны король Земблы. Он видит и порождаемые больным воображением фантастические картины роскошного набоковского прошлого, и невосполнимые утраты поэта, о которых Набоков писал в 1945 году: «А у морей, где я утратил жезл, / Я существительных имен услышал ржанье»[199] («Вечер русской поэзии»). Живые воплощения набоковских богов не печалятся об «утраченных банкнотах». Их ситуация, хотя и усугубленная специфическими невзгодами их жизни, удел отнюдь не только изгнанников. Эмиграция соотносится со всеми человеческими потерями, и Набоков с бесконечной нежностью пишет о том, какая боль пронзает от этого сердце; даже в таком его наиболее пародийном романе, как «Лолита», сквозь всю игривость повествования пробивается крик боли. «Пароль, — говорит Джон Шейд, — сострадание». У Набокова изгнанники — это всегда эмоциональные и духовные изгнанники, замкнувшиеся в самих себе, ставшие узниками одолевающих их воспоминаний и желаний в солипсистской «тюрьме зеркал», где они не в состоянии отличить стекла от самих себя (пользуясь еще одним тюремным тропом из рассказа «Помощник режиссера»). Больше всего Набокова занимает преодоление солипсизма. Он не предлагает замкнуться в самом себе, в его подходе к этой теме слышится безошибочный нравственный резонанс; сказать, что он благополучно солипсизировал Лолиту, Гумберт может только в начале «Лолиты», критики часто проходят мимо того, что переживают эмигранты, чувствуя на себе неприветливые испытывающие взгляды. В «Пнине» недалекий добряк профессор в конечной главе выступает в новом и довольно неприглядном виде, когда рассказчик берет действие в свои руки и заявляет, что наследует дело Пнина, но отнюдь не его существование. Джон Шейд просит нас пожалеть «изгнанника, старика, умирающего в мотеле», и мы жалеем, но в Комментариях Кинбот говорит, что «король, теряющий себя в зеркале изгнанника, повинен (в цареубийстве)». «Что прошло, то прошло», — говорит Лолита Гумберту в конце романа, когда он просит ее вернуться к тому, что безвозвратно миновало. «Лолита» — книга о чарах, источаемых прошлым, и собственный пародийный ответ Набокова на его предыдущую книгу — «Убедительное доказательство». Мнемозина теперь играет роль черной музы, а ностальгия выглядит гротескным cul-de-sac[200]. «Лолиту» меньше всего можно назвать «автобиографическим» произведением, но даже в ее полностью вымышленной форме она не теряет связи с глубочайшими тайниками набоковской души. Подобно поэту Федору в «Даре», Набоков мог бы сказать, что пока удерживает все «на самом краю пародии… с другой стороны была пропасть серьезности, и вот я пробираюсь по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее». Таким образом, подчинившаяся фантазии автобиографическая тема начинает жить новой жизнью: замороженная в искусстве, остановившаяся в пространстве, утратившая временные рамки, она приобрела новое качество — с ней можно жить. Когда похожий на шута Градус по ошибке убивает Джона Шейда в книге, написанной через 40 лет после того, как точно так же был убит отец Набокова, на память приходит бабочка, которую семилетний Набоков поймал и упустил, но которая «в конце концов попалась ему после 40 лет погони на иммигранте-одуванчике… недалеко от Боулдера». Начинаешь понимать, каким образом искусство делает для Набокова жизнь возможной и почему он называет «Приглашение на казнь» «голосом скрипки в пустоте». Его искусство фиксирует постоянный процесс становления — эволюцию собственного «Я» художника через посредство его художественного творчества, — и цикл метаморфозы насекомых Набоков делает всеобъемлющей метафорой для определения того, как протекает процесс, опираясь на биологические исследования, которым посвятил жизнь и которые установили у него в голове «связь между бабочками и центральными проблемами природы». Примечательно, что часто в конце набоковского романа, когда художественный «цикл» завершен, фигурирует бабочка или мотылек. «Память, говори» только подтверждает то, на что намекает явное участие Набокова в жизни своих произведений, как это было в «Приглашении на казнь», когда Цинциннат пытается выглянуть за решетку на окне своей камеры и видит на тюремной стене надпись: «Ничего не видать. Я пробовал тоже», — сделанную четко различимым почерком «директора тюрьмы», т. е. автора, чье вмешательство замыкает книгу в самой себе и лишает ее всякой реальности, кроме реальности «книги». Набоковские заметки о Гоголе помогают определить это замыкание на самого себя. «Вся реальность — это маски», — пишет он, и повествование самого Набокова тоже маски, скорее даже инсценирование набоковских фантазий, чем воспроизведение натуралистического мира, а поскольку именно этого ожидает и требует от художественного произведения большинство читателей, многим абсолютно невдомек, что делает Набоков. Они не привыкли к «намекам на что-то еще, скрывающееся за грубо замалеванными сценами», где подлинные сюжеты кроются за очевидными. Таким образом, во всей художественной прозе Набокова существуют два сюжета: действующие лица в книге и самосознание их создателя, которое стоит над ними, — реальный сюжет, который проглядывает в «провалах» и «зияниях» повествования. Это лучше всего описывается, когда Набоков обсуждает самого одинокого и самого высокомерного из эмигрантских писателей, Сирина (его эмигрантский псевдоним): «Реальная жизнь протекает в его фигурах речи, которые один критик (Набоков?) сравнивал с окнами, смотрящими на окружающий мир… само собой разумеющимися следствиями тенью скользящего хода мысли». Окружающий мир — это ум и дух автора, чья личность, психическое выживание и «разнообразная осведомленность» в конечном итоге одновременно и предмет, и продукт книги. Как бы ни открывались «окна», в них всегда видно, что «поэт (сидящий в шезлонге в Итаке, Нью-Йорк) всему ядро». Со своего рождения в «Соглядатае» (1930) до полного возмужания в «Приглашении на казнь» (1936) и апофеоза в «спиральной обители» «Бледного огня» (1962) стратегия загибания в спираль определяет структуру и смысл романов Набокова. Нужно постоянно помнить «о той печати, которую оставляет верховная сила, — цитирую Фрэнка Лейна из „Бледного огня“, — превращая всю эту закрученную в спираль штуку в одну великолепную прямую»[201], потому что только в этом случае становится возможным увидеть, как «очевидные сюжеты» спиралью пронизывают «реальные» то с одной, то с другой стороны. Оставив в стороне автобиографические темы, спираль образуется шестью способами; они тесно взаимосвязаны, но здесь в интересах ясности мы их рассмотрим по отдельности. Пародия. Как шуточное воспроизведение пародия составляет главную основу набоковской спирали, трамплин для прыжка «в высшие сферы серьезных чувств», как отзывается рассказчик в «Истинной жизни Себастьяна Найта» о найтовских романах. Из-за того, что пародия повторяет либо другое произведение искусства, либо самое себя, она никак не может быть натуралистической беллетристикой. Фактура пародии или самопародии создается исключительно мыслью — это словесный водевиль, серия литературных перевоплощений, выполняемых автором. Когда Набоков называет своего героя или даже оконную штору «пародией», то это означает, что его создание не может обладать никакой другой реальностью. В таком романе, как «Лолита», в котором меньше всего «провалов» по сравнению с любым другим его романом после «Отчаяния» (1934), спираль держится почти на одной только пародии. Совпадение. «Память, говори» полна примеров набоковского пристрастия к совпадениям. Поскольку они взяты из его жизни, эти случаи наглядно показывают, как воображение Набокова реагирует на совпадения, чтобы проследить жизненный узор, добиться потрясающих интерпретаций пространства и времени. Гумберт поселяется в доме Шарлотты Гейз под номером 342 по Лоун-стрит; они с Лолитой пускаются в свое преступное путешествие через всю страну из комнаты 342 в отеле «Зачарованные охотники» и за один год в пути они зарегистрируются в 342 мотелях и гостиницах. Если принять во внимание возможность бесчисленного количества математических комбинаций, то эти цифры, по-видимому, должны наводить на мысль, что он в ловушке у Мак-Фатума (пользуясь гумбертовской имперсонификацией). Но она, несомненно, придумана с определенной целью, как и тот экземпляр Who is Who in the Limelight за 1946 год, который, как хотел бы убедить нас Гумберт, он нашел в тюремной библиотеке в ночь перед тем, как написать главу, которую мы читаем. Справочник не только предвосхищает действие романа, но в заметке о «Долорес Квайн» нам сообщают, что ее дебют «состоялся в 1904 году в „Не разговаривай с чужими“», а в заключительном абзаце романа, почти через триста страниц, Гумберт советует отсутствующей Лолите: «Не разговаривай с чужими» — деталь, показывающая невероятный контроль за изложением, если учесть, что речь идет о якобы не отредактированном черновике исповеди, написанной в течение 56 сумбурных дней. Несомненно, «кто-то еще знает», как изрекает таинственный голос, прерывающий повествование в «Под знаком незаконнорожденных». Нельзя считать совпадением то, что совпадения следуют в книге за книгой. Вымышленные персонажи из одной «реальности» то и дело появляются в другой: воображаемый писатель Пьер Делаланд цитируется в «Даре», эпиграф из его произведения взят для «Приглашения на казнь» (и неизменно опускается в изданиях с мягким переплетом); Пнин и еще один персонаж упоминают «Владимира Владимировича» и объявляют его энтомологию аффектацией; в «Бледном огне» проносится ураган Лолита и мельком показан Пнин, сидящий в университетской библиотеке. Несуществующие или прозаические имена вместе с пророческими числами повторяются с незначительными вариациями во многих книгах и не имеют при этом ни малейшего смысла, кроме того, что их повторяет кто-то, стоящий по ту сторону произведения, и что все они проявления общей модели. Моделирование. Набоковское пристрастие к шахматам, языку, чешуекрылым породило самое хитроумное загибание спиралей в его произведениях. Подобно играм, к которым прибегает пародия, каламбуры, анаграммы и перестановка звуков в словах, все они обнаруживают направляющую руку того, кто играет словами; их темы — все равно что стены зеркальной тюрьмы. В несколько книг вплетаются шахматные игры, и даже в «Защите Лужина», первом переведенном на английский романе и, соответственно, наиболее натуралистически выстроенном, шахматная тема указывает на силы, которые выше понимания гроссмейстера Лужина («Так, к концу четвертой главы я делаю непредвиденный ход в углу доски», — пишет Набоков в предисловии к английскому изданию). О важности мотива с перестановкой звуков уже говорилось, и он закручивается спиралью, пронизывая набоковские книги: в «Приглашении на казнь», совсем перед тем, как ему наступает время умирать, Цинциннат нежно гладит гигантского мотылька; в «Бледном огне» бабочка садится на руку Джона Шейда за минуту до того, как его убьют, а в конце «Под знаком незаконнорожденных» вмешивается замаскированный автор и разрушает «явный заговор», а когда книга завершается, он заглядывает в окно и, наблюдая, как ночная бабочка бражница бьется за занавеской, думает про то, какая это «добрая ночь, чтобы бражничать». «Под знаком незаконнорожденных» вышла в 1947 году, и не случайно в следующей книге Набокова (1955) Гумберт встречается с Лолитой именно в 1947 году и тем самым сохраняет непрерывность авторского «воображаемого времени», давая ему возможность продолжать охоту за тем чудесным двойником мотылька через весь субстрат нового романа, самую фантастическую охоту за бабочкой за всю его карьеру энтомолога. «Признаюсь, — пишет Набоков в конце пылкой главы о бабочках в „Других берегах“, — я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой». Произведение в произведении. Способы самоотнесения, к которым прибегает Набоков, вставленные в книгу под косыми углами зеркала, конечно же, авторский прием, потому что никакая точка зрения, заложенная в художественном произведении, наверное, не сможет объяснить создаваемые ими головокружительные инверсии. Действие в «Истинной жизни Себастьяна Найта», книге, содержание которой якобы состоит в сборе материала для предполагаемой литературной биографии единокровного брата рассказчика, в конце концов совершенно отодвигает в сторону личность самого рассказчика, преломляется в первом написанном Найтом романе «Граненая оправа» — удалой пародии на детективную историю. Подобно елизаветинской пьесе в пьесе, пьеса Куильти в «Лолите» «Зачарованные охотники» развивает мысль, которую всерьез можно принять за комментарий ко всему роману. Небеллетристические составные «Бледного огня»: предисловие, поэма, комментарии и указатель — создают разворачивающийся спиралью перекрестных ссылок лабиринт с зеркальными стенками, замкнутый космос, дать жизнь которому может только автор и который никак не может быть плодом воображения «ненадежного» рассказчика, от лица которого ведется повествование. В «Бледном пламени» реализуются заложенные в этом литературном приеме, произведение в произведении, возможности, уже проявившиеся 24 годами раньше в литературной биографии, ставшей четвертой главой «Дара». И если не очень приятно обнаруживать, что действующие лица в «Даре» также и читатели четвертой главы, то потому, что это наводит на мысль, как говорит Хорхе Луис Борхес, что «если персонажи художественного произведения могут быть читателями или зрителями, то мы, его читатели или зрители, можем быть художественным вымыслом». Драматизация романа. Набоков написал несколько пьес на русском языке, среди них одна проба пера в научной фантастике, «Изобретение Вальса» (1938), переведенная и изданная в прошлом году. Поэтому неудивительно, что набоковские романы разрастаются театральными эффектами, превосходно подчеркивая его драматический дух. Исследовать проблемы индивидуальности поэтическими средствами можно, примеряя и скидывая маску. Более того, вряд ли можно найти лучший способ продемонстрировать, что все в книге кем-то управляется, чем делая вид, будто она ставится на сцене: в «Приглашении на казнь» «на дворе разыгралась — просто, но со вкусом поставленная — летняя гроза», а в «Смехе во тьме» «помощник режиссера, которого Рекс имел в виду, был неприметным двуликим, троеликим, похожим на самого себя Протеем». Набоков, воплощенный Протей, всегда присутствует в своих произведениях с маской на лице: как импресарио, сценарист, режиссер, сторож, диктатор и даже как актер на эпизодической роли (Седьмой охотник в пьесе Куильти, вставленной в «Лолиту», Молодой поэт, который утверждает, что все в этой пьесе придумано им). И это только несколько примеров его переодевания как тайного агента, двигающегося, словно Просперо в «Буре», среди своих собственных творений. Шекспир в значительной степени предрек (они с Набоковым даже родились в один день) и скрипящие, потрескивающие звуки приводимой в движение вращающейся сцены, когда в конце «Приглашения на казнь» распадается начатая мизансцена, это набоковский вариант треснувшей и разломившейся волшебной палочки Просперо и его обращения к актерам: Окончен праздник. В этом представленье Авторский голос. Все спиральные эффекты ввинчиваются в голос автора — Набоков называет это «антропоморфическим божеством, воплощенным во мне», — которые непрестанно вторгаются во все его романы после «Отчаяния», особенно под конец, когда он полностью берет книгу на себя. «Лолита» составляет в этом отношение исключение. За все отвечает «божество»: оно начинает повествование, только чтобы прервать и пересказать весь отрывок заново; оно останавливает сцену, чтобы «повторить» ее на экране главы, или возвращает слайд в проектор, чтобы показать как следует; оно вмешивается с режиссерскими указаниями или чтобы похвалить или одернуть актера, поправить реквизит; оно раскрывает, что у персонажей «стеганые тела» и все они авторские куклы и что все это выдумка; оно расширяет «провалы» и «дыры» в повествовании до такой степени, что то рассыпается к заключительному слову «конец», как только снимаются направляющие векторы, распускается труппа и растворяется в воздухе даже сам вымысел, оставляя после себя самое большее отпечаток в ткани пространства в форме сделанных «божеством» набросков для «старомодной мелодрамы», которую он, возможно, в один прекрасный день напишет и которая излагает содержание «Бледного огня», книги, только что нами прочитанной. Головокружительное окончание набоковского романа требует от читателей сложной реакции, на которую многие из них, приученные за свою жизнь к реалистическим романам, просто не способны. Однако у детей, как показывает их искусство, другое видение. Прошлым летом об этом мне напомнили мои собственные дети, трех и шести лет, когда они, сами того не подозревая, продемонстрировали, что если только они не изменятся, то будут в числе идеальных читателей Набокова. Однажды мы с женой соорудили для них кукольный театр. Укрепив сцену на спинке кушетки в гостиной, я спрятался за ней и принялся двумя руками двигать над головой куклами. Кушетка и декорации на сцене отлично прикрывали меня, и я мог выглядывать поверх спинки и видел, что зрелище сразу захватило их и они буквально как загипнотизированные следят за моей импровизированной пьеской, которая заканчивалась тем, что терпеливый отец не выдерживал шалостей и шлепал шалуна сына. Но, увлекшись бурным финалом собственной истории, кукольник опрокинул весь театр, и он рассыпался по полу кучей картонок, деревяшек и тряпочек, а я в это время сидел в согбенной позе и выглядывал из своего убежища, так что моя голова торчала над спинкой кушетки, а руки с надетыми на них куклами и голыми запястьями застыли в воздухе. Несколько мгновений дети пребывали в трансе, все еще поглощенные действием и с открытыми ртами уставившиеся в пространство, туда, где только что был театр, и совершенно не видели меня. Затем последовала замедленная реакция, для создания которой комедиографу понадобилась бы целая жизнь, и они разразились безудержным хохотом, какого мне еще не приходилось видеть, — они смеялись не столько над моей неуклюжестью — для них в этом не было ничего нового, сколько над моментами своего полного слияния с несуществующим миром и над тем, как гибель этого мира показала им, что такое подлинность большого мира, а также что значит их повседневное старание управлять им и что есть созданные ими иллюзии. Смеялись они и над тем, что я пережил со всей этой катавасией, но в то же время они увидели, как легко провести их и обмануть их доверчивость, а то, что они никак не могли остановиться, показало в конце концов, что они напуганы происшедшим и только смех мог придать им уверенности в новом открывшемся им мире. Когда я недавно провел четыре дня в гостях у Владимира Набокова в Монтрё, Швейцария, чтобы взять у него интервью для «Трудов Висконсинского университета» и поговорить о моей работе по изучению его творчества, я рассказал ему об этом случае и о том, как он раскрыл мне глаза на литературную спираль и на реакцию, которую Набоков надеялся вызвать у своих читателей в «конце» романа. «Верно, верно, — сказал он, выслушав меня. — Вы должны вставить это в свою книгу». Пародируя полное самозабвения слияние читателя с персонажем, легковесность чего надевает на сознание шоры, Набоков получает возможность создавать то чувство отстраненности, которое необходимо для многостороннего пространственного взгляда на его романы. Тогда читатель «Бледного огня» без труда увидит, что неумные замечания, разбросанные по чудовищно самодовольным комментариям Кинбота к поэме Шейда, принадлежат лишь одному из четырех внятно слышимых голосов, которые принадлежат последовательно сменяющим друг друга «серийным „Я“»: тому, что у всех на виду, его вымышленной ипостаси, за безумными штудиями которой скрываются страх и отчаяние, испытываемые другим «Я», Боткиным, «живущим, как Тимон, в пещере», чей страдальческий голос так часто прорывается сквозь ненамеренную комедию, когда Кинбот разражается величественными стенаниями, умоляя: «Дорогой Иисус, ну, сделай что-нибудь», — или жалуясь: «Мигрень сегодня разыгралась еще хуже», а то вступает в спор с собственным анаграмматическим «Я» по поводу эффективности или способности самоубийства. Под конец «Бледного огня» «голоса» сливаются в один властный голос, который вообще отказывается от художественного вымысла, а затем, добавив указатель, показывает, что ситуацией в книге владеет автор и что он опережает боткинские «сумерки ума». От указателя читатель переходит к целостному видению романа. Увиденные со всех сторон, его четыре измерения — чувственное восприятие, память, воображение и смерть — ощущаются одновременно; Боткин, Кинбот, король Карл и обложивший со всех сторон их «подбитую смертью жизнь» Градус, этот реактивный Ангел Смерти — вот та идея и реальность, которая отбрасывает свою тень на всю книгу, ее создания и создателя. Так становятся отчетливо видимыми «два сюжета», разыгрываемые в набоковском кукольном театре, и они обрисовывают целиком весь замысел его работы: из романа в роман его герои пытаются вырваться из набоковской зеркальной тюрьмы, стремясь познать самих себя, чего сумел достичь только творец, который их создал, — процесс сворачивания спирали, соединяющей его искусство с его жизнью и отчетливо указывающей на то, что самого автора в этой тюрьме нет, что он воздвиг ее, встал над ней, как на одном из рисунков Саула Штейнберга (которого высоко ставит Набоков), где изображается «человек, рисующий ту самую линию, из которой вытекает его жизнь». Но процесс закручивания Набоковым спирали, всеобъемлющей перспективы, к которой он хочет нас приобщить в романе, вроде «Бледного огня», лучше всего описан в пятнадцатой главе английской версии «Других берегов», где Набоков говорит о нежелании «физиков обсуждать наружную сторону внутреннего пространства, где расположено искривление, ибо всякое измерение предполагает определенную среду, в которой оно может функционировать, и если при спиральном закручивании вещей пространство сворачивается сходно со временем, а время, в свою очередь, сворачивается сходно с мыслью, тогда, естественно, приходит черед другого измерения, может быть, особого пространства, не того, старого, в котором мы прижились, если только спирали снова не оборачиваются порочным кругом». Взгляд на роман с его «внешней фабулой» в конце концов пробуждает в нас благоговение и наполняет сердце новым содержанием, потому что «при спиральном закручивании вещей» такое сопереживание захватывает ум автора, чье глубоко гуманистическое искусство утверждает способность человека не теряться перед лицом хаоса и упорядочивать его. Alfred Appel, Jr. Nabokov's Puppet Show // New Republic. 1967. Vol. 156. № 2 (January 14). P. 27–30; № 3 (January 21). P. 25–32. (перевод В. Артемова) Джон Апдайк{184} Набоковская ностальгия — потеря для американской культуры{185} Увы, Набоков не желает быть американским писателем. Он переехал в Швейцарию и, вместо того чтобы сочинить еще одну прелестную, демоническую и невообразимую книгу в духе «Бледного огня», носится с запоздалыми планами: переводит свои второстепенные русские книги («Отчаяние», «Соглядатай», «Изобретение Вальса») на английский язык, защищает в «Энкаунтере» свой роскошный, но непризнанный перевод «Евгения Онегина» и переводит «Лолиту» на русский — воистину посмертный маневр, который тоже вряд ли принесет ему широкое признание. Его величие здесь, увы, не проявляется. На мой взгляд, лучшее, что он написал, — это его американские романы с их безудержной легкомысленностью и жестокостью, более человечные, чем проза, созданная им в Европе. В Америке, через двадцать лет изгнания и полной изоляции, его невероятный стиль нашел для себя предмет столь же непостижимый, как и он сам. Набоков заново открыл чудовищность нашей цивилизации. Его очаровательный астигматический взгляд воспроизводит не только пейзаж — зловещие лесистые окраины, огромные пустыри, трогательный и бренный хлам придорожной Америки, — но и тоскующих граждан одичавшего общества, которые отчаянно хватаются за любовь, не имея ничего иного. Если тот, кто выдумал Джона Шейда, Шарлотту Гейз, Клэра Куильти и Уэйндельский колледж, где преподавал бедный Пнин, посвятит остаток своих дней копанию в русских закромах своей памяти, для Америки это будет потерей куда более прискорбной, чем отставание в космической гонке. Такие же опасения вызывает и предложенное вниманию американских читателей Набокова исправленное издание его биографии «Память, говори», главы из которой печатались в «Нью-Йоркере» с 1948 по 1950 г. и в 1951 г. составили книгу «Убедительное доказательство». Читателю ясно, что из пятнадцати глав книги двенадцать повествуют о счастливом детстве старшего отпрыска петербургской аристократической семьи, а в трех последних кратко, но столь же чарующе обрисована его изгнанническая жизнь в Кембридже, Берлине и Париже. Никогда еще Набоков не писал по-английски так хорошо и пленительно, как в этих воспоминаниях. С любовной точностью и неисчерпаемым остроумием, блестяще используя свой многолетний опыт энтомолога, с вдохновением и атеистической верой в магию сравнений и сакральный смысл утраченного времени Набоков творит из своего прошлого великолепную икону — оправленную в драгоценные камни, лишенную перспективы, недосягаемую. Книга отмечена джойсовской виртуозностью, но ощутимей всего в ней присутствует Пруст — в причудливых метафорах, в картинах природы и в повиновении могуществу памяти. Впрочем, превратив Иллье в Комбре, Пруст сделал свое детство доступным каждому, Набоков же сузил круг своих читателей, исходя из того, что лишь русские эмигранты, аристократичные и образованные, могут испытывать столь утонченную ностальгию. Исправления, которые я обнаружил, тщательно сличив книгу с изданием 1951 г., еще больше сужают круг ее читателей. Вернувшись в Европу и посоветовавшись с сестрами и кузенами, автор исправил свои воспоминания. Множество новых сведений о роде Набоковых, обилие дат в скобках и двойных фамилий его предков, породнившихся с прусской знатью, было втиснуто в третью главу. Искусная сухая биография отца ныне открывает главу девятую. (Сравните ее с гимном сыновнего восхищения в романе «Дар».) В книге названы по имени все садовники и таксы, рассортированы учителя и принесены извинения двоюродному брату Сергею, обойденному молчанием в прошлом издании. Некоторые вставки удачны (игра в теннис во 2-й главе, ухаживанье за Тамарой в 12-й главе и т. д.), но временами предложения прихрамывают, перегруженные новыми уточнениями, а виньетка «Мадмуазель О» из 5-й главы сильно поскучнела из-за дописанного постскриптума. Добавления и милые, но мешающие воображению фотографии не воскрешают прошлое, а придают книге сходство с семейным альбомом. <…> John Updike. Nabokov's Look Back a National Loss // Life 1967. Vol. 61. 13 January. P. 9-75. (перевод А. Курта) Александр Верт{186} Рец.: Speak, memory. London: Weidenfeld & Nickolson, 1966 Когда читаешь эту книгу, то устоявшиеся в голове литературные ценности претерпевают некий сдвиг. Говоря о своем отце, Владимире Дмитриевиче Набокове, лидере конституционно-демократической партии, члене Первой думы (1906), ведущем публицисте либеральной газеты «Речь», основанной во время революции 1905 года и активно влиявшей на формирование общественного мнения в России вплоть до Октябрьской революции 1917 года, г-н Набоков вспоминает: «Он много писал, в основном на политические и криминальные темы. Он был тонким ценителем поэзии и прозы, блестяще знал творчество Диккенса и, наряду с Флобером, высоко ценил Стендаля, Бальзака и Золя, на мой взгляд, трех скучнейших посредственностей». Итак, на одной чаше весов «скучнейшие посредственности»; на другой, — да будет благословен издатель, — г-н Набоков, «самый удивительный писатель XX века». И чем это, поинтересуется читатель, он так удивителен, что затмил не только Стендаля, Бальзака и Золя, но и любого мало-мальски известного писателя за последние 67 лет? Он написал с десяток романов, среди которых скандально известная «Лолита» и вычурный, слегка садистский «Пнин». Но что хотел ими сказать автор? Любовь критиков к Набокову зиждилась в первую очередь на его «великолепном владении английским языком», прихотливым, изысканным, рафинированным, доведенным до совершенства, благодаря собственному кропотливому труду, стараниям бесконечных гувернеров и гувернанток, пестовавших мальчика в дореволюционном Петербурге, а также трех лет, проведенных в Кембридже. В 1922 г. в возрасте 23 лет блестящий молодой «Белый русский» получил диплом с отличием. «История моего обучения в английском колледже, — говорил он, — в действительности есть история моих попыток стать русским писателем». Но по большому счету именно в этом он как раз и не преуспел; настоящий успех пришел к нему лишь тогда, когда он стал писателем американским, взять, к примеру, «Лолиту», «Пнина» или любое другое его произведение. Сейчас выходит его автобиография (переработанное издание старой книги), знакомящая читателя в основном с детством Набокова в дореволюционной России. Она не имеет ничего общего с тем, что принято считать классической русской биографией, такой, как у Максима Горького (одного из betes noires[203] г-на Набокова), или с книгами писателей XIX века, которых мэтр презрительно называет «ужасно занудными», сравнимыми разве что с американскими провинциальными писаками. Правда, Чехов не попал в черный список зануд, но г-н Набоков и его недолюбливает — хотя бы за то, что тот был груб с одной из его (Набокова) тетушек{187}: «Тетушка Прасковья была весьма образованной, добрейшей, очень элегантной дамой; в голове не укладывается, чем она могла настолько досадить Чехову, позволившему себе выплеснуть свою ярость [sic!] в письме к сестре, датированном 3 августа 1888 и впоследствии опубликованном»[204]. Что до вещей, написанных после революции, то о них Набокову совершенно нечего сказать — даже о таких «бунтарях», как Замятин, Ахматова или Пастернак; для него Россия погибла в тот мартовский день 1919 года, когда юный Набоков в Севастополе сел на борт греческого теплохода, идущего в Константинополь, откуда он направит свои стопы в Кембридж. Так, может, он хотя бы воевал на стороне белых? Отнюдь! Когда он наконец-то решился поучаствовать в сражениях, было уже «слишком поздно». Так какую же Россию описывает он в своей книге? Единственный человек, который представляет в ней интерес и о ком автор говорит с искренним восхищением и обожанием, — это его отец, Владимир Набоков, старший, выдающаяся общественная фигура — либерал в самом что ни на есть западном смысле этого слова. Он ратовал за создание парламентского правительства, за отмену смертной казни, он был среди тех депутатов-кадетов в Первой думе, которые подписали знаменитое Выборгское воззвание. Последнее лишило его возможности баллотироваться в следующий состав парламента. Более того: за это Владимир Дмитриевич даже угодил в тюрьму, хотя и ненадолго. Таким образом, Набоковых смело можно причислить к прогрессивной интеллигенции начала века. Но нежный и трепетный сын рассказывает вовсе не о политической деятельности отца (напомним, что Набоков-старший погиб в 1922 году в Берлине от руки русского фашиствующего молодчика), а об аристократической семье с почти баснословным состоянием. Г-н Набоков явно смакует воспоминания о загородном доме на юге от Санкт-Петербурга, с пятью (!) ванными комнатами; о трех автомобилях и двух шоферах, курсировавших между поместьем и трехэтажным особняком в столице. Штат постоянной прислуги составлял «пятьдесят душ». К юному Володе был приставлен собственный лакей, помогавший мальчику одеваться. В школу он ездил исключительно в лимузине, с одним из двух личных водителей за рулем, чем приводил в бешенство учителей. С перекошенными гримасой отвращения лицами, они безуспешно требовали от Набокова «отпускать машину хотя бы за пару кварталов от школьного здания, дабы не дразнить одноклассников видом моего, услужливо приподнимающего шляпу, возницы в ливрее». Набокову казалось это абсурдным. Интересная деталь: он не считал слуг за людей, с человеческой точки зрения они были глубоко ему безразличны. Все пятьдесят душ являлись для него лишь прислугой — и ничем другим. Его кузен Юрий мог преспокойно болтать с каждым из них, «я же совершенно не представлял, зачем и о чем с ними разговаривать». Когда Набокову стукнуло шестнадцать лет, он почти влюбился в деревенскую девочку, ему даже снились эротические сны с ее участием; «а между тем, в сознательной жизни» он «и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием». В общем, молодой Набоков был потрясающий сноб и плутократ. Книга в основном (за исключением лирических отступлений об увлечениях шахматами, теннисом и, конечно, бабочками) состоит из пространных описаний его русско-немецкой родословной и, хуже того, — бесконечной галереи французских, швейцарских, английских и русских гувернеров, нянек и репетиторов. Все это наводит невыносимую тоску, равно как и большинство портретов тёток, дядьев, братьев и прочей родни, украшающей битком забитый семейный альбом. Каждой фотографии предпосланы длинные объяснения: «дама в черном — мамина тетка по материнской линии, Прасковья Николаевна Тарновская, урожденная Козлова (1848–1910)», и т. д. и т. п. На одной из страниц мы видим рисунок городского дома Набоковых и выясняем, помимо всего прочего, что «лип, посаженных вдоль улиц, тогда еще не было. А сейчас эти зеленые выскочки скрывают угловое окно на втором этаже», где появился на свет г-н Набоков. Какая жалость! И в этом тоже виноваты большевики! Унаследовав от отца любовь к Пушкину, Тютчеву, Фету, Набоков еще подростком стал писать стихи. Но, если не считать пары отсылок к Блоку, складывается впечатление, что он и не подозревал о культурной жизни — с ее литературой, музыкой, изобразительным искусством, — кипевшей в Петербурге последнего предреволюционного десятилетия. Последние страницы немного оживлены воспоминанием о первой (?) любви юного Набокова — к девушке, которую он называет Тамара. Пока их семьи жили за городом, обстоятельства благоприятствовали влюбленным, в Петербурге же, не рискнув отправиться в «сомнительные гостиницы», они гуляли по Эрмитажу и другим музеям. Это было не слишком удобно — смотритель Суворовского музея, ветеран турецкой кампании и вдобавок ужасный сквернослов, пригрозил им полицией. В 1917 году случились две революции; во второй сгинули и Тамара, и пятьдесят слуг, и три машины, и оба шофера. Набоков особо подчеркивает, что его ностальгия по прежней России есть «лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству», а отнюдь не сожаление о безвозвратно сгинувших… «деньжатах». Ему нетрудно поверить; и все же банкноты — и то, что давало обладание ими, — занимают непомерно огромное место в этом самовлюбленном повествовании о детстве и юности; революция же воспринимается как омерзительная личная катастрофа, причины и истоки которой не достойны даже упоминания. После Кембриджа Набоков влачил довольно жалкое существование обыкновенного писателя-эмигранта, живущего в «Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино». К двадцатым годам он обзавелся всего лишь двумя друзьями из тамошних жителей. Лишь в 1940 году, оказавшись в Америке, в его «новом и любимом мире», он «научился опять чувствовать себя дома». Сейчас, правда, он обосновался в Швейцарии. Забавно, что еще задолго до окончательного разрыва с Россией в 1919 году, Набоков ощущал себя куда больше «западным», нежели русским. О своем двоюродном брате, бароне Юрии фон Траубенберге, геройски погибшем, сражаясь на стороне белых, он пишет: «Во всем, за исключением фамилии, он был куда более русским, нежели я». Забавно? Возможно. Захватывающе? Едва ли. Alexander Werth // London Magazine. 1967. August. P. 80–83 (Перевод Н. Казаковой). АДА, ИЛИ ЭРОТИАДА. Семейная хроника ADA, OR ARDOR: A Family Chronicle
В творчестве Владимира Набокова «Ада» занимает особое место: в идейно-художественной концепции этого произведения нашли наиболее полное и законченное выражение главные эстетические принципы «позднего» Набокова (во многом повлиявшего на становление «постмодернистской» литературы 1970 — 1990-х годов). Работа над этим произведением продолжалась (со значительными временными перерывами) около десяти лет. В феврале 1959 г. Набоков взялся за написание философского трактата «Ткань времени» (впоследствии он был отдан в авторство Вану Вину и вошел в четвертую часть «Ады»). В ноябре того же года писатель загорелся идеей создать научно-фантастический роман (он получил рабочее название «Письма на Терру», а затем трансформировался в «Письма с Терры» — очередную книгу набоковского протагониста). Увлеченный другими проектами (среди них — создание сценария по роману «Лолита», переводы собственных произведении: «Лолиты» — на русский, «Дара», «Соглядатая», «Защиты Лужина» — на английский), Набоков оставил и этот замысел. В последующее пятилетие писатель лишь спорадически возвращался к «Ткани времени». Всерьез за новый роман Набоков взялся в феврале 1966 г., решив связать воедино «Письма на Терру» и «Ткань времени» с историей о «страстной, безнадежной, преступной, закатной любви» между братом и сестрой — отпрысками одного из наиболее знатных и богатых семейств вымышленной страны Эстотии, возникшей по его воле на мифической планете Антитерра. В октябре 1968 г. был закончен последний фрагмент «Ады» — рекламная аннотация (blurb), против всех правил помещенная ироничным автором непосредственно в самом тексте «семейной хроники». Роман появился на свет в мае 1969 г. Предваряя выход книги, фрагменты «семейной хроники» (ч. 1. гл. 5, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 20) были напечатаны в апрельском номере журнала «Плейбой». В мае роман был издан нью-йоркским издательством «Макгроу-Хилл», с которым начиная с декабря 1967 г. (когда Набоков порвал с издательством «Патнэмз») у писателя завязались тесные деловые контакты (продолжившиеся до самой его смерти). Хотя выход книги не сопровождался той истеричной атмосферой сенсационности, которая возникла после публикации «Лолиты», интерес к ней был огромен: ведь ее автором был всеми признанный мэтр, завоевавший себе громкое литературное имя и почетное звание прижизненного классика, капризный законодатель литературной моды, осаждаемый в своей швейцарской резиденции тучей любопытных журналистов и кинопродюсеров, алчущих заполучить права на экранизацию свежеиспеченного шедевра. (Информация к размышлению: еще до публикации романа права на его экранизацию были приобретены компанией «Columbia Pictures» за 500 тыс. долларов.) Интерес к «Аде» был подогрет мощной рекламной кампанией, умело организованной главой издательства «Макгроу-Хилл» Фрэнком Тейлором. Живое участие в ней принял и сам Набоков. Об этом свидетельствуют некоторые опубликованные письма, относящиеся к интересующему нас периоду зимы-весны 1969 г. Обратимся к одному из писем, адресованных Фрэнку Тейлору: «Дорогой Фрэнк, мне не хотелось бы каким-либо образом мешать твоим планам по рекламе. „Эротический шедевр“ звучит неплохо. <…> Подстегнутый твоим вопросом, я быстро выбросил из статьи такие эпитеты, как „фантастический“, „радужный“, „демонический“, „таинственный“, „волшебный“, „восхитительный“ и т. п.; но позволь мне повторить: я полностью полагаюсь на твой вкус и опыт» (14 января 1969)[205]. Отдадим должное «дорогому Фрэнку»: в отличие от руководителей «Патнэмз», недостаточно активно, по мнению Набокова, пропагандировавших его творчество, Тейлор и впрямь обладал немалым опытом в области книжного маркетинга. «Ада» еще не успела выйти из печати, а уже в марте расторопный издатель прислал писателю экземпляры двух журналов[206] с превосходной «Адорекламой», как выразился в благодарственном письме Фрэнку Тейлору польщенный автор[207]. Кампания по раскрутке набоковского романа на этом не закончилась. «Ада» еще не успела дойти до прилавков книжных магазинов, а уже крупнейшая американская газета «Нью-Йорк таймс» салютовала Набокову хвалебной рецензией влиятельного критика Джона Леонарда: «Набоков — единственный еще здравствующий литературный гений. Никто, кроме него, не мог написать этот антидетерминистский шедевр, исполненный презрения к Фрейду <…> и Марксу (в нем нет ни политики, ни экономики, ни даже какой-либо истории); вместе с тем это сексуальный и философский роман, великолепная научная фантастика и внушающая благоговейный страх пародия. Если он [Набоков] и не получит Нобелевскую премию, то единственно потому, что она недостойна его» (Leonard J. The Nobel-est Writer of Them All // New York Times. 1969. May 1. P. 49). Спустя три дня на страницах литературного приложения к «Нью-Йорк таймc» появилась дифирамбическая рецензия Альфреда Аппеля, бывшего набоковского ученика по Корнеллскому университету, ставшего одним из самых рьяных исследователей и истых пропагандистов творчества писателя: «„Ада“ — это великая сказка, в высшей степени оригинальное создание творческого воображения <…> — любовная история, эротический шедевр, райская фантазия, философское исследование времени» (NYTBR. 1969. 4 May. P. 1). День в день с выходом книги из печати (5 мая) в популярном еженедельнике «Ньюсуик» американский критик с не очень-то американской фамилией Соколов благоговейно сравнивает «Аду» с «Поминками по Финнегану», честно предупреждая, что по достоинству оценить набоковский роман смогут далеко не все читатели (Sokolov R.A. The Nabokovian Universe // Newsweek. 1969. Vol.73. № 18. (5 May). P. 57–58). Спустя пять дней «Ада» удостоилась похвал наиболее авторитетного американского критика того времени Альфреда Кейзина <см.>. К концу мая кампания по раскрутке «эротического шедевра» достигла своего апогея. 23 мая выходит очередной номер многотиражного, глянцевитых кровей журнала «Тайм». Его обложка украшена портретом Набокова и броским рекламным слоганом: «Роман жив, и обитает он на Антитерре». Далее следовало интервью с писателем, в котором тот знакомил читателей с историей создания своего «эротического шедевра». Фейерверк радужных славословий, озаривший выход «Ады» — «великого произведения искусства, необходимой, лучезарной, восхитительной книги, утверждающей власть любви и творческого воображения» (А. Аппель) — возымел свое действие: одно из самых «непрозрачных» творений Владимира Набокова попало в список бестселлеров за 1969 г. и заняло там почетное четвертое место, немного отстав от таких «хитов» книжного сезона, как «Крестный отец», «Любовная машина» и «Болезнь портного». (Во Франции, где несколько лет спустя вышел отредактированный самим Набоковым перевод романа, «Ада» добилась еще больших успехов и стала бестселлером № 2 в книжном хит-параде за 1975 г.) Тем не менее я погрешил бы против истины, если бы стал настаивать на том, что «Ада» получила единодушное одобрение критиков. Наоборот, ни одно набоковское произведение (за исключением разве что «Бледного огня») не вызвало таких противоречивых, взаимоисключающих критических отзывов. Бурная рекламная кампания, вознесшая «Аду» на вершину коммерческого успеха, очень скоро вызвала активное противодействие. «Гениальная книга — перл американской словесности» (так, с присущей ему скромностью, оценил «Аду» сам Владимир Владимирович, сделав соответствующую надпись на форзаце авторского экземпляра) была воспринята многими американскими, а тем более консервативными английскими критиками как непонятный, амбициозный, чрезмерно растянутый опус, написанный Набоковым исключительно для себя (в последнем утверждении они были близки к истине), как бесцельное «упражнение в лингвистической пиротехнике» (Brendon P. Nabokov's Shake // Books and bookmen. 1969. Vol. 15. № 3. P. 35), лишенное значительного содержания. Первые тревожные сигналы появились уже в мае: в ряде откликов наряду с похвалами, явственно звучали разочарованно-недоуменные нотки, вызванные чрезмерной формальной усложненностью набоковской «семейной хроники». «„Ада“ — не что иное, как необъявленная война против ожиданий читательской аудитории», — предостерегал обозреватель журнала «Лайф» Мелвин Мэддокс, чья статья своим озабоченным тоном чем-то напоминала инструкцию по передвижению на минном поле (Maddocks M. Can the Love Story Survive «Ada»? // Life. 1969. Vol. 66. № 18. (May 9). P. 12). Ему вторил Питер С. Прескотт: «С первого раза никто не в состоянии понять того, что предлагается в „Аде“: едва ли найдется читатель, который сможет полностью дешифровать ее. <…> Конечно же, „Ада“ рассчитана не на всех» (Prescott P.S. «О, my Lolita, I Have Only Words to Play With» // Look. 1969. Vol. 33. № 11 (May 27). P. 6). Но если Прескотт хоть и сетовал на «скучные и по сути неприступные эпизоды» «Ады» (так же как и на «онанистический характер набоковского письма: автор уж слишком собой восхищается, пряча свой ум в таких темных углах, куда за ним никто не может следовать»), но все же признавал, что при внимательном чтении «Ада» «больше доставляет наслаждения, чем раздражает», то критик Родерик Нордел уже без обиняков указывал на то, что набоковский роман «самым вопиющим образом опошлен авторской вседозволенностью (обесценивающей виртуозную словесную игру) и декадентской готовностью использовать чувство боли, счастья или извращения ради бездушного литературного эффекта» (Nordel R. Limits of cleverness // Christian Science Monitor. 1969. May 8. P. 13). Начиная с июня число негативных отзывов стало неуклонно возрастать. Рецензенты наперебой обвиняли Набокова в холодной рассудочности, заносчивом эстетизме, самодовольном щеголянии «суетливой эрудицией», а главное — в нарциссическом самолюбовании и снобистском презрении к читателю. Словечко «self-indulgence» (неуклюже переводящееся на русский как «потворство, потакание собственным желаниям»), приобретая все более обличительные обертоны, кочевало из одной рецензии в другую. Много писалось об эгоцентризме главных героев, о нарочито карикатурной аляповатости большинства персонажей, о психологической неубедительности некоторых эпизодов романа, о чрезмерной перегруженности повествования утомительными трехъязычными аттракционами, «редакторскими» вставками и примечаниями, указывалось на недопустимый тон многих авторских «шуток» и пр. и пр. «Самым перехваленным романом десятилетия» назвал «Аду» Морис Дикстейн, расценивший ее как «измену Набокову, автору „Лолиты“ и „Пнина“, чья расчетливость сохраняла связь с человеческими чувствами и проблемами, чей эстетизм по этой причине мог обеспечивать художественную и человеческую цельность. Это бесплодная победа другого Набокова — ловкача-формалиста, редкого педанта и игрока словами, последнего и, вероятно, наименее значительного из великих модернистских писателей» (Dickstein M. Nabokov's Folly // New Republic. 1969. June 28. P. 27, 29). «К сожалению, эта книга — настоящее бедствие, — писал Дикстейн, — раздутая, претенциозная, полная запутанных мест и вызывающих утомление благоговейных пояснений. Парадокс данной книги, с ее непомерными амбициями и конечной художественной пустотой, мы сможем лучше всего понять, рассмотрев эстетику Набокова, которая здесь доведена до своего логического завершения. Набоков всегда считал себя скорее поэтом и рассказчиком, чем романистом, выдумщиком, сочинителем историй и стилистом, а не поставщиком „реальных“ характеров и описаний окружающей их обстановки. В послесловии к „Лолите“ он пишет о проблеме „выдумывания“ Америки, которая была решена созданием мира столь же „прихотливого и субъективного“, что и прежние европейские декорации. Это далеко от истины. Америка „Лолиты“, пусть и преломляясь сквозь алмазную призму сатиры, упрямо остается реальной; неотъемлемая часть романа — свалка попсы и китча начала пятидесятых годов, устрашающее предвидение современной „массовой культуры“. Набоков часто отвергал социально-психологический реализм, нашпиговывая свои романы минами-ловушками отстраняющих и отчуждающих эффектов, однако его лучшие работы, такие, как „Пнин“ и „Лолита“, были созданы в тот момент, когда он объявил перемирие с реализмом и не отрекался от него столь решительно, как в „Аде“. <…> Представление о художнике как о словесном акробате, которого Набоков придерживался с излишней серьезностью, — одна из главных причин его неудачи в „Аде“. <…> „Ада“ отказывается не только от реальности, но и от художественной цельности» (Ibid. P. 27). Подтверждая этот тезис, Дикстейн удачно цитировал Ницше — тот фрагмент «Казуса Вагнера», где характеризовался стиль литературного декаданса (проекция на стиль автора «Ады» напрашивалась сама собой): «Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет целого — целое уже не является больше целым. <…> вибрация и избыток жизни втиснуты в самые маленькие явления; остальное бедно жизнью. <…> Целое вообще уже не живет более: оно является составным, рассчитанным, искусственным, неким артефактом»[208]. Опираясь на определение Ницще, въедливый критик продолжал громить «Аду» — «это мешанина всевозможных эффектов, „Улисс“ для бедных», — утверждая, что в романе, претендующем на сверхоригинальность, писатель грешит самоповторами на грани автоэпигонства: «Чрезмерно резкий по своему рисунку стиль Гумберта Гумберта, одновременно безудержно-живой и тщательно контролируемый, передающий все нюансы личного и общекультурного декаданса, находит здесь неумышленную карикатуру на самого себя. В руках Вана Вина он и впрямь становится декадентским — стиль, ищущий своей темы» (Ibid. P. 28). Аналогичные замечания высказал и канадский критик Кэрол Джонсон «Набоковская „Ада“ — это, несомненно, литературная продукция с весьма ограниченными художественными достоинствами. Если она и может понравиться, то только любителю археологических разысканий в кондитерской лавке, как насмешка над романом (и ожиданиями определенного рода читателей). <…> Если кто-либо в нашем достойном сожаления веке способен осуществить желание Флобера и написать роман „ни о чем“, то это, конечно же, Набоков, своей „Адой“ совершивший настоящий подвиг: с помощью неродного языка создавший на протяжении 598 страниц стиль, или, точнее говоря, стили, лишенные всякого содержания. Это не говорит о том, что Набоков — конструктор прозы, нет, он — тонкий ценитель прозы; такою его дарование, хотя именно оно в определенной степени несет ответственность за его недостатки как романиста. Ничто не может заменить интеллект. А интеллект — это как раз то, что присутствует в произведениях Набокова. Однако в искусстве романа нелегко найти замену сознанию, которое самозабвенно погружается в сферу человеческих поступков, откуда обычно черпаются мотивы художественной прозы. Традиционно художественная литература — это рассказ о людях. Набоков в своей прозе неизменно относится к рассказу о людях с высшей степенью безразличия. Он интересуется не жизнью людей, а жизнью языка, и — после языка — вещностью вещей» (Johnson С. Nabokov's «Ada»: Word's End // Art International. 1969. P. 42). Стиль «Ады» вызвал нарекания и у других рецензентов, упрекавших Набокова не только в нездоровом пристрастии к каламбурам и разного рода языковым фокусам, но и в утомительном многословии, «недостатке контроля в выборе и организации» словесного материала: «Он всегда стремится расширить сказанное за счет добавления не относящихся к делу историй и другой дополнительной информации. В результате его предложения разбухают от вставных конструкций, и часто создается впечатление, что сюжет движется не прямо, а как-то боком» (Field J.C. The Literary Scene: 1968–1970 // Revue Des Langues Vivantes. 1971. Vol. 37. № 5. P. 629). He меньше нареканий вызвали и обильные эротические описания «Ады», позволившие некоторым критикам обвинить Набокова в порнографии. Все тот же неутомимый М. Дикстейн, пристрастно разбирая «жеманный» и «оранжерейный» стиль Набокова, пришел к выводу, что его «претенциозные метафоры и аллюзии не могут скрыть порнографической стратегии» автора: «Если „Лолита“ рассказывала о стареющем развратнике, то некоторые эпизоды „Ады“ читаются так, будто они написаны им самим <…>. Секс в „Аде“, как и в большинстве порнографических произведений, сводится к спазмам и эякуляциям, к изобилию оргазмов» (Op. cit. P. 28). Это же обвинение, пусть и высказанное менее категорично, прозвучало в разгромном отзыве Кингсли Шортера <см.> и в рецензиях некоторых английских критиков. Так, Джиллиан Тиндэл, писавший о том, что «Ада» лишена «драматического интереса», обнаружил в ней «время от времени появляющуюся порнографию» (Tindal G. King Leer // New Statesman. 1969. 3 October. P. 461). Другой английский рецензент, Деннис Джозеф Энрайт, весьма низко оценивший роман Набокова: «Для меня совершенно очевидно, что великий дар был растрачен на ничтожные цели, гора родила мышь», — подобно Тиндэлу, воспринял некоторые эпизоды романа как «изысканно украшенную порнографию». Заявив о том, что «Ада» порой читается как пародия на порнографию XIX века, Энрайт усомнился при этом, есть ли принципиальная разница «между порнографией и пародией на нее, исключая то, что некоторым больше нравится последнее — почти точно так же, как находившимся на службе у государства палачам стародавних времен, имевшим обыкновение насиловать своих девственных клиенток перед тем, как обезглавить их» (Enright D.J. Pun-Up // Listener. 1969. 2 October P. 457). Вообще, автору «Ады» изрядно досталось от придирчивых английских критиков. Пожалуй, лишь один анонимный рецензент из литературного приложения к «Таймс» дал уклончиво-обтекаемый отзыв: «„Ада“ — самый „набоковский“ из его романов, идиллия аристократического инцеста, расцвеченная таким несметным количеством словесных забав, что могло бы с лихвой заполнить трюмы океанского лайнера. Чтобы оценить эту книгу полней, необходимо владеть английским, французским и русским языками, иметь основательные знания в области ботаники и энтомологии, быть склонным к разгадыванию анаграмм, а также запастись немалым терпением. (Что и говорить, книга эта не на идиотов рассчитана!) Заканчиваешь ее с восторгом, начиная читать с превеликим трудом. Эта книга не иначе как Ватерлоо для ее автора: не понятно только, Веллингтон он здесь или Наполеон… Нельзя не признать за „Адой“ как высокого уровня стиля, так и общей позиции изощренного формализма. Если бы литература была задумана как поле деятельности критики, то „Ада“, как и „Поминки по Финнегану“, могла бы оказаться на самом гребне европейской прозы. Как и „Золотой горшок“, она трудна для чтения. Быть может, именно поэтому, истинные сторонники Набокова непременно сочтут ее шедевром мастера. Невежды, пожалуй, возропщут» (Nabokov's Waterloo // TLS. 1969. 2 October. P. 1121). Остальные же рецензенты, сетуя на герметичность и зашифрованность набоковского романа (чья повествовательная ткань и впрямь чрезмерно перегружена всевозможными словесными шарадами, фривольными двуязычными каламбурами (вроде «мадам Кондор — con d'or»), лжеаллюзиями и нарочито искаженными цитатами), осуждая Набокова за безвкусное трюкачество и безоглядное упоение «радугой стилистических эффектов» (Brendon P. Op. cit. P. 35), расценили «Аду» как откровенную неудачу писателя. «„Ада“ отвратительна, потому что являет собой образчик непрекращающегося эксгибиционизма» (Toynbee Ph. Too much of a good thing // Observer. 1969. 5 October. P. 34); «Несмотря на свою искусную сделанность (или благодаря ей), веселость и изредка встречающиеся места, исполненные тонкого психологизма и первоклассного юмора, это чрезвычайно растянутая, глубоко разочаровывающая и скучная книга, автор которой подлаживается под вкусы галерки и одновременно издевается над ней» (Seymour-Smith M. Beyond the pale // Spectator. 1969. Vol. 223. № 7372 (11 October). P. 477). Характерно, что «эротический шедевр» Набокова был забракован даже теми критиками, кто прежде восторгался другими набоковскими работами. Например, писательница Мэри Маккарти, давняя знакомая Набокова, в свое время написавшая комплиментарную рецензию на «Бледный огонь», была настолько разочарована «Адой», что посчитала необходимым сделать полную переоценку всех набоковских произведений (McCarthy M. Exiles, Expatriates and Internal Emigres // Listener. 1971. Vol. 86. № 2226. (November 25). P. 707–708). Столь же строго подошел к «Аде» и Эдмунд Уилсон: «Что касается „Ады“, то я просто не смог продраться сквозь нее. Первая глава — это разжиженные „Поминки по Финнегану“. Остальное — вся эта беспорядочно перетасованная география, весь этот высокоинтеллектуальный эротизм, все эти полиглотские беседы, которые, когда их передают по-английски, оказываются совершенно банальными, — утомили меня так, как это редко удавалось Набокову. Это великолепие, которое стремится ослеплять своим блеском, но оборачивается не чем иным, как смертельной скукой» (Wilson E. Window on Russia. N.Y.: Farrar, 1972. P. 237). Однако эти и другие критические выпады не могли умерить читательское любопытство и, пожалуй, еще больше подогревали интерес к набоковскому «эротическому шедевру». Не случайно уже в 1970 г. лондонское издательство «Пингвин» выпустило массовое, «мягкообложечное» издание «Ады», которое украсили полупародийные примечания ВИВИАНа ДАРКБЛООМа (анаграммированное Владимир Набоков), продолжавшего дразнить читателей столь же искусно, как и герой-повествователь Ван Вин. Когда в 1995 г. «Ада» была переведена на русский язык[209], в постсоветской прессе она вызвала столь же противоречивые отзывы, как и в англоязычной. К тому времени Набоков был признан бесспорным классиком мировой литературы и его репутация оказывала на многих отечественных рецензентов парализующее воздействие. Большинство «наемных убийц идей и репутаций» (как характеризовал литературных критиков бальзаковский Этьен Лусто) встречали обрусевшую «Аду» огульной хвалой, однако так неуклюже маскировали свое раздражение или разочарование, что их медовые комплименты отдавали полынной горечью. Особенно показательны рецензии, поспевшие к выходу второго перевода «Ады»[210]. В отзыве Михаила Новикова неумеренные славословия автору «несомненно великой книги» увенчались разоблачительным выводом: «Монтрейский старец со всем его показным высокомерием терпит поражение столь сокрушительное, что начинаешь думать — умница сам нарочно все и устроил: довел „чистоту“ своего искусства до абсолюта, чтоб продемонстрировать всю бесплодность этой надмирной позы (прозы)» (Новиков М. Игра в бисер перед свиньями // Коммерсантъ. 1996. 16 декабря. С. 13). Столь же двусмысленно отозвался об «Аде» и Андрей Гамалов: «<…> Самая большая, самая знаменитая и, может быть, самая главная книга главного сноба русской литературы — Владимира Набокова. <…> С 1966 по 1969 он заполнял свои пресловутые карточки, сочиняя самую откровенную и самую утонченную в мировой литературе историю любви. Ему было под семьдесят. Предположить, что в этом возрасте он еще сохранил ту силу желания, которой была продиктована „Лолита“ и тем более „Волшебник“ <…>, — невозможно. Оттого утонченность явно преобладает над откровенностью, а культурность — над зажигательностью. <…> Я думаю, что „Ада“ — действительно лучший роман Набокова, во всяком случае, самый жестокий, и ежели бы хороший редактор с ним поработал и книга потеряла в весе хоть килограмм, был бы совсем шедевр» (Гамалов А. Ада как ад // Собеседник. 1997. № 2. С. 14). К этим «похвалам» критик присовокупил еще одно «твердое суждение», назвав четвертую часть романа — философский трактат Вана Вина «Ткань времени» — «чередой тяжеловесных софизмов, попыткой средствами языка, забалтывания, каламбура преодолеть невыносимый ужас исчезновения и превращения всего сущего» (Там же). В отличие от М. Новикова и А. Гамалова, маскировавших критические шпильки дымовой завесой пышных славословий, критик Виссарион Ерофеев бил наотмашь: «„Ада“ — один из самых антиэротичных, если вообще не фригидных романов Владимира Набокова: темпераментные соития гиперсексуальных Вана и Ады описываются им с холодным мастерством ученого-энтомолога, наблюдающего за совокуплением двух редкостных особей. Любви — в ее возвышенном понимании как бескорыстной самоотдачи и душевного родства— в „Аде“ нет и в помине. Да и какая может быть душа у плоских картонных марионеток, дергающихся по указке всесильного кукловода, то и дело напоминающего читателю об условности, нереальности происходящего? Автор „Ады“ забыл или сознательно пренебрег основным правилом искусства: холодно отстраняясь от своих персонажей, всячески подчеркивая вымышленный статус описываемых событий, писатель не должен чрезмерно увлекаться. Полноценная игра требует серьезного, доверительного к себе отношения. Магия любой игры ведь в том и заключается, что мы бескорыстно, самозабвенно погружаемся в нее, прекрасно понимая: мы ИГРАЕМ. И только при этом условии мы получаем ни с чем не сравнимое наслаждение от волшебного самообмана игры. Этому же правилу должен следовать и писатель. Он обязан искренне верить в то, что послушные ему марионетки — живые люди, наделенные плотью и кровью, что все, о чем он рассказывает читателю, происходило на самом деле. Более того, он должен заразить этой верой и читателя. Без этого нет и не может быть литературы. Иначе выходит бездушный отлакированный уродец, рассудочная схема, а не трепетное, вечно живое чудо творческой фантазии и человеческого духа. Набоков же <…> уподобляясь старшему братцу Николеньки Иртеньева (вспомним соответствующие главы из „Детства“), ведет себя как „взрослый“, у которого „слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне насладиться игрою“, который не верит в нее и поэтому развязно дурачится, скрывая скуку и внутреннюю опустошенность» (Похороны Цезаря. Одноактное хулиганство с прологом и эпилогом // Волшебная гора. № 6. 1997. С. 407–408). Как мы видим, литературная судьба «Ады» была далеко не безоблачной. И по сей день по ее поводу не утихают споры. Даже в стане англоязычных набоковедов в оценках «Ады» нет единства. Одни исследователи расценивают «Аду» как «наивысшее достижение Набокова-романиста, наиболее полное выражение всех его интересов и пристрастий» и даже как «апофеоз одной из величайших традиций западной литературы»[211] — традиции «высокого модернизма» Джойса и Пруста; для других (например, для Эндрю Филда и Дэвида Рэмптона) «Ада» — это свидетельство творческого упадка писателя. Альфред Кейзин{188} В памяти Набокова С самого начала, как это обычно бывает у Набокова, вы встречаетесь с аллюзиями, представляющими собой настоящие ловушки, с каламбурами, которые иногда облечены в форму аллитерационных шуток, а иной раз — в форму криптофаммообразных формул, чей «тайный» смысл вовлечет вас в утомительную охоту за новыми шутками и пародиями на других романистов — пародиями, которые возвеличивают Толстого, но наносят оскорбление Мопассану. Набоков обожает играть с читателем и подшучивать над ним, но не меньше любит и демонстрировать свою оригинальность в несущественных вопросах. Пожалуй, ни один автор со времен Эдгара По так часто и сознательно не разыгрывал своих читателей. Но во всех своих розыгрышах он никогда не бывает столь серьезен, как те немногочисленные исследователи, которым удается раскрыть «тайну» большинства его уловок, ибо Набоков испытывает истинное наслаждение, напрягая всю мощь своего воображения, изобретая невероятные коллизии и искажения восприятия, инверсии и языковые неологизмы. Легкая болтовня сразу на многих языках, иронически-настойчивые намеки, сентенции, остающиеся головокружительно прозрачными, несмотря на всевозможные уловки и шутки, — все это предупреждает читателя, что над ним посмеиваются в мелочах, но наставляют в вещах серьезных и значительных. Дело в том, что все эта двойники и двойственность существуют в едином пространстве, и горе тем, кто, подобно Акве, страдает безумием. Те же, кто, подобно Вану, обладает творческой интуицией, знают, что время превосходит пространство. Не имеет значения, в скольких телесных оболочках мы обитали, продвигаясь от детства к зрелости, и в скольких странах пролегали дороги наших приключений. Время — единственный реальный элемент, в котором обитает разум; время — та самая история, которую мы способны писать в одиночку. В этом отношении «Ада» представляет собой изображение творческого процесса. Время способно исполнить любые наши желания. Мы стремимся, настойчиво повторяет Набоков в автобиографии «Память, говори», узнать, что было в мире до нашего рождения и что станет с ним после нашей смерти. В этом смысле сознание есть вечная жизнь, и если мы еще можем допустить, что до нашего рождения не существовало ничего, второе такое ничто мы принять не можем, даже если люди именуют его «смертью». Человек не может постичь самого себя вне сознания, и в этом смысле «смерти» не существует. Вселенная состоит из нашего сознания и существует только в нем… И все же эта книга <…> преподает нам Урок в стиле Набокова. Это и длинные изыскания о реальном значении времени и его притворных личинах, и типичные, напоминающие фарс, смерти, ни на мгновение не прерывающие действие и напоминающие нам, что и мы все уже много раз умирали в процессе перехода от этапа к этапу. Но книга, и это вполне естественно, в качестве конечного смысла времени обращается к абсолютной ностальгии по утраченному и ставшему сказочным состоянию детства («Ардис»); к предельной ностальгии по любимой, Аде, имя, одно лишь имя которой ведет нашего героя по дорогам жизни. И в этой книге автор обращается к смешению языков, континентов, наций, городов, всевозможным неологизмам, счастливо перемешанным друг с другом, ибо на языке, именуемом «Владимир Набоков», все отдельные и разрозненные частицы его памяти преображаются в воображении в единое целое. Как и в «Гулливере», или «Тристраме Шенди», или в «Алисе в стране чудес» (которую, кстати, Набоков перевел на русский), читатель сознает, что жизнь здесь преображается в чистое воображение, чистые картины, чистое наслаждение. Наш Владимир Владимирович — выдающийся художник; в данной ситуации его роман сам устанавливает законы для себя. «Ада», вышедшая в свет после «Лолиты» и после другой, гораздо более сложной и значительной книги — «Бледный огонь», вместе с ними образует своего рода трилогию, не имеющую аналогов по выразительной силе деталей, по степени увлекательности, по архитектонике формы и, наконец, по капризной изысканности языка. Она просто изумительна. Как любовная история, она скорее необычна и символична, чем достоверна но необычность и символизм — это именно те факторы, особую любовь к которым приписывают Набокову. По богатству фантазии и изобретательности это, пожалуй, самая удачная из сумасбродных вещей со времен «Алисы». Маленькие Набоковы, из которых Набоков и создал свою книгу, выпалили в нее так много цитат, что некоторые сцены — две из которых происходят в постели — напоминают конклав педантов, далеких от всех житейских проблем. Но особое очарование книге придает тот факт, что многие из персонажей обладают таким же творческим потенциалом, как и сам Набоков. Оба влюбленных поистине гениальны. А многие таинственные персонажи таковы, что для того, чтобы понять и узнать их, мы сами должны быть гениями. Alfred Kazin. In the Mind of Nabokov // Saturday Review. 1969. May 10. P. 28–30. (перевод А. Голова) Кингсли Шортер Муки ада Самое претенциозное на сегодняшний день творение Владимира Набокова «Ада, или Эротиада: Семейная хроника» выдвигает недюжинные требования читателю, тем самым как бы обещая недюжинно и вознаградить. Ничего решительно в этом произведении замечательного нет. Книга представляет собой сознательное стремление, в духе Пруста, обратиться к тайнам времени и памяти, сугубо ностальгическое воссоздание исчезнувшей эпохи, не существовавшей на самом деле. Это — изложение коллекционера с навязчивым выдумыванием невиданных птиц и бабочек, с никому не ведомыми, выступающими под латинскими названиями разновидностями фиалок и деревьев. Это — устарелая романтическая история, изложенная a rebours[212], зеркальное отражение Фрэнсес Паркингтон Кейз. Это — пространное рассуждение по поводу нелепостей литературного перевода, переноса, преобразования, переиначивания, исходящее от профессионала-полиглота, явно утомившегося к середине жизни сотни раз объяснять одно и то же глупым баранам. И еще эта книга, учитывая отчетливую периодичность эротических сцен, про прелести и муки инцеста. Честно говоря, «Ада» принадлежит к литературе загадок и кроссвордов; и мне она показалась чудовищно трудной для чтения, при всем том (или, как выразился бы Набоков, imenno potomu), что во французском и русском я разбираюсь достаточно, как и в английском, и для меня не зазорно лишний раз, вздымая бровь, полистать вебстеровский словарь. Роман начинается ложной цитатой из «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи счастливы, в общем-то, по-разному; все несчастливые, в общем-то, похожи друг на друга». Этой ладной инверсией толстовской сентенции — первой из множественного ряда подобных преднамеренных «ошибок» — Набоков оповещает нас, что мы вступаем в зеркальный мир, где сходятся противоположности, а единство времени и места действия подчинено безумной логике сновидений; мир, где жизнь имитирует литературу и литературный перевод с языка одной земли на язык параллельно существующей, и это не просто семантическая задачка, как какой-нибудь зловещий трюк, пародирующий и высмеивающий попытки памяти сцепиться с реальностью. Этот мир, именуемый «Демония», — магический двойник, или «Антитерра», нашего мира. Там известные история и география Терры претерпевают кошмарные онейрические (одно из любимых словечек Набокова) видоизменения, так что все оказывается не в фокусе, каждая подробность окружена ярким ореолом не вполне угадываемых ассоциаций. На Антитерре две наиболее очевидные у нас противоположности, две политические системы, наиболее резко противопоставленные друг другу на протяжении доброй половины нашего XX века, — Россия и Америка — сведены воедино. Сам абрис континентов тщательно искажается, чтобы Набоков, юношей бежавший из России, смог наконец объединить умозрительно оба антипода своей раздвоенной жизни. Включая франкоязычную Канаду в свой мифический амерусский анклав, он прилаживает третью створку триптиха, создавая идеальную трехъязычную среду для своей «семейной хроники». В какой-то момент своей текущей истории обитатели Демонии натыкаются на существование Терры. По причинам, так и не раскрытым, они оказываются неспособными переварить свое открытие — называемое «Эль-катастрофой», или «Великой Реновацией», — и реагируют на него развенчанием технического прогресса, вероятно, явившегося причиной этих явлений, и в то же время убеждением, что Терра всего лишь плод больного воображения, заняться излечением которого должны «террапевты» (весьма безобидный пример набоковской неутомимой и крайне утомительной словесной игры). Семейство, судьбы которого описываются в «Аде», «знатнейшее на Антитерре» и представляет собой династию русско-англо-ирландского образца, проживает в королевском великолепии во всяких роскошных сельских поместьях и городских виллах. В основе романа, однако, рассказ лишь об одном из поколений, а конкретнее — инцестная связь между родными братом и сестрой (официально кузиной), а также единоутробной сестрой их обоих. История подается в виде праздных воспоминаний, излагаемых Ваном и Адой Винами, инцестными любовниками и основными героями, оглядывающимися в свое прошлое почти на столетие назад. <…> Посулы и вознаграждение. Я так старался: читал внимательно, специально проверял по словарю многочисленные фрагменты русских транслитераций, искал значения непонятных мне слов. Кроме того, старался изо всех сил прослеживать все нити, которые Набоков в таком изобилии протягивает в своем романе, отмечать все многочисленные тайные соответствия, проникать в его мир глубже, чтобы роман перестал казаться повествованием, насыщенным сплошными препятствиями и сделался бы средством выражения, что, вероятно, и стоило от него ожидать. И теперь позволю себе спросить: а столь же стремился навстречу мне Набоков? Что я получил за свои труды (кроме кое-какого удовлетворения от обогащения своего словарного запаса такими выдающимися образчиками, как «зиггурат», «струтиозный», «клепсидра», «парвис», «инкунабула», «акразия», «борборигмичный» и т. д.)? Лишь время и процесс литературного усвоения смогут сказать нам, хороша ли страна Демония, является ли она естественным расширением нашей культурной обжитой Среды или просто очередной terrain vague[213]. У меня лично в связи с новым произведением Набокова возникают серьезные сомнения. Первое касается все той же навязшей в зубах двойственности: слово-знак против слова-образа. В общем, по-моему, в «Аде» набоковская увлеченность собственно языком, словом-образом заходит настолько далеко, что приходит в противоречие сама с собой. Аргумент известен: слова играют двоякую роль; с одной стороны — имеют овеществленный смысл и независимое существование в языковой трансреальности, с другой — указывают на предметы вне словесного определения в изначальном или «реальном» мире. Между этими двумя видами реальности нет резкого противопоставления, скорее имеет место нестойкий параллелизм. Стоит ему нарушиться, как мир (наши представления о котором в значительной мере обусловлены тем, как мы это называем) возвращается к безымянному хаосу, к смешению непосредственных чувственных восприятий, что, вероятно, возникает у животных, малых детей, а также у шизофреников. «Язык», в свою очередь, начинает безудержно жить собственной жизнью, и слова становятся отдельными, ни с чем не связанными объектами. Такой мерцательный разрыв между знаком и тем, что им обозначается, составляет источник всякой поэзии. Он же, только уровнем пониже, является импульсом, вызывающим словесные игры, столь любимые Набоковым, — криптограммы, увлечение шифрами и кодами, многоязычные каламбуры. Однако язык — это просвечивающий экран, на котором мир играет тенями-силуэтами. Если слова лишить их указательной функции и сделать предметами, язык мертвеет, экран перестает отражать. Тогда писатель попадает в отчаянное положение. И пусть он мечется в поисках лексикона красок (я насчитал более 50 слов, обозначающих цвет в «Аде», включая такие термины, как «пизангово-зеленый», «флавидный» и «огуречный»), пусть он раскрывает во всей красе свои познания в редких областях; пусть он демонстрирует чудеса словесного изобретательства — все равно не сможет побудить читателя видеть описываемое. Такое наращивание слов-образов, такой каскад подробностей способен лишь озадачить, не прояснить. В результате мы имеем дело с литературой, которая не столько восхищает, сколько озадачивает, точно сверхусложненное мастерство жонглера. И все это при отсутствии истинной напряженности в повествовании. Вместо этого внимание читателя непременно отвлекается всяческими divertisements[214] — различными уходами от темы, увертками, «словесным трюкачеством» (выражение Набокова) — и бесконечной цепью маленьких задачек в виде шифра, неясных перекрещиваний, двойных значений и т. д. Книга превращается в некий интеллектуальный тест или же в привилегированный вариант игры в прятки. Возможно, набирая при этом высокие очки, можно испытать определенное чувство элитарного удовлетворения, только, на мой взгляд, назвать это хорошей литературой нельзя. Вторую мою оговорку сформулировать потрудней. Меня смутил сам тон повествования, несоответствие между голосом автора и существом того, что он вспоминает. Возможно, именно холодный блеск этого романа возбудил во мне подозрение, что Набоков рисуется перед аудиторией, которую презирает, и наращивает количество трюков, хорошо зная, — и давая нам это понять, — что они доступны лишь горстке его читателей. Гораздо серьезней несколько рассеянная, но все же явная распущенность. Ибо «Ада» просто перенасыщена всякими шлюхами и похабством, не говоря уже об инцесте. Допустим, такая увлеченность сама по себе не слишком предосудительна. Но остается гадкое ощущение от неприятного смакования автором подобных тем. Не случайно Набоков неоднократно употребляет глаголы «осквернять» и «пачкать» в качестве, так сказать, перевернутых эвфемизмов при описании сексуального акта. Мало этого, такое своеобразное похотливое доктринерство — по сути, комбинация снисходительной скороговорки гида-профессионала с суетливой образованностью ученого-эротолога, читающего лекцию не слишком успевающим студентам, — не сводится к проходным, эпизодичным, чисто барочным сексуальным вкраплениям. Оно наполняет весь роман. Одна особенно отталкивающая сцена, где злополучная Люсетт вовлекается Ваном и Адой в тройственное сексуальное действо, описана следующим образом: «То, что сложилось теперь, не вполне можно бы назвать ситуацией в духе Казановы… скорее полотном более раннего живописца, представителя венецианской (sensu largo[215]) школы, представленной (в „Запретных живописцах“) достаточно умело, чтоб выдержать пытливый бордельный, vue d'oiseau[216] взгляд». Дальнейшее излагается с маниакальным пристрастием к подробностям и радостному созерцанию всякой мерзости. Это упорное метание между «литературой» и «жизнью» — ироничные заметки на полях, ремарочные препирательства шепотком между мемуаристами («Ох, Ван!», «Прости, кисонька, но оставим как есть») и псевдоредакторские вставки — частично, может быть, являются способом Набокова управлять своей и читательской сверхосведомленностью в смысле всего процесса, тогда как сырьевые ресурсы памяти и опыта находят художественное воплощение. Ars est celare artem[217], однако когда Набоков заставляет своего девяностолетнего повествователя сдабривать рассказ замечаниями, типа: «…это происходило, в историческом аспекте, на заре развития романа, пока находившегося в руках у приходских дамочек и французских академиков…», или: «Потом Ван с Адой встретились в коридоре и вполне могли бы обменяться поцелуем на ранней стадии развития этого романа в истории литературы», таким образом намеренно привлекая внимание к композиционной инженерии, это, скорей всего, напоминает технику литературного дзюдо. Получается, что замысел автора направлен на то, чтобы сбить читателя с толку, чтобы само повествование входило в него неосмысленно, обманным путем проникнув через сверхпросвещенного цензора при входе (основательно, как автор, начитанного) и поражая его, еще не успевшего мобилизовать всю критику на защиту или же убраться с дороги, ниже пояса накатом жалости вперемешку со страхом. Все же вероятней всего, думается, Набоков выступает в двоякой роли: воздействуя на читателя высвечиванием подробностей помещичьего быта, завидных прелестей эксцентрики дворянства и дерзкого, но романтичного секса, он одновременно вскармливает чувство династической ностальгии по всем прелестям утраченного, проигрывая эротические сцены до самой frission[218]. Собственно, довольно трудно не заподозрить, что вся эта книга представляет собой некий экзерсис на тему исполнения сокровенного желания. Набоков с любовью воспроизводит «необыкновенную эпоху», широко вводя все свои любимые увлечения — сравнительную лингвистику, балаганную эротику, всевозможные отрасли естествознания, — разумея при этом, что мы не станем артачиться при чтении довольно утомительного созерцания птиц, довольно невразумительных изгибов паранойи и каламбуристики. В благодарность за нашу снисходительность Набоков увлекает нас в изысканнейшим образом спланированное им путешествие по le beau milieu[219] из придуманных когда-либо (точнее, со времен Пруста, с которым Набоков явно призывает себя сравнить), льстя нам издевательским намеком, будто и мы разделяем его полиглотскую образованность, и приглашая нас — замарашек-сироток демократических 60-х, носы уткнувших в витрины, — в настоящую оргию социосексуального вуайеризма. Однако после всего этого остаешься в недоумении. Зачем все это Набокову? Меня поразила в «Аде» явная диспропорция между намерениями и средствами их осуществления. Зачем такому талантливому писателю, как Набоков, тратить свою неуемную фантазию на какую-то пошлую сказочку, которая, лишенная своих пышных литературных метафор, едва ли лучше какого-нибудь скандинавского фильма? Зачем понадобилось столько писать, чтоб изобразить всего лишь воображаемый мирок, им самим же названный «Демонией», мир, явно неживой, населенный не людьми, скорее экзотическими тепличными особями, чья яркость не более чем яркость ядоносных насекомых? Возможно, Ван Вин олицетворяет собой отчаяние, присущее самому Набокову: Ван, неспособный «прожить и двух суток без женских ласк»; Ван, чей вожделенный пыл составляет чуть ли не всю центробежную силу романа, но неспособный к детопроизводству. Может быть, «Ада» — это муки ада для Набокова. Не знаю. Но книга производит неприятное впечатление. Kingsley Shorter. Harrowing of Hell // New Leader. Vol. 52. № 11 (June 9). P. 20–22 (перевод Оксаны Кириченко) Джон Апдайк Ван любит Аду, Ада любит Вана Если книга никак не приемлется читателем, это происходит потому, что автор не сумел воплотить свои замыслы или потому, что его замыслы неприемлемы. Поскольку в целом Владимир Набоков является самым образованным писателем в англоязычном мире (от которого он унаследовал в собственное пользование мыс на берегу Женевского озера), начальные части его гигантского романа «Ада» нельзя не воспринять исключительно как намерение оттолкнуть читателя. Никогда еще его проза — даже в надменности собственных предисловий к своим произведениям, воскрешенным с русского оригинала, даже в безумнейших воспарениях Гумберта Гумберта, — не стращала испуганного читателя таким потоком ощетинившейся эрудиции, каламбуров с душком, грубо внедряющихся вставок и плотоядных намеков. Например: «— Могу добавить, — сказала девочка [Ада], — что лепесток принадлежит обычной ночной фиалке, что мать моя была с придурью почище своей сестрицы и что бумажный цветок, небрежно брошенный в сумочку, точное воспроизведение подлесника, какой цветет ранней весной; я их видела в изобилии на прибрежных склонах Калифорнии в феврале прошлого года. Наш местный натуралист доктор Кролик, которого ты, Ван, упомянул, в целях, как сказала бы Джейн Остен, молниеносной сюжетной информации (Что, Смит, вспоминаете Брауна?), нарек экземпляр, привезенный мной в Ардис из Сакраменто „нага нога“, НА-ГА, любовь моя, но ни моя, ни твоя, ни цветочницы из Стабии, это аллюзия, какую твой отец, который, по утверждению Бланш, также и мой, оценил бы вот так (щелчок пальцами на американский манер)». Да и содержание, столь грубо проталкиваемое в наше сознание, не утешает нас взамен цельностью или убедительностью мгновенного понимания. Подзаголовок «Ады» — «Или Эротиада: Семейная хроника» — и главная семейная линия, какую можно охватить далеко не сразу, отталкивается от того обстоятельства, что две сестры Дурмановы, Марина и Аква, выходят замуж за мужчин с одинаковым именем Уолтер Д. Вин, двоюродных братьев, которых различают как Рыжего (или Дэна) и Демона. Демон имеет продолжительный роман с Мариной, однако женится на Акве, которая тут же впадает в безумие; единственным очевидным плодом этого несчастливого брака становится Иван, которого не следует путать с дядей Иваном, рано ушедшим из жизни братом сестер Дурмановых. Я сказал «очевидным», поскольку истинной матерью юного Вана является Марина, которая, будучи не только всегда готова, но и плодовита, является также матерью и другого внебрачного ребенка Демона, Ады, а также еще одной дочери — Люсетт — уже от законного мужа, Рыжего Вина, известного торговца живописью. Крайне инцестный («крайне» — так как официально двоюродные, а на деле родные, брат и сестра оказываются еще и троюродными по линии князя Всеслава Земского) роман Вана и Ады охватывает около шестисот страниц веселенького повествования. Генеалогическая неразбериха разворачивается в смятенных географических обстоятельствах планеты Демония, или Антитерра, где наша родная Терра — плод разрозненных слухов, скрепленных между собой видениями безумцев, являясь кое для кого предметом веры типа Царствия Небесного. На Антитерре Канадия и Эстотия включают крупные территории Франции и России (во многом став слепком памяти Набокова), а также изумительные достопримечательности, как-то: «отпечаток по-крестьянски босой ступни Толстого на автоплощадке в Юте, где и была написана история Мюрата, предводителя племени навахо, побочного сына французского генерала». Действие «Ады» в основном разворачивается во второй половине антитеррийского XIX столетия, после того как «Эль-катастрофа» вызвала запрет на электричество, вынудив народ осуществлять связь посредством «дорофонов», чей звон возбуждал урчание в канализации; сигнал там принимался восклицанием «А l'еаи!». Все в этом «искажающем зеркале нашей исказившейся планеты» нереально и явно отдает затхлым духом классического романа, не успеваешь отбиваться от комариных наскоков, типа «мистера Элиота, дельца-еврея», «доктора Фройта из Зигни Мондьё-Мондьё», «Les Amours du Docteur Mertvago», «Избранных произведений Фолкнерманна», «этого противного Норберта фон Миллера» и Джеймса Джонса с «именем стереотипным — решительное отсутствие иного толкования превращало его в идеальный псевдоним, если только имя не было настоящее». В самом деле, почему бы автору не изобрести некую «nulliverse», чтобы отобразить «онейрологически» содержимое собственного ума? «Эль-катастрофа» и ее «исключительное значение для появления и клеймения понятия „Терра“», — это, несомненно, русская революция, вызвавшая столь глубокий разлад в душе Набокова. Слияние Америки (Эстотиляндии) и России (Татарии) в единую идиллическую нацию, где все говорят по-французски, это не просто вышучивание Канады, — это метафора личной истории. Ветреный, вечно вожделеющий Ван воспроизведен из В.Н. Nabokov = Van + book. Ada (рифмуется с Nevada) — сочетание ardor и art — хотя, надеюсь, не имеет ничего общего с A.D.А.{189} Кроме того, Ада в некотором смысле и жена Набокова Вера, его постоянная помощница, та, которой неизменно посвящаются все его книги.{190} Встречаемые в тексте Адины пометки на полях Вановой рукописи представляют собой наиболее живые моменты в книге, являясь невольным сдерживающим началом неуемности авторского напора. Подозреваю, что многие моменты в этом романе являются отражением личных отношений между мужем и женой; скажем, кое-какие из педантично определяемых дат, возможно, используя любимое словцо нашего автора, «сверх-Адины». Я убежден, что трехъязычные каламбуры роятся и ползают («Je raffole de tout ce qui rampe» — «Обожаю всяких ползающих живностей!» — говорит Ада) под толщей романа, как лесные блошки под корой старого пня. Если нет времени особо углубляться в повествование, то терпеливое распознавание и упорядочивание сходств и противоположностей, составляющих геометрический абрис «нашего хаотичного романа», лучше с чистым сердцем перепоручить какому-нибудь аспиранту, который в перерывах между убегающей пенкой, пока жена бренчит с новорожденным или укачивает гитару, — клянусь Логом, эта манера таки заразительна! — способен беспрепятственно и себе в удовольствие долгие часы заниматься кропотливым распарыванием бисерного шитья, занявшего у Набокова пять лет любовного труда. Можно было бы начать с явно обозначенной анаграммы слова «инцест» («инцест», «свинец», «весник»), двинуться к бабочкам, похожим на орхидеи, и орхидеям, похожим на бабочек, замочить ноги в водных метафорах (окунуть себя в Акву, Марину, «А l'еаи!») и затем поиграть с «крестообразием», проявляющимся в нескольких удивительных сочетаниях — например, в спаривании бабочек, в фекалиях повествователя, в расположении мест роста волос у зрелой женщины. Надо отметить, что эта книга — наиболее религиозно ориентированная у Набокова, — она его Библия, и она его же «Буря», — и позволяет себе несколько косых взглядов на христианство, эдакий бойкий структурный эскиз сверхъестественности. Ада — женская форма от русского «ад», или Аид, Преисподняя, а, к примеру, в словах «нирвана» или Heaven присутствует имя «Ван». Однако — отвечая на вопрос, поставленный выше, — одной из причин, по которой писателю не стоило бы создавать «nulliverse», является то, что на Антитерре трудно достичь того притяжения, которым обладает даже самое слабое террийское повествование. И детали, и порой комичный, порой язвительный прилив авторских предрассудков и фантазий отторгают нас от ангелов и демонов, которые, оказывается, по замыслу обыкновенные люди. Уточним: блуждания Ады и Вана через препоны столь умелы, столь откровенно изъяты с чердаков мадемуазель де Лафайет{191} и графа Толстого, что трудно так же упиваться краткими моментами совокупления, как упиваются герои вместе с автором. В пейзаже «Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги» все перетекает в дурачество. Грешен, имею предрассудок: всякая беллетристика привязана к нашей земле, и пусть в разумных пределах можно искажать названия городков и малых городов, столицы и названия народов уникальны, и надо либо сохранять их названия, либо не называть вообще. Мне не по душе и то, что Набоков в «Бледном огне» присваивает штату Нью-Йорк название Аппалачия. Набоков, средь прочих обожаемых нами эпитетов, выдающийся поэт земной географии, который в своем замечательном рассказе «Ланс» увидел задолго до появления первых космонавтов «молящуюся женщину-Балтику… и грациозно сцепленных в прыжке с трапеции обе Америки, и Австралию, лежащую на боку, точно маленькая Африка». Эти образы и этот стиль уже настолько сами по себе неземные, что относить их к волшебной стране — масло масляное. В «Аде» ни единый пейзаж не может сравниться с русскими картинами в книге воспоминаний «Память, говори» или с бегством Лолиты и Гумберта Гумберта через всю Америку. С человеческими именами происходит то же, что с названиями мест; мы никак не можем вырваться за пределы игривого спаривания Аквы с Мариной, Демона с Дэном, и, хоть безумию Аквы отведено несколько прелестных страниц, а Демон исторгает нечто отдаленно выдающее в нем черты отца и человека, все четверо остаются ожившими анаграммами, парными придатками, не поднимающимися до одушевленных образов. Несомненно, мы находимся в мире хризалид и метаморфоз; как и в «Приглашении на казнь» и в «Под знаком незаконнорожденных», картонные декорации с кисейными занавесями падают, и автор-герой в предсмертном бессилии подбирается к краю авансцены. Таков и в самом деле финал, и заключительные страницы «Ады» — лучшие в книге и сопоставимы с лучшими творениями Набокова, но, чтобы до них добраться, приходится преодолеть необъятную пустыню насмешливой, призрачной, опасной заносами полуреальности. Определи реальность. Которая наличествует. Ты имеешь в виду ту, которую мы воспринимаем? Можно ли отделить вселенную, которая, я вижу, так тебе мила, от восприятия ее? Точнее, можем ли мы отделить реальность из книги от того, какой ее видит автор? Разве потому «дорофон» становится менее умозрителен, нем «телефон», что сотни тысяч «реальных» телефонов бакелитной хрипотцой перекликаются с последним, в то время как первый есть неповторимая выдумка властного писательского воображения? И разве не заслужил писатель аплодисменты и признательность за то, что осмелился, не уподобляясь Золя, отказаться от грязного вычерпывания болотной жижи «внешнего мира», столь же надуманного, как образ мира загробного, и двинуться по краю живой радуги, где писательское сознание сходится с читательским во мгле откатывающихся громов «традиционного» романа, и этот откат так восхитительно ознаменован живой радужностью пародии? Не кажется ли тебе, что твои плебейские придирки уже заранее будут проигнорированы и надменно отринуты величественным и презрительным мудрецом? Несомненно, этот риск просчитан. Кое-какие выпады намеренны. На второй странице романа Ван обезоруживает нас признанием, что имеет от «предков — весьма эксцентрический и нередко достойный сожаления вкус». И оборонительные нападки на полчища «критиков-кретинов». Но намеренно ли то, что общения между двумя любовниками насквозь провоняли взаимными расшаркиваниями, что диалог повсеместно сводится к каламбурам и словесным игрищам, а сам герой не человек, а животное? Когда девица, галантно поименованная им «жирненькой свинкой-потаскушкой» и лишившая его девственности, тянулась его поцеловать, Ван «отстранялся локтем». Стоило младшей сестре Ады Люсетт влюбиться в него, как Ван доводит ее до самоубийства. Когда ардисский посудомой Ким фотографирует любовные утехи Вана с Адой и пытается затем их шантажировать, Ван велит его ослепить, и вот «выволокли его из собственного загородного дома с одним глазом — повисшим на алой ниточке, с другим — утопающим в крови». Слава Богу, Ада время от времени упрекает Вана в бессердечии, напоминая, что «не все так счастливы, как мы с тобой», однако Вану чужда «дурацкая жалость — чувство, которое мне редко присуще», и он продолжает пестовать за счет других свое самолюбие, которое «богаче и достойнее, чем могут вообразить эти два ничтожества», каковыми оказываются двое любовников Ады, с которыми автор расправляется прежде, чем сумеет добраться до них оголтело рвущийся к дуэли Ван. В отношении Кима: «Воздана компенсация, — отвечал тучный Ван с утробным смешком. — Ким моими стараниями в тепле и при уходе содержится в превосходном Доме для инвалидов-интеллигентов, где получает от меня тонны превосходных книг для слепых о новых явлениях в хромофотографии». Подобное принудительное лечение скорее всего сродни «тем полезным занятиям, которым паралитики, лунатики и преступники обучаются в благородных учреждениях просвещенными руководителями, знаменитыми психиатрами, — например, переплетному делу или вставлению голубых бусин вместо глаз куклам, производимым другими преступниками, калеками и психами». Необходимо, хоть это и не всегда просто, разграничивать бессердечие героя и страсть автора книги к описанию ущербного и болезненного. Помнится, тихий профессор Пнин собирался когда-нибудь прочесть курс на тему: «История боли». В «Аде» мы находим безжалостную картину жизни после смерти: «Единственное осознанное чувство, которое сохранится и в бесконечности, это осознание боли». Крохотные частицы чувств, вот сплетение зубных болей, там свились ночные кошмары, — «точь-в-точь группки безымянных беженцев из какой-то стертой с лица земли страны, сбившиеся в кучку ради толики вонючего тепла, ради грязных подачек или ради того, чтоб поделиться воспоминаниями о невыразимых пытках, пережитых в татарских лагерях». Раздробленность сознания тонущей Люсетт («…подумалось: надо бы известить ряд редеющих Люсетт… что итог, именуемый смерть, всего-навсего более щедрый набор бесконечных дробей одиночества») прочувствована с чудовищной силой. Виной такой пронзительной сфокусированности на боли, смерти и безумии выставлен не Ван, выставлен наш мир. После смерти Люсетт Ван в своем письме выражает тоску по «иным, более глубоконравственным мирам, нежели наш катышек дерьма». Хотя выражение «катышек дерьма» — всего лишь фатоватая отмашка, а то, как Ван управляется в этом мире, купаясь в своих миллионах, выставляясь перед горничными, балуясь несовершеннолетними проститутками, громя литературных критиков, презирая своих студентов и свирепо отталкивая всякого, кто покушается на его нерушимую любовь к себе и обожание Ады, отражает открывшееся в нем, пусть неосознанно, моральное уродство, сравнимое с тем физическим, которое так его прельщает. Набоков родился и вырос в аристократической среде. Будучи человеком богатым, блестяще образованным, физически здоровым и полноценным, он чужд той психической неустойчивости, которая наделила модернизм Пруста, Джойса, Кафки и Манна таким уязвимым нутром. В своем недавнем интервью японскому журналу («Уми», т. 1, № 1) на вопрос «Какие писатели или произведения оказали на вас самое большое влияние?» Набоков преспокойно отвечает: «Никакие!» И в самом деле, нелегко в рядах литературных гениев, пополняемых, как водится, из среды благородных босяков и чахоточных, подыскать ему, ярко выраженному аристократу, ровню. Есть, правда, Толстой, и есть Шатобриан. Присутствие Толстого у Набокова значительно. «Ада» начинается с перекрученной начальной фразы «Анны Карениной» и завершается ощущением «такой радости и чистоты, такой райской невинности», навевая реминисценции из Толстого. У Набокова есть Вронский, и Китти, и Долли; левинское шифрованное ухаживание за Китти пародируется в скрэбблах Вана и Ады. Помещичья атмосфера Ардис-Холла в пародийном звучании воспроизводит толстовскую идиллию. Отец Вана укоряет его за принадлежность «к декадентской школе письма в компании с несносным стариком Лео и чахоточным Антоном», а Ада создает «симпатичную стилизацию… в подражание строю абзацев и концовок частей у Толстого». Перечень тайных аллюзий и переплетений, несомненно, можно продолжать. (Тут аспирантам карты в руки!) Однако Шатобриан, пред кем на ряде перекрестков автор книги уж готов снять шляпу, высвечивается с большим почитанием, как почитают деда при отце, который мужиковат, ходит в сапогах и вообще — коммунист-подпольщик. «Аду» роднит с «Аталой» сходство гласных в имени героинь, а также фантастическая Америка в качестве места действия, с «Рене» — тема инцеста, а с «Замогильными записками» — устремление в жизнь после смерти и еще общность звучания. Даже сквозь темную лакировку перевода некоторые краски и переплетения в прозе Шатобриана напоминают набоковские. В «Атале» так описан разлив Миссисипи (которой Шатобриан, скорее всего, в жизни не видал): «Но величавые картины природы там неизменно соседствуют с картинами, исполненными тихой прелести: меж тем как стремнина увлекает в море трупы дубов и сосен, течение несет вдоль берегов плавучие островки пистий и кувшинок, чьи желтые чашечки подобны маленьким беседкам. Зеленые змеи, голубые цапли, розовые фламинго, недавно вылупившиеся крокодилы пускаются в путь, словно пассажиры на этих цветочных судах, которые, распустив по ветру золотистые паруса, доберутся вместе со своим дремлющим населением до какой-нибудь укромной бухты»[220]. Обозревание противотечения, волшебная четкость видения, обнаруживание идиллии в самом центре волнения — все это роднит вышеприведенный отрывок с воспарениями прозы нашего русского писателя; Шатобриан, как и он, пережил революцию и увлекался натурализмом: «Но и при свете дня эти мхи не менее живописны, ибо, усыпанные роями пестрых бабочек и мошек, стайками колибри, зеленых попугайчиков, лазоревых соек, они подобны белым шерстяным коврам, которые ткач-европеец разукрасил яркими изображениями птиц и насекомых». Привычка воспринимать природу как произведение искусства сливается с приемом видения человека как некоего устройства, при том, что иные довольно печальные моменты производят эффект прерывистости: «Апполин де Бедэ [мать Шатобриана] имела крупные черты лица и была темноволоса, изящна и некрасива; ее грациозные манеры и живой темперамент контрастировали с чопорностью и невозмутимостью моего отца. Любившая общение, как отец уединенность, веселая и жизнерадостная, как он холоден и невозмутим, она была во всем полная противоположность своему супругу… Принужденная молчать, когда хотелось говорить, она находила утешение в какой-то шумной печали, прерываемой вздохами, и лишь это нарушало молчаливую печаль моего отца. Что же до милосердия, тут мать моя была сущий ангел». Позднее в «Мемуарах» у Шатобриана возникнет образ женщины, которую его воображение создало в уединении замка Комбур: «Мне являлась юная королева в алмазах и цветах (то была моя сильфида). Она увлекла меня в полночь в сад, под кроны апельсиновых дерев… небеса любви над нами нежились в звездных лучах Эндимиона; она, сама ожившая Праксителева статуя, устремлялась вперед, во мрак статуй недвижных, бледных пейзажей и молчаливых фресок, выбеленных лунным светом… шелковые пряди волос, выбившись из-под диадемы, упали мне на лоб, когда шестнадцатилетняя красавица прильнула ко мне, возложив мне на грудь руки, дрожавшие в благоговении и страсти». Вот она Ада — вплоть до алмазов и цветов, благоговения и страсти. Мы убеждаемся, что Ада — это Ван; что этот дуэт являет собой единое «А» как преломление отдельности; что Ада слишком пылка, слишком утонченна, слишком благоговеюща для окружающего мира. Ада говорит Вану: «…все мои мысли, ах, дорогой мой, мимотипы твоих!» Изнасилование — сексуальное преступление для черни, несовершеннолетних и буржуа, инцест — для аристократии. Романтизм, каждую личность наделявший аристократизмом, породил Вордсворта с Дороти, Байрона с Августой и Шатобриана с Люсиль, сестрой, разделившей его комбургское уединение, принявшей лунные черты его «сильфиды» и ускользнувшей от него в монастырь. «Рассуждая о мире, — вспоминает Шатобриан, — мы имели в виду тот, что существует внутри нас, имевший мало общего с миром действительным». «Я доверяю, Ван, твоему вкусу и таланту, — пишет Ада на полях „Ады“, — но скажи, вполне ли ты уверен, что стоит снова и с таким пылом обращаться туда, в тот злополучный мир, который в конце концов существовал, возможно, только онейрологически, а, Ван?» Ардисхолльская идиллия уходит корнями в детство писателя, воплощенное в художественной форме в начале романов «Дар» и «Защита Лужина». Эта идиллия предусматривает самопознание, познание поэзии, шахмат, мира чешуйчатокрылых (страсть Ады, не Вана), собственной незаурядности. «Ада» — это аллегория самовлюбленности, самоблагоговения; суть ее духа (а это — книга одухотворенная), выявляясь по спирали, состоит в утверждении, что, любя себя в облике своей сестры, феминизируешь тем самым свою душу, чтоб та, преобразив свое мужское начало, выявила себя, тем самым одухотворившись. То, что выплескивается наружу, — менее привлекательная инцестная самодостаточность, — окунувшись в неприятие окружения, тут же повергается в отчаяние. Хоть Ван спит со шлюхами, а Ада с дураками, лишь у единоутробной их сестры Люсетт достает отменной твердости стать между ними; когда она погибает, кидаясь в море (в высшей степени трогательно, как весьма возвышенно полагает Ван), союз Ады с Ваном становится лишь делом времени, которое, как сообщается в книге, является неподвижной «сероватой дымкой». В мире, лишенном субстанции, два гениальных близнеца-индивидуума рискуют впасть в акрофобию. ШАТОБРИАН: «Я преуспел в изучении языков; я овладел математикой, к которой всегда имел ярко выраженную склонность: я смог бы стать неплохим морским офицером или военным инженером… я хорошо играл в шахматы, бильярд, отлично стрелял и фехтовал; я рисовал вполне прилично; я мог быть замечательным певцом, стоило лишь хорошенько позаниматься». ВАН: «Ему десять лет. Они с отцом по-прежнему жили где-то на том Западе, многоцветие гор которого действовало на Вана, как на всякого одаренного русского мальчика. Он мог быстрей чем за двадцать минут решить любую задачку из предложенных Эйлером или выучить наизусть поэму Пушкина „Всадник без головы“». ШАТОБРИАН: «Воображение мое, воспламененное и распахнутое во все стороны, тщетно искало повсюду надлежащей пищи, готовое поглотить небеса и землю». ВАН: «Надо было все писать по-своему, но коньяк оказался чудовищен, и история мысли ощетинилась штампами, но именно эту историю ему и предстояло одолеть». ШАТОБРИАН: «В жизни, столь легковесной, как эта, столь непродолжительной, как эта, и лишенной всяческих иллюзий, есть лишь две истинных ценности: союз религии с интеллектом и союз любви и молодости… прочее не стоит упоминания». ВАН: «…этот катышек дерьма…» ШАТОБРИАН: «И, наконец, венцом всех моих страданий было беспричинное отчаяние, теснящееся в глубинах моего сердца». ВАН: «Он не понимал, что ж все-таки не дает ему умереть на ужасной Антитерре, если Терра — миф, а все искусство — игра…» Искусство — игра? Набоков строит на этом все свое творчество, и существуют предприимчивые молодые критики, которые, заместив Пруста, Джойса и Манна новым аллитерирующим триединством из Беккета, Борхеса и наБокова[221], хотят показать, что замечательные старцы являются создателями ладных и герметичных, вроде огромных пластиковых кубов на выставке образчиков минимализма, ларцов, внутри которых все блестит и отражается, но замкнуто, отчуждено даже от языка самих произведений. Не соглашусь. Искусство — отчасти игра, отчасти жестокая эротичная схватка с Предметами Как Таковыми; в ларцах могут иметься отверстия, откуда может проглядывать действительность и куда могут заглядывать читатели. Беккет демонстрирует нам порочные рудименты нашего бренного существования; Борхес приоткрывает окно в одиночество исторического лабиринта и навстречу героическим веяниям, несущимся с аргентинской равнины. А «Ада», хоть и устремлена к «искусству, ныне ставшему чистым и абстрактным, и потому истинным», вся состоит из пробоин, фрагментов, страниц и фраз, жизнь которых проистекает из нашей жизни. Неужели? Так ли? Что-то не вяжется с хвалой пространству. (1). Сама Ада. Умная и путаная и добрая в своих приписках на полях, не слишком женственная в своих промахах и увертках, весьма любвеобильная, как героиня порнографического романа, и в ходе повествования какие только номера не откалывающая. Границы сексуальных откровений, поднятые некогда «Лолитой», несколько откатились к прошлому; Набоков добавляет прелестную страницу (с. 141) к быстро набирающей обороты американской антологии оральной любви, а перечисление Адиных прелестей, начинающееся со с. 215, исполнено с саффической чистотой и гомеровским блеском. (2). Рассуждения, ближе к концу, о времени и памяти. Хотя набоковское опровержение Фрейда и Эйнштейна выглядит как потуги весьма впечатляюще разряженного колдуна описать работу двигателя внутреннего сгорания в терминах высшей силы, а также магии, основанной на внушении, наблюдать это забавно; а его попытка в шутливой лекции вскрыть глубинные тайны бытия приобретает жутковатое величие крайнего богохульства. Научная фантастика в лучшем виде. (3). Тысячи образов и языковых моментов, в которых проглядывает интеллект и высвечивается нечто удивительное. Берем наугад: эпизод, когда Демон дорофонирует Марине «из придорожной будки, на хрустале которой слезами высыхали капли отбушевавшей грозы», умоляя ее приехать посмотреть, «как блестят цветы, высвободившиеся после дождя среди пустыни». (4). Вся Часть V, которая «вовсе не эпилог: это самое настоящее вступление к моей на девяносто семь процентов правдивой, на три правдоподобной „Аде, или Эротиаде, семейной хронике“». Автор, «брюзгливый старый седой мастер слова на краю гостиничной кровати», признается нам с высоты своих девяносто семи лет, что такое быть старым, известным, удовлетворенным импотентом. Он описывает свои лекарства, а также «спасительный эффект растворенной в воде столовой ложки соды, которая, несомненно, приструнит три-четыре отрыжки, объемных, как облачка слов из комиксов его детства». Он встречает смерть и ее предвозвестницу боль: «Колосс, с напряженным от усилий лицом, закручивает и перекручивает что-то в механизме агонии». Обнаруживает, что Терра, в какой-то степени нечаянно, сливается с Антитеррой. Ада вместе с Ваном переводит на русский строки из Джона Шейда, кидая последний из множества в творении Набокова взглядов в прошлое. И потом оба умирают, попадая «в Эдем или в Ад, в прозу самой книги или в поэзию ее рекламной оболочки». Эта оболочка и завершает книгу. Странно, но убедительно; чувства, испытываемые к концу жизни, получают отражение на бумаге. Вот бы подобный союз блистательного ума и скупого содержания объявился раньше в романе «Ада»! Погодите-ка, une petite minute, pazhalsta, — что это за расплывчатое, если не сказать тошнотворное, квазимистическое: «чувства, испытываемые к концу жизни»? Словом, религиозное бытие человека составляет в наше время последнее прибежище уединенности, но из «Ады» и иных источников явствует, что Набоков — мистик. «Ты веришь, — спрашивает Ада Вана, — веришь в существование Терры? Да, веришь!» Так и Набоков на вопрос интервьюера из журнала «Плейбой», верит ли он в Бога, ответил: «Я знаю больше, чем могу выразить словами, и то малое, что могу выразить, никогда не было бы выражено, не знай я больше того». В том же интервью он рассказывает, что его подготовка к работе над романом состоит из неспланированных записей, осуществляемых по воле некой «силы», подобной той, что побуждает птицу собирать соломинки для сооружения гнезда. Как Шатобриан нашел утешение для своего неуемного эгоизма и болезненности в католической ортодоксии, так и Набоков в своем фанатичном педантизме сам воздвиг себе храм; в тысячестраничном собрании примечаний к «Онегину» мы наблюдаем это готическое построение, где даже капители у стен старательно украшены резным орнаментом. Отголоски Шатобрианова угрюмого и неистового воссоединения с природой в Комбурге мы обнаруживаем в более радужных откровениях Набокова в Выре по поводу причудливого склада природы, в особенности проявившегося в мимикрической окраске чашуйчатокрылых, в той самой мимикрии, чья бесподобная изобретательность кажется необъяснимым чудом для механического строя эволюции. Художественное творчество Набокова, от богатой каламбурами прозы и персонажей-двойников до изысканности обманчивого рисунка каждой истории, воссоздает открытое им в детстве наличие чистого искусства в глубине Природы. Если, однако, Природа сама — произведение искусства, то должен же за этим стоять пусть не Создатель, то хоть некая подразумеваемая необработанная реальность, и самым дерзким и печальным свойством романов Набокова является их попытка сдернуть с себя все, накинуть собственные художественные покровы, чтобы затем и их снять. Отсюда повторяющийся прием незавершенной, несовершенной рукописи; подобный текст — это не только заметки Ады на полях, но и различные нестройные зачины абзацев, а также характерные для верстки редакторские пометки в скобках. В момент неполного откровения Ван говорит: «То было странное чувство — будто что-то проиграно по ошибке, часть фразы попала не в то место в верстке, эпизод, выпавший преждевременно, повторяющаяся ошибка, неверной поворот времени». Это «странное чувство» и есть то самое ощущение «к концу жизни», которое Набоков стремится воплотить в «Аде»; это «странное чувство» пребывает в центре его творческого экстаза и устремлений, а также его не всегда изысканных мистификаций, его не везде проясняемого поиска оттеночных намеков. В «Бледном огне» Джон Шейд проявляет неожиданный конкретный интерес к загробной жизни; в «Аде» Набоков выразил стремление создать с помощью собственного Аида и Нирваны Иную Жизнь. Искусство начинается с чуда. И хоть, сдается мне, Набоков действует самовольно, без милосердия и сострадания, присущих священнослужителю, он претендует на куда более древний титул кудесника. John Updike. Van Loves Ada, Ada Loves Van // New Yorker. 1969. August 2. P. 67 (перевод Оксаны Кириченко). Роберт Олтерс{192} Эротиада Набокова Владимир Набоков среди ныне живущих писателей, пожалуй, является наиболее изысканным мастером формы, и потому не только в отдельных его произведениях, но также и в ряде его книг мы с удовольствием отмечаем наличие некоего формального единства. В своем послесловии 1956 года к роману «Лолита» Набоков предуведомлял, что для глубокого понимания его творчества необходимо учитывать его русское наследие; и вот переводы и переиздания на английском семи из девяти его русских романов, по сути, продемонстрировали, что «Лолита», книга сама по себе далеко не блистательная, явилась всего лишь наиболее ярким и притягательным явлением в серии книг, которые на протяжении трех десятилетий изобилуют парадоксальным переплетением воображаемого и реального, показывая художника и его мир в тяжеловесно-иносказательной, запутанной и пародийной беллетристической форме. Те же устремления возымели затем даже более необычное и замысловатое по форме воплощение в «Бледном огне», в то время как в «Лолите» новый смысловой акцент в поисках райского прошлого (золотого «княжества у моря» Гумберта Гумберта) возник в косвенном преломлении через тоску Кинбота по утраченному королевству. Ныне в семьдесят лет, в возрасте, когда большинство известных романистов сходят на нет, Набоков создал значительное произведение, где в сугубо формальном смысле сконцентрировано многое из его поисков, выявившихся за сорокалетие активного творчества. «Ада» является наиболее полным воплощением программы в отношении к роману, провозглашенной Набоковым в 1941 году в его первом произведении на английском языке — «Истинной жизни Себастьяна Найта»; как и Себастьян Найт, автор «Ады» вдохновенно использует пародию как некую подкидную доску для прыжка «в высшие сферы серьезных чувств», благодаря чему ему удается воплотить с новой глубиной и широтой связь между искусством, реальностью и эфемерным, вечно ускользающим присутствием прошедшего времени. Поскольку пародия составляет сущность набоковского метода и поскольку объектом пародии у него выступает чаще всего содержание, ситуация и мотив, нежели стиль и манера повествования, пересказ содержания любого из его романов неизбежно заведет нас в тупик. (Сбить с толку неподготовленного читателя как раз входит в намерение Набокова: так, четыре заключительных абзаца «Ады» представляют собой расхожую рекламную аннотацию книги, проза романа завершается концовкой, которую сам повествователь насмешливо-иронически именует «поэзией ее рекламной оболочки».) «Ада», которая, несомненно, является одним из наиболее светлых романов в нашем столетии, представляется, если судить по начальным наброскам общего замысла, мрачной драмой роковой инцестной страсти. Ван Вин, девяностолетний рассказчик собственных воспоминаний, в четырнадцать лет страстно увлекся двенадцатилетней Адой, якобы своей кузиной, — как выяснится впоследствии, родной сестрой. Обоих неукротимо влечет друг к другу внутренняя общность, однако разделяет общественное табу, а также весь ход дальнейших событий. В течение двадцати лет, с поры раннего созревания до полной зрелости, любовники четырьмя мимолетными периодами упиваются своей недозволенной страстью, но с каждым разом разлука все дольше, и вот Ван ищет замену своей Аде в тысячах шлюх и любовниц, а оба с годами все более черствеют, теряют свой пыл, так что, когда наконец к середине жизни сходятся, страсть хоть еще и не иссякла, но уже, конечно, приглушена. Более того, при всех их схождениях и разлуках на заднем плане, как бы третьим, меньшим по величине углом абсолютно инцестного треугольника, выступает трагическая фигура Люсетт, каждому из них наполовину сестры, неукротимо, самозабвенно влюбленной в Вана, любящей Аду — периодически — в чисто физическом смысле этого слова и под конец, будучи отвергнутой Ваном, кончающей с собой. Вышеизложенное может вполне произвести впечатление бульварного чтива, в особенности если добавить к этому, что роман, как ни одна из предыдущих книг Набокова, в высшей степени подробен в описании сексуальных сцен. Истинное звучание романа, разумеется, крайне далеко оттого, что излагается в пересказе сюжета. На стилистическом уровне этот очевидный парадокс легко объясним: причудливо сотканный, изысканно метафорический набоковский стиль, с его живописными эффектами и игрой увеличительных стекол, волшебно преображает объекты описания, пусть даже чисто пикантно-физического свойства, в objects d'art[222]. Скажем, когда повествователь в некой видимой обстановке описывает всех троих связанных кровным родством персонажей в одной постели (безусловно, пародия на сцепку menage a trois[223], ставшую ключевым эпизодом порнографической литературы), он предлагает нам взглянуть на происходящее как бы в отражении потолочного зеркала в воображаемом борделе, после чего облачает необузданность эротики в форму контрастного слияния красок и жестов. Физическая деталь не замалчивается — «деталь — это все». Ранее Ван Вин утверждает реальность всякого опыта и памяти — однако, если вспомнить стратегически узловой момент, зримый сексуальный пушок рыжей Люсетт и черноволосой Ады обретает здесь образ и сменившей оперенье жар-птицы и восхитительного иссиня-черного ворона, контрастных райских птиц из воспетой поэтом Страны Чудес. Стоит переключиться со стилевых эффектов на более пространные повествовательные фрагменты романа, и без учета вездесущей литературной аллюзии уже трудно представить себе всю сложность инцеста. Чтобы начать разговор об аллюзии, необходимо сперва кое-что сказать о времени и месте действия. Основное действие «Ады» начинается в конце XIX — начале XX века в мире, поочередно именуемом Антитерра или Демония, географически совпадающем с нашим, однако со своей историей, вызывающе отличной от нашей, хотя и имеющей с ней параллели. Территория, которую мы зовем Россией, несколько столетий тому назад оказывается завоеванной татарами, Америку населяют русские, а также английские и французские колонисты, потому три родных языка Набокова, как и три литературных традиции, призваны развиваться рядом друг с другом как составляющие единой национальной культуры. С террийской точки зрения (кстати, Терра Прекрасная — это воображаемая небесная страна, символ веры главным образом для душевнобольных с Антитерры) периоды истории, как и культурные границы, перекрещиваются: на Демонии XIX века мирные сельские поместья в стиле Чехова и Джейн Остен уживаются с телефонами, аэропланами и небоскребами; героиня, шаржирующая Мопассана, становится современницей автора романа в духе «Лолиты», анаграмма имени которого выдает намек на X.Л. Борхеса. Подобный выбор вымышленного антимира предоставляет Набокову свободу пикантно-двусмысленным образом сочетать и менять местами культурные и исторические реалии, хотя, возможно, порой дарит соблазн потворствовать своей фантазии, так что вдруг начинает казаться, будто эти его игры с анаграммами, трехъязычными каламбурами, скрытыми намеками и сплавами аллюзий затеваются просто так, а не потому, что вызваны творческой необходимостью в более широком смысле. (Все же следует отметить, что многое из таких спонтанных игр, в особенности те, куда вовлечены известные литераторы, настолько восхитительны сами по себе, что отмахнуться от них не поднимется рука.) Лично мне очень нравится то, как подан Т.С. Элиот, представленный в несколько усеченном образе его же собственного персонажа, толстошеего Суини («церемонный Кифар Суин, банкир, сделавшийся в шестьдесят пять avant-garde литератором… ему удалось создать написанную свободным стихом поэму „Бесплодоземье“ — сатиру на англо-американские гастрономические пристрастия», который, в наипоэтичнейшей манере для автора антисемитских выпадов, появляется в компании со «стариной Элиотом», евреем — торговцем недвижимостью). Как бы то ни было, но важнейшим достижением Набокова, обретенным через самим себе дозволенную свободу перемещаться туда-сюда, пересекая границы времени и культуры, является его способность вместить в жизнь-космос своего героя обзорную пародию на развитие современного романа. Сюжет начинается в классическом для романа веке, и действительно все события происходят в характерном для романа времени и пространстве. Поместье Ардис, где юный Ван Вин встретит Аду, изначально вводится, что характерно, следующим описанием: «После очередного поворота взору открылся романтический особняк, точно в старых романах, — на небольшом пригорке». Повествование часто перемежается подобными пометками, напоминая читателю, что все здесь происходит как бы в рамках заезженной литературной традиции, а между тем обстановка меняется быстро, и не обязательно в хронологической последовательности, от романтического recti[224] к Джейн Остен, Тургеневу, Диккенсу, Флоберу, Толстому, Достоевскому, порнографическому роману, готическому, к Джойсу, Прусту, и за всем этим стоит Набоков. Весь «сюжет» фактически, если можно так сказать, возникает из череды шаблонных картин традиционного романа — возвращение молодого человека в родовое поместье, празднование именин на природе, званый ужин, полуночный лик старого поместья, неистовый побег героя на рассвете из родного дома в результате недоразумения, дуэль, распутная жизнь героя в большом городе и т. п. Хотя метод аллюзии един во всех романах Набокова, отметим своеобразное тематическое оправдание его повторяемости в пародировании развития жанра, поскольку история Вана Вина как раз являет собой в жанровом отношении обратный ход магистрального тематического движения самого романа. Что характерно, этот роман повествует об утрате иллюзий — таково, как известно, название романа у Бальзака, — от донкихотствующего рыцаря, который в конце концов оставляет свои поиски Золотого Века, умирает сломленным, коря свои романтические мечты, и далее — к Эмме Флобера, которая, приняв мышьяк, в предсмертных конвульсиях освобождается от грез о Голубой Дали; к Анне Карениной (первая фраза истории о ней приводится в переиначенном виде в первой же фразе романа «Ада»), закончившей свою мучительную жизнь под колесами поезда. Все «счастливые концы», которые мы находим в классическом романе, обычно просто дань традиции (Диккенс) или трезвое приспособление героев к законам общества (Джейн Остен, Джордж Элиот). «Ада» становится им прямой противоположностью, являясь попыткой возвратиться к раю, фактически утвердить яркий образ молодости и первой любви как наиболее сильный неизбывный и реальный опыт нашей жизни. В этом смысле здесь есть сходство с прекрасными лирическими воспоминаниями Молли Блум о расцвете первой любви в конце романа «Улисс», а также с победой Пруста над временем силой искусства в последнем томе его романа, однако в «Аде» предпринята более дружная лобовая атака на Рай, чем в обоих этих произведениях. Для понимания того, зачем потребовалась Набокову инцестная любовь, обратимся к помощи двух ключевых, весьма ценных аллюзий. Одна проста и является чистой параллелью от противного; другая сложна, поскольку она — воображаемая модель всей этой книги и разветвляется на другие, сходные с нею аллюзии. Несколько ссылок по ходу сделано в адрес Шатобриана; Ада шутливо называет Вана «мой Рене»; да и первая часть названия «Ада, или Эротиада» подозрительно напоминает пародию на такое романтическое: «Рене, или Следствия страстей». Как и Ван, Рене личность незаурядная, с поэтической душой, испытывающая несказанное наслаждение от буколических прогулок с прелестной своей сестрой, пока инцестная природа связи не вынуждает их расстаться. На этом параллели кончаются; все остальное решительно не совпадает. «Рене» — книга, проникнутая романтической mal de siecle[225], а Рене с Амели, в отличие от брата и сестры Винов, никак не подходят под определение «дети Венеры»; райское удовлетворение желания в обгон нравственности совершенно немыслимо для Рене и его сестры, так что само появление такого желания гонит Амели в монастырь и буквально приводит к мученической смерти их обоих. В «Аде» с залитой солнцем реки Ладоры близ поместья Ардис раскрывается вид на Замок Бриана (по-французски Chateau-Briand), «далекий, романтично черневший на холме, поросшем дубами». По контрасту, основное свойство мира Вана Вина — яркость и глубочайшая близость, социальная и сексуальная, ощутимая и зримая; очевидно, что дуб из его мира принадлежит пейзажу, совершенно отличному от притемненных кущ романтизма. Рене страстно желает смерти, представляет ее себе в туманном притягательном ailleurs[226], словно конкретные предметы этого мира не способны удовлетворить его экстатическое, смутное ожидание чего-то. Напротив, набоковские герой и героиня испытывают восторг от конкретных проявлений этого мира, наблюдают и вспоминают их нежно, с педантичной тщательностью, и обоим страстно притягательной кажется жизнь в этом мире, при том, что каждый друг другу самая надежная опора, мужское V Вана или наконечник стрелы (ardis по-гречески) идеально совпадает с его перевернутым, с перекладинкой, женским зеркальным отражением, с А его сестры-души (вниманию любителей символов и бдительных фрейдистов). Зеркальная игра инициалами Вана и Ады — подчеркнутая, когда Набоков находит подходящий драматический момент, чтобы изобразить А вверх тормашками, — предполагает, что эти двое — идеальные любовники исключительно потому, что половинки одного целого. В самом Деле, ведь книга Вана практически «написана» ими обоими, единое воображение под названием «Ваниада» самовыражается двумя голосами попеременно. Родинка на тыльной стороне правой руки у Вана повторяется точно такой же на Адиной правой руке, поскольку и физически и психологически оба любовника и в самом деле две половинки того двуполого первобытного человека, которого Аристофан так красочно расписывает в «Пире» Платона. По талмудистскому преданию, Адам в Раю до сотворения Евы был существом двуполым, и Набоков, явно вслед за талмудистами, соединяет греческий с древнееврейским мифом, воплощая в своих переплетшихся причудливым образом брате и сестре образ безгреховного, цельного человека. Основным ключом к замыслу Набокова в этом смысле становится одна повторяемая аллюзия, в особенности в той части, где описывается Ардис: отсылка к одному из наиболее ярко воплощенных в англоязычной поэзии образов рая, к стихотворению Марвелла «Сад». Ада девочкой пытается перевести это стихотворение на французский (в ее версии дуб зримо открывает вторую строку); после первой разлуки влюбленных именно это стихотворение так удачно становится для них ключом к шифру писем, которыми они обмениваются. Второе четверостишие стихотворения, в романе не приводимое, начинается такими словами: «Такой покойной нашел тебя я здесь / И с Непорочностью, твоей сестрой любезной! / Как долго заблуждался я, считая застать тебя / В шумном Кругу Поклонников». Эти строки, безусловно, как нельзя лучше соответствуют духу романа, словно бы являясь его эскизом, хотя «сестра» и «непорочность» обретают здесь совсем иной смысл. Стихотворение Марвелла — блаженное видение, далекое от безумств физической страсти; одинокий обитатель сада, однако, там с чувственным восторгом упивается сочными плодами, упавшими с дерев, услаждая ими свой вкус, тогда как ум его погружен в сладостное самосозерцание, где — не под стать ли автору «Ады»? — он «создает в возвышенном порыве / Далекие иные Миры и иные Моря». В ардисских кущах «Ады» также с ветвей сыплются сочные плоды, когда карабкающаяся на дерево Ада, поскользнувшись, падает, обхватив ногами спереди шею изумленного Вана, невольно подставляясь для первого интимного поцелуя, так как, о чем мы уже неоднократно осведомлены, нижнего белья она не носит. Тут же Ада провозглашает это дерево Древом Познания, доставленным в поместье Ардис из Эдемского Национального Парка, однако ее соскальзывание с ветвей явно обращается в Благопадение, ибо в этом саду, как и у Марвелла, совершенно немыслим непоправимый грех. Кроме того, марвелловское стихотворение рисует образ Грехопадения комически, без каких бы то ни было дурных последствий: «Споткнувшись походя о дыни, / запутавшись в цветках, я грянул на траву.» Подобным же образом перевитие рук и ног пылко сплетающихся Вана и Ады уподобляется древней как мир растительной жизни, приравниваясь к завиткам вьюна; а Ван, бросившись прочь вслед за последним перед первой разлукой объятием, и впрямь описан бегущим, «спотыкаясь о дыни», и эта аллюзия как бы подсказывает нам непременное его возвращение в свой Адо-Ардисовый Рай. Вместе с тем именно завершающее четверостишие «Сада» Марвелла являет нам наиболее правдоподобную модель того, к чему Набоков стремится в своей «Аде». После того, как душа обитателя сада расправила, встряхнув, свои серебряные крылья средь ветвей, поэт мысленно возвращается назад к изначальному раю Адама и затем возвращает нас к «Истинному» миру времени, но времени, не преображенному искусством, к природе, упорядоченной «умелым Садоводом» в виде цветочного циферблата, указывающего время. Труженица пчела ныне, под стать человеку, «отсчитывает себе время» по травам и цветам (по произношению XVII века возникает каламбур: time-время thyme-тимьян, создавая игру чисто в стиле Набокова); посредством художественной алхимии воссоздания рая в золотистой прозрачной сущности, восхитительной на вкус и на вид, возникает время-разрушитель. Набоков просто стремится создать такое взаимопереплетение искусства и наслаждения, которое выходит за границы времени или, скорей, ухватывает его иллюзорно-живую «ткань», как именует это Ван Вин, и именно здесь в конечном счете и состоит драматический смысл не ослабевающего в романе акцента на эротике бытия. Этот момент еще явственней проясняет в романе уже иная аллюзия. В ходе повествования «Сад» Марвелла перекликается с другими стихотворениями, и самое из них значительное — «Приглашение к путешествию» Бодлера, пародируемое в романе с присовокупленным ко второй и третьей строкам образом дуба, чтоб связать со стихотворением Марвелла. Стихотворение Бодлера также представляет собой восхитительную мечту об идеальном мире, мире, наполненном общечувственным и конкретно-эротическим восторгом, при этом переданном, как только и может подобное блаженство быть передано, превосходным подбором художественных средств. На фоне нашего романа знаменитые начальные строки стихотворения становятся воплощением образа Ардиса, обращением Вана к Аде: «Mon enfant, та soeur, / Songe a la douceur / D'alter la-bas vivre ensemble! / Aimer a loisir / Aimer et mourir / Au pays qui te ressemble!» (Дитя мое, моя сестра, / Подумай, какой восторг, / Уехать туда и жить вместе! / Жить без забот / Жить и умереть / В стране, что похожа на тебя!). Знаменательно, что фрагменты этих строк проговариваются Адой в тот момент повествования, когда им вспоминается их первая близость; важно, что именно тогда Ада, по сути, признается Вану в том, что они не разрозненны, а едины. Стихотворение Бодлера, таким образом, подчеркивает то, что уже по другим причинам стало явным в романе: «Ада» строится на парадоксальном прослеживании идеальности в природе посредством идеального искусства, самоосознанного, аллюзивного и восхитительно организованного. В этом смысле Набоков к тому же следует образцу Мильтона (в одном месте пародируемого тетраметрами) в его четвертой книге «Потерянного Рая», где Эдем до грехопадения описан с восхитительной нарочитостью красиво — цветущий сад с сапфировыми ключами, золотым песком, багряными плодами, зеркально-хрустальными ручьями — и где предшествующая литературная традиция представлений о рае воплотилась в лукавой манере отрицания («Не в полях прекрасных Энны…» и т. д.). Возможно, «Ада» как роман потеряла что-то, явившись масштабным поэтическим образом Рая: порой Ван с Адой кажутся больше голосами и персонажами лирической поэмы, чем персонажами романа; переизбыток совершенства, воплощаемый ими, делает их менее интересными в индивидуальном смысле, менее привлекательными человечески, чем многие из предшествующих набоковских героев. Зато выражение в «Аде» всей полноты восторга любовника перед жизнью и прекрасным в ней взмывает до таких высот, каких редко кто из писателей достигал за всю историю развития романа. Позвольте мне привести краткий, показательный отрывок, где настоящее любовников сопоставляется сих ардисским прошлым: «Ее пухлые, блестевшие липким губы улыбались. (Когда я тебя сюда целую, говорил он ей много лет спустя, постоянно вспоминаю то голубое утро и балкон, где ты ела tartine au miel[227]; пусть по-французски, так лучше). Классическая красота цветочного меда, светлого, гладкого, прозрачного, плавно стекавшего с ложечки и расплавленной медью заливавшего хлеб с маслом моей любимой. Крошки вязли в нектаре». Хлеб, намазанный медом, в значительной степени выступает набоковским эквивалентом прустовского petite madelaine[228], а также еще более эротичного лакомого кусочка, того восхитительного печеньица с тмином, которым Молли Блум потчует своего юного возлюбленного Леопольда. В сладостном вкусе сливаются прошлое и настоящее или, точнее, они сливаются в сладости, мгновенно зримой и вспоминаемой, кристаллизирующейся затем в прозрачном строе стиха, текущего мелодичными наплывами сквозь причудливый хореографический рисунок дактилей и хореев к метафорической кульминации-парадоксу — мед как растопленная медь — и к замещению в финале меда нектаром, теперь уж «в буквальном смысле» пищей богов. Повествователь неоднократно старательно уведомляет нас, что Ада созвучна с русским «ад». Я бы трактовал этот факт как то, что Ада с Ваном в своем Раю пребывают в состоянии до познания добра и зла, когда не существовало рая и ада как таковых. Однако здесь также можно предположить, что у райского воплощения того заветного, получаемого Ваном от его сестры-души, есть и черная оборотная сторона и что самоубийство, к которому оба они невольно толкают Люсетт, может означать, что райская любовь способна возыметь адские последствия при столкновении с жизнью иных людей, не попавших в пределы Райского Сада. Как бы то ни было, основной смысл романа заключается в том, что все угрозы со стороны зла, в том числе и зла, связанного с разрушительным ходом времени, в конце концов превозмогаются объединенными усилиями искусства и любви. Эта мысль в виде последней шифровки фиксируется в конце романа ключевым знаком утверждения. В заключительной части на заднем плане таинственно фигурирует непонятный персонаж по имени Рональд Оранджер. Так как он женится на секретарше, перепечатывающей рукопись Вана, и так как он с женой, судя по предваряющему роман уведомлению, единственные из важных персонажей здравствующие на момент выхода книги в свет, можно предположить, что в результате именно Оранджер ответственен за рукопись «Ады», он незримо распоряжается ею в конце. О нем мы не знаем ничего, кроме имени и того, что по-французски oranger означает «апельсиновое дерево». В «Саде» Марвелла конкретно апельсиновые деревья не упоминаются, однако они наглядно присутствуют в «Бермудских островах», другом замечательном стихотворении Марвелла, повествующем о райских кущах. В любом случае имя «Ronald Oranger» смотрится как анаграмма, в которой можно прочесть обратный названию книги смысл: «angel nor ardor» — что, так сказать, в качестве закрепляющей силы искусства, питаясь вдохновляющей силой любви, отделяет небеса от ада, Рай от Ады, утверждая то идеальное состояние, что проистекает от чувственных страстей, но выходит далеко за их пределы. К счастью, шифровые игры и аллюзии в «Аде» всего лишь указывают на полноту своеобразия художественного богатства этого романа, которое в конечном счете существует независимо от этих шифров. Мало книг, созданных в наше время, доставляют читателю такое удовольствие. Возможно, не так уж грешит против истины заключительная пародия на рекламную аннотацию, представляя роман как бездонный кладезь редчайших радостей: в набоковском саду не счесть изумительных уголков, художественное своеобразие которых я попытался очертить в своей статье, а также есть там, как справедливо заключает упомянутая аннотация, «многое, многое другое». Robert Alter. Nabokov's Ardor // Commentary. 1969. Vol. 48. № 2 (August). P. 47–50 (перевод Оксаны Кириченко). Элизабет Долтон{193} Ада, или Nada[229] Чуть ли не единодушное признание, которым встречается «Ада», можно, пожалуй, объяснить отсутствием у ее читателей самолюбия, некритически подобострастным отношением ко всему непонятному и тягомотному. С трудом продираясь сквозь роман и найдя его столь же пространным и трудным для чтения, как роман Пруста или Джойса, затравленный читатель заключает, что книга равно восхитительна. Осилив скучное чтение, отчего ж всласть не порассуждать о книге. Все же головоломка и литература — явления разного порядка. «Ада», хотя бы по замыслу, бесспорно, творение основательное, попытка создать некий ключевой роман, воплотить в законченной форме все условности его величайшей темы — романтической любви. Охваченные инцестной любовью Ада и Ван — «уникальная, супер-императорская чета», символ красоты, блеска и превосходства, с пороками, поданными как достоинства, — неуемный сексуальный аппетит и вельможное презрение к окружающим, которым, учитывая ошеломительные отзывы о них наших героев, остается принимать все как должное. Как уже теперь известно всем, книга эта полна литературных ассоциаций, а Ван с Адой прекрасно отдают себе отчет в том, какую традицию олицетворяют. Ада в особенности старается выглядеть героиней литературы и обожает предварять свои ремарки фразами, типа: «Как сказали бы герои старого романа…» Она называет Вана «топ cher Rene» — именем юного, влюбленного в собственную сестру, героя романа Шатобриана, и почему-то сравнивает себя с Фанни Прайс из «Мэнсфилд-Парка». Действие романа происходит на планете, именуемой Демония, или Антитерра (брате-близнеце Терры, где живем мы), в провинции Эстотиландии, располагающейся где-то в том месте нашего шара, где расположена Канада, и населенной колонистами русского, ирландского и французского происхождения. Сказочно богатые русско-ирландские аристократы, официально двоюродные, но на самом деле родные брат с сестрой (единокровные, а не сводные, как утверждают некоторые критики: оба — плод связи Демона Вина с Мариной Дурмановой), четырнадцатилетний Ван Вин и двенадцатилетняя Ада Вин летом в поместье Винов Ардис-Холле становятся любовниками. Затем роман раскрывается их отцом и происходит изгнание любовников из инцестного Рая. В пору зрелости Ван предается попеременно разгульной жизни и психиатрии, пока наконец к пятидесяти годам не заполучает обратно Аду, тут и начинается их счастливая совместная жизнь до глубокой старости, когда девяностолетняя Ада помогает Вану писать мемуары — книгу, которую мы и читаем. Несмотря на свою выдуманную географию и генеалогию, Демония не вовсе не существует; в этом выверте с временем и пространством, в этой смеси России с Америкой, прошлого с настоящим, действительности с искусством она явно предстает неким умозрительным аналогом собственной жизненной истории Набокова. Более того, охватывает мир его детства, в силу чего «Ада» становится некой беллетризированной версией автобиографической книги Набокова «Память, говори». Как и в «Аде», в этой автобиографии Набокова присутствует пронырливая такса, молодой человек, умеющий ходить на руках, гербарий на чердаке и девочка, изучающая естествознание. Реальный мир разрушил эти образы и то, что за ними стояло, — счастливую пору детства и жизненный уклад русской аристократии XIX века; Демония воссоздает все это в стилизованной и нерушимой форме искусства. Так, Выра, прелестное сельское поместье из набоковской автобиографии «Память, говори», становится Ардисом, который впервые возникает «на небольшом, как в старых романах, пригорке», располагаясь «фасадом к маловыразительному лугу, на котором красовалась корова». Очевидно, Набокова извечно восхищает феномен повторяемости и отражения, так как на Демонии, которая сама отражение, подобие становится основным мотивом в структуре романа. Заглавная пара, Ван и Ада, в дальнейшем отражается в длинной череде фон Винов и ван Винов, в именах Ванда, Ваня, Адула и Адора. «…Если некий закон логики, — пишет Ван, — и установит число совпадений в определенной области, они перестанут быть совпадениями и вместо этого образуют живой организм новой истины». При запредельном максимализме здесь истинным становится лишь ход умственного восприятия. Набоков заявил, что в его книге нет двойников; в самом деле, Ван именем соответствует слову «one» в «менее двугубном» русском выговоре своей матери. Очевидно, что сам автор стоит в конце длинной вереницы анаграмм и удвоений: Ван Вин — В.В. — Владимир Владимирович; Вин — Вэ. эН. Но в другом, смежном смысле — удвоения и отражения, в том числе и пара Ван-Ада, метафоричны и отражают связь между воспринимающим и воспринимаемым, между разумом и действительностью. Демония представляет собой космос значимости человеческого опыта; разгадав весь хитроумный ее смысл, это обилие близняшек и подобий, которые все сводятся к единственной, знаковой цифре «один», наш ум постигает и суть мироздания, ощущая себя в самой сердцевине этой сути. Это — субъективно-идеалистическое и монистическое представление о мире, в котором утверждается абсолютная необходимость собственного существования и исключается частичная или относительная. Как и стилизация образа и действия, подобное навязывание неоднократно повторяемого замысла является попыткой спасти жизненный опыт от времени и случайности, наделив его безупречностью рукотворного творения, чтобы превратить затем в нечто незыблемое, самодостаточное и совершенно искусственное, подобно золотой птице Йейтса. Главной метафорой равнозначности разума и действительности является в романе инцест. Воссоединяясь со своей сестрой, как бы своим близнецом, Ван обретает идеальное фокусирование разумного и плотского в своем двойнике-отражении. Рубец между субъектом и объектом затягивается, утраченное время обнаруживается, Рай обретается вновь. Подобный мир создан для человеческого наслаждения, как утверждают сами собой таинственные прелести удвоения и соответствия. Рассуждая по поводу такой сложной и изысканной книги, как «Ада», испытываешь соблазн подменить само произведение представлением о нем. По правде говоря, сама книга значительно менее интересна и привлекательна, чем брезжущая в основе ее идея. Местами ее просто невозможно читать, там глаз прокатывается по страницам стеклянным шариком, не вбирая ничего в себя не потому, что они трудны, а потому что все эти трудности кажутся пустыми и ненужными. Эта проза невыносимо вычурна, развитие сюжета стопорится и прерывается трехъязычными каламбурами, взятым в скобки переводом французских и русских фраз, пометками в адрес читателя или машинистки, а также комментариями редактора или же самой Ады, стиль которой еще более напыщен, чем у Вана. Аллитерации и игра словами, всегда придававшие прозе Набокова особый искристый блеск, в своем изобилии доходят здесь до horror vacui[230], присущей стилю «модерн». И если тема «Ады» грандиозна, то сюжет романа легковесен; по сути, тут не хватает событий для разворота — здесь лишь страсть Вана и Ады, остающаяся неизменной с начала и до конца. Большинство эпизодов, разрабатывающих этот мотив, скажем, взаимоотношения Вана с прочими Адиными любовниками, выглядят чистой пародией. В них не видно ни единой попытки обращения к достоверности, они не отражают психологическую эволюцию и не встречают ни малейшего эмоционального отклика. Сам по себе язык в некотором смысле составляет предмет этой книги. «Слава Логу!» — восклицают герои, или: «Господи Ложе!», как будто logos («слово») и есть Бог. Но в целом трюки с языком, каламбуры и игра слов не блещут талантом. Перенос людей и стран с земли на Демонию кажется особенно плоским и нелепым: Ла-Манш становится Каналом, де Голль — лордом Голем, Рузвельт — Шляпвельтом, а Фрейд — доктором Фройдом из Зиньи-Мондьё-Мондьё или доктором Зиг Хайлером. Главный итог этих аллюзийных дебрей, каламбуров и того подобного — воспрепятствовать любой попытке читателя проникнуть в суть. Герои и события столько раз облекаются в хрупкий панцирь самопародии, что под конец уже не вызывают ни интереса, ни участия. Пожалуй, самым забавным пороком «Ады» является ее эстетизм. Несмотря на упорное выставление жизненного опыта в эстетических формах, роман так и не получает независимого существования, присущего произведению искусства; Демония так и остается привязанной к некой Терре, полной злобных раздоров и споров. В центре романа неприкрытая вседозволенность автора, скопище пунктиков и предрассудков весьма знакомого нам В.Н. Тут и привычные хулы в адрес бездарных переводчиков, а Уоллес Фаули даже назван по имени, вульгарно-упрощенческие обличения Фрейда и, конечно же, излюбленная проповедь В.Н. насчет того, что искусство ничего проповедовать не должно. Подобные же взгляды мы находим и в других книгах Набокова, однако там они не так неприкрыто выражены, воплощены в более яркую художественную форму; в разреженной атмосфере «Ады» авторские стежки оказываются более заметными. Как видим, критические и аналитические порывы здесь маловпечатляющи. В отношении идей Набоков мало что предлагает кроме нарочитой эксцентричности и непоколебимого чванства в духе того высокомерного круга, о котором пишет. Разумеется, в «Аде» есть превосходные эпизоды, моменты необыкновенные, чарующе-прекрасные. По большей части они связаны с образом Ады, с очарованием, веющим от «ее бледной, желанной и недоступной кожи, от ее волос, ее ног, от ее угловатости, от исходившего от нее газелевого аромата свежей травы…». «Даже обнаженные ее руки и ноги были настолько неподвластны загару, что взгляд, ласкающий эти голени и плечи, мог проследить каждый косо направленный нежный темный волосок, девичий шелковый покров». Вон оно, знакомое, нежное анатомирование чуть опушенных нимфеточных плечей; в ближайшем рассмотрении, словно натуралист, автор увлеченно разглядывает под микроскопом подробности строения крохотных прелестных существ. Набоков обладает даром создания именно мелкомасштабных, не широкоформатных эффектов. Лучшие из его произведений, куда входят «Пнин», «Лолита» и «Память, говори», содержат в себе относительно мало от пряток-анаграмм и суетливого педантства, что составляет центральную часть его более поздних и, как видим, более претенциозных произведений, таких, как «Бледный огонь» и «Ада». В этих книгах, бесспорно, не хватает мощи, они всецело пронизаны видениями в стиле Пруста и Джойса; они фактически и композиционно кажутся рыхлыми и довольно-таки мелкими. Цементирующей силой в этих книгах в основном становится чувственность — субстанция изысканным образом воспринимаемых чувственных моментов, лучезарных мигов поэтического восприятия, приправленного щегольским остроумием; их эмоциональное ядро — ностальгическое чувство, острое ощущение утраты прошлого. Такое же чувственное ядро наличествует и в «Аде», но оно затеряно в глубинах гротескного «строя», в значительной мере остающегося искусственным. Эта книга подобна раковине, причудливо завернутой, с выпуклостями, покрытой всевозможными случайными вкраплениями. Самое в ней поразительное — это фантастическое несоответствие между твердой внешней оболочкой и крохотным живым существом, в ней обитающим. Elisabeth Dalton. Ada, or Nada // Partisan Review. 1970. Vol. 37 № 1. P. 155–158 (перевод Оксаны Кириченко). ПРОСВЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ TRANSPARENT THINGS
Предпоследний роман В. Набокова писался с большими перерывами на протяжении трех лет. Начат он был в октябре 1969 г., а завершен 1 апреля 1972 г. В процессе его создания писателя то и дело отвлекали другие дела: перевод на английский романа «Подвиг», поездка в Америку на премьеру мюзикла Джея Лернера «Лолита, любовь моя» (который с треском провалился, оставив у Набокова неприятный осадок), работа над вторым изданием комментированного перевода «Евгения Онегина» и проч. В ноябре 1972 г. в Нью-Йорке вышло первое издание романа; несколько месяцев спустя, по заведенному порядку, увидело свет его английское издание (London: Weidenfeld&Nicolson, 1973). Как и все «послелолитные» книги Набокова, «Просвечивающие предметы» широко обсуждались в англоязычной прессе; хотя, если уж быть честным, сенсацией они явно не сделались, да и обсуждались уже без прежнего пыла, как «Ада» или «Бледный огонь». «Критические отзывы колеблются между безнадежным обожанием и бессильной ненавистью», — разочарованно отметил в своем дневнике Набоков после знакомства с первыми критическими ласточками, появившимися в американской прессе. Впрочем, многие «ласточки» скорее походили на кровожадных ястребов, способных если не растерзать, то уж, во всяком случае, изрядно потрепать свою жертву. Почин в этом кровожадном деле принадлежал рецензенту из газеты «Вашингтон пост»: «Шестнадцатый роман Владимира Набокова — это небольшая по объему, холодная, замысловатая и удивительно непривлекательная книга. Хотя и в прошлом Набоков порой грешил раздражающими, призванными потешить его самого литературными эффектами и с чрезмерной сентиментальностью воспевал дореволюционную жизнь в России, он почти всегда был захватывающе интересным — дразнящим, капризным, но по-настоящему великолепным, — явным лидером среди претендентов на трон величайшего мастера современной английской прозы. <…> Только Набоков мог написать такой роман — компактный, но без излишней густоты, украшенный стилистическими кружевами и перекликающимися деталями, усеянный скрытыми аллюзиями и шутками, написанный как бы от лица всевластного повествователя. И все-таки ему не хватает je ne sais quoi[231] — лучших образцов сладостно-горькой jeux d'esprit[232] Набокова. Этот роман какой-то вымученный, вязкий, слишком плотно упакованный, немощный; запутанный и в то же время увечный. В нем нет прежнего наслаждения от слов, радующего глаз света, искрометного остроумия и яркого интеллекта (пусть порой и отдававшего нарциссизмом). В своих лучших вещах Набоков всегда был мрачным, едва ли не озлобленным писателем, но его новый роман о смерти, памяти и утратах получился каким-то банальным и вялым. Действие слишком часто тормозится благодаря своевольным авторским отступлениям и еще более властному, чем прежде, тону набоковского всеведения. Персонажи, среди которых нет ни одного приятного, забавного или хоть чем-либо замечательного, на удивление скучны; свойственная же Набокову снисходительность по отношению к персонажам (один из его старых трюков) вместо того, чтобы вызывать к ним сочувствие, делает их плоскими и серыми, словно они из картона. Из-за всех этих ингредиентов набоковская тема потерянной любви и ускользающего времени лишается привычного обаяния и силы воздействия» (Locke R. // Washington Post. 1972. November 12. P. 3). Столь же недвусмысленно высказался о «Просвечивающих предметах» и Питер С. Прескотт (сын того самого Оливера Прескотта, некогда разругавшего в пух и прах «Лолиту»): «В новом романе Набокова, вышедшем три года спустя после предыдущего, в одну упряжку впрягаются темы его ранних и стиль его поздних сочинений — с одинаково плачевными результатами. Набоков всегда был рефлектирующим, задиристым маньеристом, склонным к эллипсисам и постоянным отступлениям, но в его ранних, по-русски написанных вещах увлекательно излагались эфемерно-романтические истории. Его поздние произведения становились все длиннее, все труднодоступнее (так что даже наиболее явные сторонники Набокова, Эдмунд Уилсон и Мэри Маккарти, потерпели сокрушительное поражение, пытаясь одолеть онанистические каскады „Ады“) До сих пор все это заслуживало внимания: трудные книги Набокова оказывались лучше своих предшественников; по мере их усложнения фантазия Набокова становилась более богатой. От „Лолиты“ к „Бледному огню“ и „Аде“ шло внушающее благоговейный страх развитие, настоящее крещендо гармонично сочетающихся символов и метафор (хотя уже в „Аде“ обозначились признаки авторской вседозволенности — вполне возможно, что и ненамеренной, изначально не входившей в художественный замысел). В „Просвечивающих предметах“, где эфемерный сюжет раннего Набокова подвергся облучению его „позднего“ стиля, еще больше расширилась сфера распространения неудачных острот и бесцельно кружащих аллюзий» (P[rescott] P.S. The Person's Tale // Newsweek. 1972. Vol. 80. November 20. P. 62). Высказав мнение, что «Просвечивающие предметы» — «это, прежде всего, худосочный сюжет, отягощенный неимоверным количеством тайных намеков и убогих шуток (эффект точно такой же, как если бы Набоков спас от большевиков двухдолларовую рождественскую елку, увешанную барочными украшениями)», Прескотт пришел к безрадостному выводу: «В „Аде“, поистине всепоглощающей книге, подобный маньеризм еще можно было терпеть, но пустяки, вроде „Просвечивающих предметов“, разваливаются под его тяжестью» (Ibid.). Подобные отзывы, разумеется, не могли радовать стареющего мэтра, несмотря на броские декларации о том, что его «никогда не волновала глупость или желчность критиков», всегда довольно болезненно реагировавшего на критические уколы. Правда, гораздо неприятнее было то, что у подавляющего большинства американских рецензентов «Просвечивающие предметы» вызвали не отторжение даже, а болезненное недоумение и растерянность. Если Джон Апдайк <см.> честно признался в своем непонимании набоковского замысла, то другие рецензенты (из числа тех, кто испытывал перед Набоковым благоговейный ужас и не мог осмелиться на какую-нибудь серьезную критику в его адрес) с большей или меньшей ловкостью маскировали свое непонимание пересказом зачаточной фабулы, поверхностными наблюдениями (в частности, о том, что появляющийся где-то в середине романа писатель R. — пародийный двойник самого Набокова) да констатацией того, что в этом романе писатель интересуется чем угодно — смертью, потусторонностью, вопросами литературной техники, — но только не реальной действительностью и живыми людьми. В качестве десерта предлагались экстравагантные интерпретации наугад выбранных тем и образов романа. Приз за самую оригинальную интерпретацию (если таковой был бы учрежден автором) наверняка получил бы рецензент газеты «Нью-Йорк таймс», настаивавший на том, что в «Просвечивающих предметах» чувствуется «почти всепоглощающая озабоченность Набокова фрейдистскими темами — в частности, Эдиповым комплексом» (Lehman-Haupt С. Ignoring Nabokov's Directions // New York Times. 1972. November 13. P. m-13). Другие рецензенты — из числа рьяных приверженцев Набокова, бесповоротно зачарованных блеском его писательского дарования и поэтому далеких даже от мысли о каких-либо критических замечаниях, — отличились на поприще интертекстуального опыления набоковского текста, то есть «вчитывания» туда весьма произвольных и необязательных литературных ассоциаций. Так, Роберт Олтер сопоставил «Просвечивающие предметы» с… «Ромео и Джульеттой» — на том основании, что в обоих произведениях имеется пара влюбленных друг в друга молодых людей, по вине героя и там и там погибает возлюбленная, что и самого героя обрекает на смерть (Alter R. Mirrors for Immortality // Saturday Review. 1972. Vol. 55. № 46 (November 11). P. 74). Майкл Вуд <см.>, хоть и заявил о том, что «Просвечивающие предметы» — «это первый роман Набокова, через плечо которого не заглядывает другой роман, написанный по-русски», тем не менее в конце своей рецензии дошел до сравнения «Просвечивающих предметов» с «Защитой Лужина». Саймон Карлинский <см.> куда более обоснованно указывал на тематическую и сюжетную связь «Просвечивающих предметов» с давним набоковским рассказом «Возвращение Чорба» (правда, и он не удержался от пагубного соблазна — а кто из Набоковедов не любит щегольнуть своей чудовищной эрудицией? — и безоглядно окунулся в оргию интертекстуальных сближений, объявив героев романа, Арманду и Хью Персона, «современным вариантом толстовских Элен и Пьера из „Войны и мира“», а самого Набокова — последователем Гофмана и Владимира Одоевского). Характерно, что в рецензиях американских «набоковианцев» азартное жонглирование аллюзиями и многомудрыми рассуждениями о «литературных влияниях» почти полностью вытеснило аксиологический аспект — либо потому, что подходить к творчеству «живого классика» с какими-нибудь оценочными критериями они считали неприличным, либо потому, что им все труднее и труднее становилось подбирать веские аргументы, которые подтверждали бы высокое эстетическое качество очередного набоковского «шедевра». Впрочем, какие бы объяснения мы ни предлагали, факт остается фактом: похвалы Набокову со стороны его американских поклонников на этот раз звучали как-то глухо и вымученно, а возгласы разочарования и пренебрежительный смех недоброжелателей — все громче и настойчивее. В английской прессе ситуация с критическим восприятием «Просвечивающих предметов» была не многим лучше. Рецензент из газеты «Обзервер» предположил, что «Просвечивающие предметы» представляет собой своеобразный римейк прежних набоковских произведений, и высказал мнение, что к концу романа Набокову, видимо, самому наскучило «вставать в позу, принаряжаться, якобы для выполнения трагического замысла, так же как и расплачиваться по старым литературным и психологическим счетам». Вывод критика был малоутешительным: «Он [Набоков] — очень хороший писатель. Но „Просвечивающие предметы“ явно не лучшая его работа; я ставлю ее гораздо ниже „Пнина“, „Лолиты“ и „Приглашения на казнь“» (Hope F. The Person in question // Observer. 1973 May 6. P. 37). Мартин Эмис воздержался от прямых оценок. Ограничившись общими наблюдениями относительно художественного метода «позднего» Набокова, он заметил, что его «истинное достоинство — не в развязной мультиязычной манере, отличающейся пристрастием к неологизмам и акростихам, а в случайно, вопреки этой манере существующих изящно-ироничных предложениях, благодаря которым авторские идеи получают возможность проявиться во всей своей полноте» (Amis M. Nabokov in Switzerland // Spectator. 1973. № 7559 (May 3). P. 591). На противоположных концах оценочного спектра оказались рецензии Джонатана Рабана <см.> и Дж. Готорна-Харди. Первый расценил «Просвечивающие предметы» как «наименее удачную и наиболее откровенную книгу Набокова»; второй же не скупился на комплименты, доказывая, что новый набоковский роман — «выдающееся, глубокое произведение искусства, на 93 процента выполненное так, как было задумано» (Gathorne-Hardy J. Poor Person // London Magazine. 1973. August / September. P. 155). Из всех критиков самым щедрым на похвалы автору «Просвечивающих предметов» оказался Марк Слоним, давний поклонник Набокова еще со времен расцвета литературы русского зарубежья. В романе (название которого он перевел как «Прозрачные предметы») Слоним нашел «все типичные черты и приемы Набокова, блестящего рассказчика, язвительного наблюдателя земной суеты, иронического знатока человеческих страстей и иллюзий, замечательного лингвиста, забавляющегося шутками, прибаутками и каламбурами на разных наречиях. Но все эти находки и удачи даны в сдержанной, сжатой манере. Придирчивые формалисты скажут, что роман написан как сценарий, но мне кажется, что именно чередование отдельных, как бы ударных сцен и создает его внутреннее движение и придает ему физически ощутимую сосредоточенность. <…> Автору не надо слишком верить, когда он предлагает зачастую мнимое обнажение своего художественного замысла и излюбленных сюжетных гамбитов и разговаривает с читателем, как будто вовлекая его в собственную игру и приоткрывая дверь в свой рабочий кабинет. Набоков любит наводить на неверные и даже ложные следы, и делает он это с присущим ему лукавством и издевкой над легковерными поклонниками. Очень соблазнительно сказать, что для Набокова материя — всегда история, конечно, не в происшествиях или каких-то диалектических законах, а в бывании, в смене всех проявлений бытия и их подчиненности потоку времени. Предметы прозрачны, и поэтому сквозь них мы представляем себе то, что связано с их прошедшим, и это относится и к природе, и к изделиям рук человеческих (или переработанной материи). Отсюда ясен вывод: поистине реально то, что мы воображаем. Я думаю, что это заключение напрашивается для раскрытия всей творческой сути Набокова. Недаром его размышления о прошлом, настоящем и будущем предшествуют тому, что можно, хотя и с оговоркой, назвать фабулой „Прозрачных предметов“. <…> Тридцать лет тому назад, называя Сирина самым блестящим и талантливым из всех эмигрантских писателей, сложившихся и выдвинувшихся за границей, я восхищался его властью над словом, его неистощимой речевой изысканностью, остроумием и изобретательностью. Его умение находить новые аллитерации, неожиданные обороты, передавать почти неуловимые оттенки мысли и эмоций, его игра метафорами и необычными сравнениями, его перенос в прозу приемов поэтической символики и слияние пародии и лирики составляют отличительные свойства его стиля <…>. Порою Набоков так ослепляет своим словесным фейерверком, что в глазах больно, а его недоброжелателям мастерство писателя напоминает ловкость циркового жонглера Но не надо забывать, что все особенности набоковской литературной манеры отлично служат для передачи его видения людей и жизни. Он вводит нас в напряженный, полуфантастический мир с его неизменной сумасшедшинкой, близкий к откровениям Гоголя и Андрея Белого: в нем смешаны грубые бытовые подробности и чудовищные сны. Пошлая мелочность повседневности и творческая правда воображения, и все — высокое и низкое — пронизано силовым лучом вымысла. Сирин-Набоков охотно подчеркивает свой антиромантизм и вытекающее из него отрицание Достоевского и Стендаля. Но не следует чересчур серьезно принимать всякие его публичные заявления (по большей части в неудачных интервью, вина которых падает столько же на журналистов, сколько и на их жертву). Наклеивать на него всяческие этикетки <…> — нелепое и вредное занятие. Неужели и поднесь надо еще доказывать, что Набоков сам по себе, что он один из самых выдающихся и оригинальных писателей нашего времени, что он смотрит на так называемую „действительность“ с „другого бока“ и преображает ее согласно иным, необычным измерениям. Действие его романов и рассказов разыгрывается на сооруженных им подмостках, в его сюрреалистических декорациях (Америка „Лолиты“, Швейцария „Прозрачных предметов“), и во всем его творчестве преобладает элемент игры и театральности. Да и сам он исполняет роль знаменитого автора — и в своих писаниях, и в жизни — и щеголяет своей силой, даже кокетничает ею с некоторым снобизмом. Впрочем, его поза часто бывает удобной маской, скрывающей его вглубь запрятанную чувствительность, мечту о детстве, обиду за изгнание и любовь-ненависть к родине» (Слоним М. Последняя книга Набокова // Русская мысль. 1973. 8 марта. С. 8). Наименее удачными в набоковском произведении рецензенту показались «эротические сцены: от их умственной сухости веет холодом. И они не составляют органического целого с самой плотью этого иронического и печального романа» (Там же). Как бы там ни было, Набокова настолько не удовлетворил уровень большинства критических отзывов, что он (в который раз!) решил сам растолковать читателям «простую и изящную суть» своего романа. Объяснение с читателями Набоков стилизовал под интервью, которое вошло в его следующую книгу — сборник «нонфикшн» «Strong Opinions» («Твердые суждения»). Майкл Вуд{194} Милые сердцу штаны «Просвечивающие предметы» — шестнадцатый роман Набокова и седьмой, написанный по-английски. В каком-то странном смысле он начинает новый этап в его жизни, поскольку все английские романы Набокова, по крайней мере начиная с «Лолиты», все выходили как бы на пересечении или контрапункте с английскими вариантами его более ранних русских романов: «Приглашение на казнь» вышло между романами «Пнин» (1957) и «Бледный огонь» (1962); остальные пять русских романов («Дар», «Защита Лужина», «Соглядатай», «Отчаяние», «Король, дама, валет») находятся между «Бледным огнем» и «Адой» (1969); позже еще два романа («Машенька», «Подвиг») завершил и его серию из девяти русских романов — «Смех во тьме» был переведен в 1938-м. Он написал еще два романа по-английски — это «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941) и «Под знаком незаконнорожденных» (1947). Таким образом, «Просвечивающие предметы» — это первый роман Набокова, через плечо которого не заглядывает другой роман, написанный по-русски и ожидающий шанса прорваться к читателю, и это серьезно изменило стиль письма. Роман написан кратким, изысканно точным, скользящим, обобщенным, почти раскаивающимся, почти неуклюжим языком, как будто автор должен искупить этим блеск своих более ранних работ, как будто полное воссоздание его русских романов на английском языке завершило некий жизненный цикл, и теперь ему нужно начинать все сначала, ощупью находя новый стиль. Голос, звучащий со страниц, уже не прежний изящный, бодренький, эстетствующий или аристократический голос Вана Вина, Гумберта Гумберта, профессора Боткина или русского Набокова, да и, вообще-то говоря, это даже не голос, а скорее набор стремительно сменяющих друг друга тонов, подражаний интонациям различных общепринятых мест и потенциальных рассказов: телевизионного ток-шоу, благодарственного письма, мутной научной статьи по обширной медицинской тематике, беседы с тюремным психиатром. «Мы скоро будем с вами», — говорится в конце одной главы. «А теперь позвольте проиллюстрировать наши трудности», — говорится в другой. Одна из глав начинается так: «А теперь мы рассмотрим любовь», — а кончается следующим образом: «На этом мы закончим рассмотрение любви». Речь в романе то и дело приобретает воздушно-бодренький тон, каким обычно у Набокова говорят убийственные идиоты, вроде мсье Пьера из «Приглашения на казнь». «Это может быть забавным»[233], — иронично заявляет книга, а кончается она так: «Легче, сынок, легче — сама, знаешь, пойдет!» Оправдание для повествования подобного рода найти не трудно, хотя, по-моему, искать его не имеет особого смысла. В «Просвечивающих предметах» есть довольно известный романист, который сам говорит именно так, и при желании мы могли бы увидеть в нем незримого автора книги, представляющей собой рассказ об уродливой жизни и преображающей смерти человека по имени Хью Персон, который работает на издателя этого романиста. Романист писал о Персоне, возможно, даже выдумал его, а затем сам исчез в собственном тексте, откуда мы узнаем, что он немец, но пишет по-английски, и на бумаге «его английский приобретал форму, богатство и ту иллюзию выразительности, благодаря которым менее требовательные критики удочеренной им страны называли его выдающимся стилистом». С другой стороны, разговорные выражения его собственной речи часто исковерканы. «Покороче говоря», — говорит он в одном месте, а в другом заявляет: «Моя печень что-то против меня заимела». Еще в одном месте он болтливо прощается: «Пока, до скоро увидимся». «Просвечивающие предметы» — это смесь разнообразных приемов мастера стиля письменной и устной речи, которые иногда красноречивы, иногда абсурдны и всегда уклончивы. В результате, независимо от того, приписываем ли мы книгу выдуманному автору или нет, мы вызываем к жизни сознание Набокова без языка Набокова, или по меньшей мере язык здесь участвует лишь спорадически, а это, как подтвердит любой критик, по сути, уничтожает Набокова полностью. Правда, подпись Набокова, его отпечаток в этой книге состоит не только в превращении Швейцарии в некую личную страну Набокова: Трю, Витт, Версекс, Чур, напоминают игру слов. Мастер стиля отмечает, как отметил бы Гумберт Гумберт, что «много миль разделяют презерватив в Гаскони и пипку в Савойе». В Нью-Йорке «Просвечивающих предметов» идет пьеса «Шлепки и плюхи», а корректора беспокоит порядок слов во фразе «Царствование Кнута». Игривый, слегка скабрезный, вдохновленный нимфами ум, характерный для «Лолиты», в полной мере присутствует и в этом романе.<…> Здесь есть рассуждения о том, что серьезное занятие хирургией может снять влечение к разрушению: «Один уважаемый, но не всегда удачливый хирург признался как-то в частной беседе, что с большим трудом подавлял в себе желание резать все, что попадается под руку во время операции». А исследование сна, сновидений и связанных с ними привычек, которое проводится одной-единственной женщиной по имени Кларисса Дарк на двухстах заключенных, — Набоков говорит об этом без тени улыбки, — открывает, что «у ста семидесяти восьми из этих заключенных наблюдалась сильная эрекция во время фазы сна, называемой ГАРЕМ[234], характеризуемой сновидениями, вызывающими страстное офтальмическое выпучивание, нечто вроде внутреннего пяления глаз». Интересно, кто еще, кроме Набокова, мог выдумать такую фразу, так точно и комично использовать красивое, но неподходящее слово. В «Просвечивающих предметах» мы встречаем женщину-романиста, которая живет в доме, «украшенном исключительно работами по маслу ее покойного мужа», — и далее следует отрывок, совершенный по постепенно нарастающему и обрывающемуся ритму: «Ранняя весна в гостиной, разгар лета в столовой, все красоты Новой Англии в библиотеке и зима — в спальне». И все же перед нами новый, застенчивый Набоков, который в гораздо большей степени, чем прежде, прячется за заимствованный язык. Персонажи его предыдущих работ терялись среди предметов, они, по сути дела, были невидимы в мире блистательно воссозданных предметов, прекрасно запечатлевающихся в памяти. В его романах для человечности персонажей не остается места, и «Просвечивающие предметы», похоже, признают это. Здесь мы видим поиск центрального героя, персонажа (Хью Персона): это сомнительное, полное неопределенности занятие. Отец Хью умирает, примеривая пару брюк, и вот как мы узнаем о его смерти: «Разброд и разобщение предметов в пространстве всегда комичны, и мало что может быть смешнее, чем три пары штанов, перепутавшихся на полу в застывшем танце, — коричневые шаровары, джинсы и старые фланелевые брюки. В тот миг, когда неуклюжий старый Персон сражался с зигзагом узкой брючины, пытаясь просунуть в нее ногу в ботинке, голова его наполнилась красным ревом. Умер он еще прежде, чем коснулся пола, словно падал с большой высоты, и теперь лежал на спине, вытянув одну руку, но так и не достав зонтика и шляпы, отразившихся в высоком зеркале». Лекторский тон в начале отрывка и вид через зеркало в конце стремятся вытолкнуть событие в иное измерение, туда, где чувства глупы или попросту недоступны. Замечание по поводу «комичной стороны» подобных вещей и концентрация внимания на видимом, начиная с перепутавшихся брючин и кончая зонтиком и шляпой, словно высмеивают прежнюю склонность Набокова к именно таким деталям и построениям, а резкий бросок внутрь сознания старика («голова его наполнилась красным ревом») разрушает все перспективы, ни раскрывая их, ни уравновешивая. Этот сильный и волнующий пассаж содержит, на мой взгляд, почти клиническое описание того, что значит быть отрезанным от чувств, однако он, помимо подобного состояния, выражает нечто похожее на раскаяние, пародию, которая признает, что видение мира, так долго культивируемое Набоковым, бесчеловечно. Однако, даже признавая это, Набоков словно пожимает плечами и отворачивается, будто хочет сказать, что ничего не может изменить, и этот жест, это беспомощное признание ограниченности своих возможностей характерно для всей книги. Набоков с великой нежностью относится к позабытым предметам, как несколько раньше отметил на страницах этого издания Денис Донахью{195}, но нежность эта распространяется только на брошенные, позабытые вещи, а это очень узкая сфера применения для человеческой гуманности. Что бы ни чувствовал сам Набоков по поводу смерти старика или отношения людей к предметам вообще, его проза явно отдает предпочтение предметам, она показывает людей крупным планом только тогда, когда они сами ставят себя в смешное положение, изолируют себя от внешнего мира, когда они могут вызвать только чистую жалость, когда они ничего не требуют, не просят сложного человеческого участия. Даже в отрывке, который я процитировал выше и который весь посвящен подобной разъединенности, зонтик, шляпа, брюки одушевлены, они скорбят, они странно трогательны, в отличие от самого старика или его сына. Это вряд ли можно отнести к недостаткам работ Набокова, скорее это предел, за который не распространяется область его компетенции. Здесь, разумеется, есть большая доля истины. Бесчеловечность набоковского видения составляет значительную часть его верности миру без человека, где людей очень трудно обнаружить или испытать по отношению к ним, находящимся среди других предметов, какие-то чувства. В романе Томаса Пинчона «V» есть один момент, который помогает понять это. Там главный герой видит исковерканные, сваленные в груду корпуса разбитых машин недалеко от Элмиры, в штате Нью-Йорк, и вспоминает об Освенциме, и сочувствие его странным образом распространяется именно на эти машины. Однако решение Набокова, несмотря ни на что, не возвращает нас к гуманности, а предлагает полет в ином направлении. Он находит героя не в его плоти и крови, а в его судьбе, в том построении, которое завершается его жизнью после смерти. В романе «Приглашение на казнь» героя по имени Цинциннат сажают в тюрьму за непрозрачность (тогда, когда все люди прозрачны), за прямое, упрямое сопротивление нудной обыденности, нереальности того, что люди называют миром, или того, что в «Просвечивающих предметах» не очень счастливые люди называют жизнью. В новом романе прозрачности или открытости сопротивляться нельзя, ее можно только развивать и эксплуатировать. Предметы прозрачны, потому что в нашем сознании они постоянно замещаются рассказами о самих себе. Притяжение прошлого вызывает вспышки воспоминаний, нас бросает в сны наяву собственной рассеянностью или скукой, навеянной человеком или предметом. Настоящее хрупко, на него совершают набеги, его преследуют призраки: девушка в отеле ставит сумочку на столик, а сквозь нее просвечивает рукопись романа, над которым некий русский писатель работал в этой комнате «девяносто один, девяносто два, почти девяносто три года назад». Другое, более игривое место представляет нашему вниманию описание облика Хью Персона, где вдруг появляется вид его кишечного тракта, просвечивающего сквозь прозрачную кожу в виде «пейзажа из пещер и излучин». Читателю также предлагается посмотреть сквозь голову Хью на вмятину в подушке. Мы не можем оставаться на поверхности, тонкий лед нашего восприятия постоянно обрушивается под напором вечно трудящихся над украшением мира мозгов, и, подражая этому процессу, повествование «Просвечивающих предметов» заполнено информацией, которая нам не нужна или которой мы бы предпочли не знать, она переполнена словоохотливым перечислением дополнительных деталей. Главная улица швейцарского городка кишит просвечивающими людьми и процессами, в которые, как там говорится, «можно погрузиться с наслаждением автора или ангела, и тогда наверняка совершенно лишняя, эфемерная дамочка за столиком в кафе окажется милым существом, хозяйкой пяти кошек, живущим в игрушечном домике в конце березовой аллеи в самой тихой части…». В этот самый момент болтовня автора прерывается грохотом падающего из рук официантки подноса, но и у нее, бедняжки, тоже есть свои права, и постоянное ощущение соблазна улететь куда-нибудь от описываемых событий сохраняется. В конце романа главный герой умирает во время пожара, после того как он за восемь лет до этого удушил, несчастный, свою жену во сне и отсидел срок за непреднамеренное убийство, вернулся снова туда, где ухаживал за своей будущей женой, и отправился в погоню за призраком, пытаясь вызвать в своем сознании дух суховатой, пустой, очень любимой жены. Умирая, Хью Персон слышит крики, и автор сообщает нам: «Одним из его последних ложных умозаключений была мысль, что это крики людей, спешивших к нему на помощь, а не стоны товарищей по несчастью». В этих словах содержится ключ ко всему роману. Это не просто жестокая ирония, не просто заговор автора и читателя против ничего не подозревающего героя. Ложное умозаключение Хью Персона оказалось одним из последних потому, что скоро, по ту сторону смерти, у Хью будут только правильные умозаключения, а из построения книги следует, что персонаж разделит с автором его видение и увидит рисунок и конструкцию того, что он раньше воспринимал в виде линейного события. Когда Хью посещает дом матери своей будущей жены, через забор на дорожку вылетает волан для бадминтона. Хью шагает дальше, не обращая на него внимания. Восемь лет спустя, когда он возвращается к тому же дому, маленькая девочка с бадминтонной ракеткой присаживается на корточки и подбирает с дорожки волан. Так прозрачность времени может победить прозрачность вещей, складывая из них вневременной смысл. В самом начале книги Хью описан как человек, которого «преследуют символические совпадения», и роман изобилует неполными соответствиями ситуаций и вещей, примерами «глухих потрясений от неполных совпадений» (отец Хью спрашивает в отеле почту для себя, а ему предлагают письмо на имя миссис Парсон, на улице, в день смерти отца, Хью встречает девушку в трауре), так же как и случаями, где совпадения, в общем-то, несущественны (человек в отеле читает журнал, оставленный Хью восемь лет назад, мать Хью и бабушка его жены были дочерьми ветеринаров), хотя они и обещают упорядоченность, намекают на структуру более высокого уровня, которая уже не будет тривиальной, которая искупит беспорядочную, бессмысленную жизнь человека. Многочисленные схематические предзнаменования преступления Хью и его смерти: намеки на пожар, резкие движения больших рук душителя, описание его лунатических прогулок в детстве, множество связей между жизнью Хью и жизнями персонажей, созданных мастером стиля, будто Хью и сам персонаж романа, его собственная вовлеченность в работу издателя, заставляющая подгонять свою жизнь под ту корректуру, которую ему приходится читать, — все это литературные приемы и метафоры, литературные приемы, используемые как метафоры. Здесь, как и в «Бледном огне», жизнь рассматривается как текст, как спутанное сообщение, а жизнь после смерти, в таком образном построении, становится возведением в ранг автора текста, последним откровением, переводом: «Это, наверное, оно и есть: не грубая боль физической смерти, но иная, несравнимо горшая мука, — таинственный ход, необходимый, чтобы душа из одного состояния бытия перешла в другое». «Просвечивающие предметы» во многом напоминают «Защиту Лужина» — то же настроение, та же тема, главный герой без имени, который обретает свое имя или оправдывает его только в смерти. Хью Персон становится человеком только тогда, когда его пожирает пламя; Лужин (по-английски его фамилия рифмуется со словом «иллюзия», особенно если его произнести со значением — так, по крайней мере, утверждал сам Набоков) теряет свое имя и остается с одной фамилией с самого начала романа, а его отчество мы слышим только после того, как он выбрасывается из окна верхнего этажа <…> Разница между ними в том, что «Просвечивающие предметы» явно указывают на какую-то надежду, на возможность какого-то разумного существования после смерти, даже если она длится какое-то мгновение, в то время как «Защита Лужина» предлагает читателю вечную губительную паранойю и больше ничего. Однако сходство между ними подсказывает, что следует искать в разряженном воздухе набоковских гор. Это не человеческие чувства или привязанности, или, по крайней мере, не совсем они, искать следует человеческое головокружение, необычайное восприятие того, как мы ощущаем себя на краю метафизической пропасти. Он рисует «силуэт человеческого страха», по его собственным словам. Я подозреваю, что он специально вставил в роман эту фразу для чересчур ретивых обозревателей, но мне все равно. Я клюнул на нее и не жалею об этом. Michael Wood. Tender Trousers // NYRB. 1972. November 16. P. 12–13 (перевод А. Патрикеева) Джон Апдайк Просвечивание Хью Персона Признание: я никогда не мог понять, как фокуснику в цирке удается распилить женщину пополам. Любой нахальный мальчишка в состоянии сбить меня с толку простейшим карточным фокусом из приложения к комиксам. Для автора загадочной прозы я идеальная жертва, готовая попасться на самую очевидную приманку. На уроках в школе я не мог распознать минимальную, но полезную разницу между выражениями «dt» и «Dt». И я не понимаю новый роман Владимира Набокова, его «Просвечивающие предметы». Это признание, а не жалоба, мир изобилует превосходными устройствами, которые недоступны моему пониманию, начиная с автомобильных двигателей и кончая пищеварительным трактом человека. Ну и пусть. Я благодарен. Я благодарен за то, что Набоков в таком возрасте, когда большинство писателей удовлетворяются перекладыванием с места на место прошлых наград и сбором гонораров от различных антологий, по-прежнему бодро, с веселым гиканьем скачет на своем любимом коньке и при этом крепко держится в седле. Его новая книга, как и любая другая его книга, служит напоминанием, что искусство — это праздник, как бы ни тяжело приходилось проливать пот у станков реальности. Его буйство чувств заразительно, как наверняка с первого взгляда поняли читатели этого утыканного гиперболами абзаца. Итак, за дело. Если критик попытается рассмотреть «Просвечивающие предметы» как нечто само по себе прозрачное, он увидит за окружающим его стеклом прижавшиеся рожицы нескольких стремлений. Одно из них — это стремление выжать все, что только возможно, из языка: здоровое стремление, даже веселое, и уж наверняка более возвышенное, чем просто грубая буффонада <…>. Язык романа бурлит и брызжет, кипучее изобилие точных образов бьет через край. <…> Главный герой «Просвечивающих предметов», Хью Персон, редактирует, помимо прочих авторов, некоего «R» (зеркальное отражение русского «Я»), который, хотя и выглядит более грузным и меньше любит свою жену, чем сам Набоков, тоже живет в Швейцарии, сочиняет «сюрреалистические романы поэтического свойства» и считает, что окружающий мир занят гротескной, неуклюжей осадой его художественной целостности. <…> Стиль Набокова, по сути, — стиль любовный: прелюдия в наряде кульминации. Он жаждет схватить его прозрачную точность своими волосатыми руками. Чтобы передать ночные страхи ребенка, он готов подбросить угрожающую метафору: «ночь — всегда чудище», — или нежными эвфоническими движениями украсить выражение лица женщины во время соития: «ни разу не обманутое ожидание того момента, когда гримаса ошеломленного восторга начнет постепенно придавать идиотическое выражение ее родным чертам». Такая страсть к вызыванию образов, к использованию всего спектра значений, скрытого в словаре, способна заново научить читать. А это наверняка достойное стремление, хотя и не всегда приятное. Менее достойным может показаться стремление убивать, проглядывающее в построении «Просвечивающих предметов». Поскольку книга представляет собой нечто вроде триллера, сюжет ее обязан сохранять часть своих тайн нераскрытыми, однако стоит ли прямо говорить, что практически ни один ее персонаж не доживает до конца книги. Героев душат, они умирают в огне, от закупорки сосудов, от рака, и это не единственные способы избавиться от них. Стоит только персонажу появиться на сцене, как нам тут же обязательно сообщают, что детектив, который расследовал супружескую неверность, умирает в настоящее время в душной больнице на Формозе, а временного любовника главной героини аккуратно расплющивает снежная лавина в горах Колорадо. Строгость автора, до которой даже кальвинистам далеко, загоняет ярких бабочек своих персонажей в бутылочку с хлороформом. Когда Мюриэл Спарк, а она тоже ловко орудует смертоносной судьбой, вызывает пожар в гостинице, обрушение здания или массовое убийство, за всем этим стоит неумолимая воля божья, и преступление не подчиняется воле писателя. У Набокова все иначе. Он и предполагает, и располагает. Построение должно быть завершено. Очень часто трогательно живые персонажи существуют в виде ярких цветных пятен, со всех сторон окруженных мерцающей пустотой; их смерть как бы стирает пятно с экрана, и только. И читателя постоянно ставят на место, уничтожая его одним только заявлением: все это выдумка, фу, и ничего нет! Такое объявление явно присутствует[235] в «Просвечивающих предметах», как и в «Приглашении на казнь», и «Под знаком незаконнорожденных», однако жест ухода, похожий на уход Просперо, жест окончания и отрицания завершает даже такую сравнительно простую прозу Набокова, как «Пнин» и «Смех во тьме». Здесь, в этой книге, где вовсю используется обращение к читателю и где центральной фигурой является Хью (профессиональный читатель), желание воплотить, чтобы уничтожить, распространяется даже на читателя. Вы (Хью), человек, и, кто бы вы ни были, вы никто, вы исчезаете, умираете. Третье стремление — это попытка сформулировать на высочайшем уровне разума и изящества некое высказывание о пространстве и времени, смерти, бытии. Умирая, R пишет своему издателю: «Я думал, что хранящиеся в их сознании сокровища воспоминаний превращаются в радужную дымку, но сейчас я ощущаю противоположное: самые мои обыденные чувства и подобные же чувства других людей приобрели для меня гигантские масштабы. Вся Солнечная система — лишь отражение в хрусталике моего (или Вашего) хронометра. <…> Абсолютное отрицание всех религий, когда-либо выдуманных человеком, и абсолютное спокойствие перед лицом абсолютной смерти! Если бы я мог объяснить этот тройственный абсолют в одной большой книге, она стала бы, без сомнения, новой Библией, а ее автор — создателем новой веры». А на последней странице Владимир Набоков пишет: «Это, наверное, оно и есть: не грубая боль физической смерти, но иная, несравнимо горшая мука, — таинственный ход, необходимый, чтобы душа из одного состояния бытия перешла в другое». Его слова помогут, по крайней мере, объяснить неизбежные откровения мастера о своем произведении. В момент крушения выдуманного мира одно состояние бытия переходит в другое. Должны ли мы считать это аналогией смерти? Если смерть полная, является ли она «состоянием бытия»? И, если приглядеться к последнему предложению в этой цитате, разве прилагательные вроде «несравненный», «таинственный» не будут прибежищем не поддающегося передаче мистицизма? Главное, то, ради чего был написан роман, остается непонятным. Вначале кажется, что «прозрачность» предметов относится к их положению на временной оси: обычный карандаш, найденный в ящике стола, возвращается сначала в состояние длинного графитного стержня и щепки дерева в сердцевине соснового ствола. Затем кажется, что прозрачность относится к искусному переплетению кроватей, бюро, ковров в косых лучах света, воланов, собак и так далее во время нескольких возвращений Хью Персона в Швейцарию в возрасте от восьми до сорока лет, в деревню Трю. Но другие предметы тоже прозрачны — заглавие книги, например, сияет сквозь книгу, как водяной знак, или возлюбленная, чей образ, запечатленный на сетчатке его глаза, сиял на самых разных уровнях этого представления. Однако кульминация образа прозрачности («Сияние книги или шкатулки, которые стали совершенно прозрачными и пустыми»), хотя автор и пытается представить ее венцом своих страстных размышлений, появляется в виде ответа к загадке, которую никто не загадывал. Увы, единственное, что запоминается из «Просвечивающих предметов», — это приятные непрозрачные фразы: тесные ряды тщательно подобранных прилагательных, эротические особенности очаровательной, но по-человечески тяжелой жены Персона Арманды (она любит заниматься любовью полностью одетой, ни на секунду не прерывая светской беседы), изысканные ледяные сцены лыжного курорта: «…блеск горнолыжных трасс, синеву следов „елочкой“ на снегу, многоцветье фигурок, словно случайным мазком намеченных на слепящей белизне рукой фламандского мастера». Мы виновато закрываем книгу, с таким чувством, будто лизнули сладковатую оболочку, но саму пилюлю так и не проглотили. Если только жизнь в искусстве, столь разнообразно продуктивная, столь исполненная уверенности в себе, столь герметичная и удовлетворяющая живущего этой жизнью, может привести к провалу, тогда можно сказать, что попытка Набокова заставить читателя всерьез воспринимать свой труд провалилась. Его повествование оттеняет печальная нота скромности: «эта часть нашего просвечивания довольно скучна…»: «господин R, хотя и не был писателем первой руки…» Только некоторые из не слишком требовательных обозревателей удочеренной R страны называют его мастером стиля. Книга изобилует искаженными автопортретами. Извращенные сексуальные шарады главной героини, восторги которой порождаются контрастом между выдумкой и фактом, пародируют набоковское «оно» и ту боль, тот «таинственный ход», который требуется для перехода из одного состояния бытия в другое. Вот вам еще одна «боль» и «таинственный ход» матери Арманды, которая выуживает свое грузное тело из капкана садового кресла, поджидая тот единственный рывок, который обманет силу тяжести и чудесным чихом поднимет ее на ноги. Обманчивое легкомыслие Набокова отвергает торжественные похвалы. Он ставит своих восторженных приспешников и толкователей в смешное положение, когда те пытаются составить точные списки фраз, в которых он играет словами, и гоняются за бабочками его аллюзии, то обманывающая силу тяжести эстетика ставит перед нами прозу, которая намеренно недооценивает собственное гуманистическое содержание, которая открыто презирает психологию и социологию, чтобы те не могли протащить в его повествование силу тяжести. Джойс тоже любил играть словами, а Пруст был чудищем со страстями не хуже Гумберта Гумберта. Но эти писатели прежних времен все-таки подчиняли свои словесные игры и искалеченные жизни чему-то вроде исторической общности, сквозь них говорила Европа эпических сказаний и кафедральных соборов. Говорят, что работы Набокова, написанные по-русски, производят иное впечатление, не то, что его блистательные романы на английском. Там его в каком-то смысле можно сравнить с Достоевским или Толстым; на английском его работы ни в коей мере не похожи ни на Торо, ни на Твена. В своих романах, вышедших после «Лолиты», он кажется большим иллюзионистом, чем цирковой телепат. Хотя он и предлагает нам ощущения, которые ранее невозможно было вызвать словами, и выполняет трюки, уводящие нас в пространство, он скорее забавляет, чем убеждает. Виноваты в этом, может быть, мы сами: мы еще не готовы, мы слишком туги на ухо, глаза наши слишком медлительны, мы слишком любим упрямую немоту земли и не в состоянии прочесть смысл, скрывающийся за его волшебством. Он шепчет нам с небес, как театральная комета, из-под его маски нам намекают на пришествие «Новой библии». А самое главное, другого мы от него и не ожидаем. John Updike. The Translusing of Hugh Person // The New Yorker. 1972. November 18. P. 242–245 (перевод А. Патрикеева) Саймон Карлинский{196} Прозрачное по-русски В ноябре 1925 года «Руль», берлинская газета русских эмигрантов, опубликовала рассказ «Возвращение Чорба», написанный ее постоянным автором В. Сириным. «В. Сирин» — это, разумеется, псевдоним Владимира Набокова, а «Возвращение Чорба» стало первым рассказом, который ввел в литературу множество тем, языковых оборотов и структурных приемов, на сегодняшний день заслуженно пользующихся любовью почитателей набоковского творчества. Его автор и сам наверняка признавал важность этого рассказа для своего литературного становления, поскольку именно он дал заглавие сборнику прозы и поэзии, вышедшему в 1930 году. Сложная, многоуровневая структура «Возвращения Чорба» не поддается простому пересказу. Однако основой повествования там служит рассказ о чувствительном, бедном, молодом писателе-эмигранте, который, несмотря на возражения родственников невесты, женится на девушке из традиционной семьи среднего класса в маленьком немецком городке. В медовый месяц молодые отправляются в путешествие, и девушка по глупой случайности погибает, наступив на совершенно безвредный с виду электрический провод. Чтобы очиститься от горя и отчаяния и превратить свое короткое семейное счастье в нечто вроде экзистенционального произведения искусства, которое будет покоиться в его памяти во всем своем сияющем совершенстве, Чорб решает в обратном порядке повторить каждый шаг своего свадебного путешествия, превращая, таким образом, неотвратимо утерянное прошлое в сознательно, по собственному желанию построенное будущее. Это, в конце концов, приводит Чорба в родной городок его покойной жены, где он пытается известить родителей о смерти дочери, но не может сделать этого сразу, поскольку они в это время находятся в театре — смотрят вагнеровского «Парсифаля» (здесь, собственно, и начинается повествование рассказа). Чтобы поставить последнюю точку в своем акте очищения, Чорбу нужно провести ночь в том же номере отеля, где он оказался со своей женой после венчания. Он не в состоянии выдержать это испытание в одиночестве и нанимает уличную проститутку, которая должна обеспечить эффект женского присутствия. Они целомудренно спят в разных постелях, так же, как когда-то Чорб со своей невестой. Следующим утром Чорб просыпается с криком ужаса. Сначала ему кажется, что жена к нему вернулась, а потом он понимает, что эксперимент по помещению прошлого в колбу закончен и его план выполнен. Когда озадаченная проститутка выходит из номера, она сталкивается в дверях с возмущенными, ничего не понимающими родственниками жены. На этом рассказ заканчивается. Как уже говорилось выше, «Возвращение Чорба» содержит ряд тем и ситуаций, которые позже стали характерны для литературных работ Набокова; среди них можно назвать противостояние чувствительного художника и самодовольной, лишенной воображения буржуазии, стремление превратить свой сознательно избранный образ действий в нечто эквивалентное произведению искусства (таковы функция убийства в «Отчаянии» и план путешествия в «Пильграме»). Уникальность рассказа состоит, однако, в умелой комбинации двух временных срезов повествования разной длительности. История ухаживаний Чорба, женитьбы, утраты и возвращения рассказывается одновременно с передачей событий, происходящих в течение нескольких часов, которые разделяют поздний визит Чорба на квартиру родственников жены, когда те смотрят оперу в театре, и встречу с ними в гостинице утром следующего дня. Особенность временной структуры, некоторые элементы сюжета и даже один-два персонажа данного рассказа нашли новое воплощение в романе Набокова «Просвечивающие предметы». Не следует, однако, думать, что роман представляет собой расширенный перевод раннего рассказа или его переработку в произведение большего размера. Нет, роман и рассказ представляют собой два совершенно различных литературных произведения. Однако, так же, как в неопубликованном рассказе «Волшебник» содержалось семечко, из которого позже выросла «Лолита», как другой русский рассказ Набокова, «Истребление тиранов» (1938), десять лет спустя дал роман «Под знаком незаконнорожденных», так и «Возвращение Чорба» стало основой и отправной точкой для нового романа. «Возможно, если бы для каждого человека существовало определенное будущее, которое мозг, устроенный получше, был бы в состоянии различать, то и прошлое не было бы столь соблазнительно, зовы будущего умеряли бы его власть. Наши персонажи могли бы усесться на самую середину качельной доски и только мотать головой направо и налево. Вот была бы потеха»[236], — читаем мы на самой первой странице «Просвечивающих предметов», и эти слова могут служить главным итогом как романа, так и «Возвращения Чорба». Роман этот, написанный недавно, когда Набоков руководил переводом на английский язык двух своих ранних романов — «Машеньки» и «Короля, дамы, валета», представляет собой чрезвычайно изящный и крайне интересный мост, соединяющий зрелого мастера, который написал сложнейший «Бледный огонь» и лабиринтообразную «Аду», с утонченным начинающим литературным гением, жившим полвека назад. В отличие от русской эмигрантской среды ранних романов Набокова и тщательно описанной Америки «Лолиты», его новый роман переносит нас в страну, где последнее время жил сам автор, в Швейцарию. В то время как Швейцария описывается и трансформируется в художественный текст с обычной для Набокова точностью, декорации некоторых сцен современной американской жизни явно бьют мимо цели. Традиции издателей, которые Набоков описывает, и американские литературные группки (для которых Евтушенко — это своего рода сексуальный магнит, точно такой же, как Мик Джаггер в восприятии их менее образованных братьев и сестер) составляют тем не менее неотъемлемую часть нашей действительности. Однако эпизод, где премьеру авангардной пьесы срывают взрывы бомб ее же сторонников, напоминает, как долго Набоков не был за океаном, возможно, что он тоже начал видеть Америку сквозь ту же дымку «прекрасного далека», сквозь которую Гоголь видел свою Россию, когда писал вторую часть «Мертвых душ» в Риме. Как и остальные недавние романы Набокова, «Просвечивающие предметы» содержат необходимую часть фальшивых роскошных дверей, поставленных на видные места, и немногих тайных люков, тщательно скрытых, но куда-то ведущих. Выдуманному образу немецкого писателя R Набоков одолжил несколько собственных черт (живет в Швейцарии, пишет по-английски, печатается в Америке). Некоторые критики уже попались на этот крючок и поспешили отождествить R с автопортретом Набокова. Они так же попали в молоко, как и те, кто после выхода «Мы» поспешил отождествить Вана и Аду с Набоковым и его женой, хотя в других случаях эти обозреватели показали себя весьма вдумчивыми. Не только наиболее существенные черты R совершенно несвойственны Набокову, но даже то, что он постоянно коверкает разговорные выражения и поговорки, явно относит нас к аналогичным чертам противного отчима Зины Мерц из «Дара» — чтобы этого персонажа назвать автопортретом Набокова, нужно очень сильно напрячь воображение. Многоязыковая игра слов и литературные аллюзии присутствуют в «Просвечивающих предметах» как и обычно у Набокова, но в несколько смягченной форме, чем в его предыдущих произведениях. Здесь говорят по-русски французскими словами, а по-французски — русскими («а теперь заниматься любовью»[237]). Здесь катаются на лыжах на курортах с французскими названиями, которые явно говорят о падениях и гибели в снежных лавинах. Мать главной героини — русская (это либо теща Чорба, в чистом виде перенесенная из рассказа, либо она каким-то таинственным образом происходит от тещи Лужина и матери Зины Мерц), и это дает автору повод ввести в роман довольно хитроумные русские аллюзии, иначе как объяснить название «Вилла Настя», местожительство семьи Шамаров: по-английски оно звучит весьма экзотично, но для русского читателя это то же самое, что «Вилла Минни» или «Вилла Джонни», так что элегантностью тут и не пахнет. Сергей Рафалович{197}, неизвестный поэт-эмигрант, которого помнят только потому, что однажды молодой Набоков написал о нем критическую статью в 1927-м, выглядывает на нас из франко-русской игры слов по поводу сугробов. Арманда носит пижаму в стиле чудо-юдо — название это происходит из русского фольклора и является традиционным эпитетом и обращением к дружелюбному киту в «Коньке-Горбунке» Ершова. Русский романист XIX века внезапно материализуется в женевской гостинице, куда Хью Персон приводит уличную девку во время первой поездки в Швейцарию. Нам сообщают, что романист останавливался в той же комнате примерно девяносто три года назад, и добавляют разные интригующие подробности: по-немецки он говорил лучше, чем по-французски, он собирался ехать в Италию, должен был встретиться с художником Кандидатовым и начал писать роман с временным заглавием «Фауст в Москве». Проведем необходимые вычисления на основе возможно неверных дат поездок Хью Персона в Швейцарию, и мы получим примерно 1867 год. А кто тогда останавливался в Женеве? Федор Достоевский, ни много ни мало. Более того, он направлялся в Италию, он как раз начал работать над «Идиотом», который вначале назывался «Дон Кихот 19-го века». Но остальные сведения совершенно к нему не подходят. В Женеве Достоевского сопровождала жена, они только что пережили смерть маленькой дочери Сони, и в такой период жизни Достоевский вряд ли стал бы ходить по казино. Двумя годами позже по дороге в Италию в Женеве останавливался Тургенев. К тому времени он уже написал рассказ «Фауст», где события разворачиваются в России, в Женеве он должен был встретиться с другом, который направлялся в Италию для изучения условий жизни находившихся там русских художников. Но поездку в последний момент отменили, да и остальные факты расходятся. Голова идет кругом. Может, это Гоголь? Но его трудно назвать романистом, и в Италию он обычно ездил через Вену (хотя у него действительно была знаменательная поездка в Швейцарию, которую Набоков живо описывает в «Даре»). Владимир Одоевский? Можно ли «Фауст в Москве» натянуть на его «Русские ночи»? Может быть, навестив Шеллинга в Германии, он отправился в Швейцарию и оттуда в Италию? Продолжать бесполезно. Как и Кончеев в «Даре» был сплавом нескольких эмигрантских поэтов, так и этот русский романист объединил в себе черты нескольких писателей XIX века. А может, он настолько малоизвестен, что его фамилия никому и в голову не придет? Это известно только самому Набокову. В «Просвечивающих предметах» есть характерные черты, которые более существенным образом, чем игра слов или иные литературные забавы, объединяют роман Набокова с русской литературной традицией. Двое непохожих и не подходящих друг другу влюбленных — соблазнительная, мрачноватая, чувственная и не слишком добрая и умная Арманда, неуклюжий, в социальном смысле не приспособленный, но внутренне чуткий и отзывчивый Хью, — разве не представляют они собой современный вариант толстовских Елены и Пьера из «Войны и мира»? Лунатические прогулки, преступление, совершенное во сне, обилие пророческих снов и предзнаменований, ложное предчувствие катастрофы и оставленные без внимания истинные пророчества и, наконец, предопределенная судьбой красочная смерть в пламени пожара, объединенные в изящную языковую структуру, — разве не близки они тому течению в русской литературе, которое называют гофманианством? Обычно Набокова не причисляют к русским последователям Гофмана, среди которых великий магистр русской романтической прозы Владимир Одоевский (к чьим работам Набоков явно равнодушен) и выдающийся стилист XX века Алексей Ремизов (чьи работы Набоков знает и любит){198}. В «Просвечивающих предметах» многое напоминает темы и образы этих двух предшественников Набокова, поэтому роман стал для него поворотным. Однако по сути своей «Просвечивающие предметы» не обязаны своим совершенством никому, кроме самого Набокова. Ему снова удалось сконструировать из бесформенной, потенциально опасной действительности точное и ясное произведение литературного искусства, непрерывно демонстрируя на радость внимательному и не лишенному воображения читателю приемы, с помощью которых осуществляется преобразование реальности. В этом смысле все романы Набокова — «просвечивающие предметы», и их прозрачность, говоря словами Марины Цветаевой, есть для автора «полная победа над временем и силой тяжести». Вот почему, закрывая маленькую книжку, полную трагических и страшных событий, испытываешь прилив легкой радости. Simon Karlinsky. Russian Transparencies // Saturday Review of Arts. 1973. Vol. 1. № 1. P. 44–45 (перевод А. Патрикеева) <Аноним> Как создается литература «Просвечивающие предметы» — это рассказ о том, как вывернуло постаревшего колдуна, как заклинатель духов распродавал свои пожитки. Это первый роман Владимира Набокова после «Ады», вышедшей в 1969 году; в нем страстный энциклопедист, якобы скрывающийся за своим произведением, появляется снова, с удивительной ясностью обнажая голые доски литературного строения. А может, и не совсем так. Раньше воображаемый голос, звучащий за кадром повествования, казалось, говорил: «Посмотрите на мои богатства, на мои сюжеты, на мои уловки, на калейдоскоп моих историй, великолепную географию сказочной страны». Теперь в глазах автора горит новое торжество, он говорит: «Смотрите; как я беден, как плохи мои дела, как неуклюжи механизмы». Он и одет подходящим образом, он больше похож на водопроводчика, чем на разодетого сказочника: «В этот момент вошел R. Он уже три или четыре дня не брился, на нем был нелепый синий комбинезон, в котором, как он считал, удобно размещать различные орудия труда — карандаши, шариковые ручки, три пары очков, карточки, сшиватель, клейкую ленту и невидимый миру кинжал, который он после нескольких приветственных слов приставил к горлу Персона». Трюк с кинжалом как бы напоминает, что автор не отрекся от прежних вульгарных жестов, но в целом он похож на рабочего и хочет говорить честно и прямо. Прецеденты уже были: где-то на заднем плане витает другой усталый колдун — Просперо из «Бури» Шекспира, который сам разрушает свой волшебный мир <…> и складывает его в шкатулку. Вот и мы видим только краткие, дразнящие проблески (аляповатая обложка дешевого издания, треск экзотических синонимов) романа, который мы, по идее, читаем. Этот роман написан о жизни на полях и между строк, он описывает вращение хрупких механизмов, вырабатывающих волшебные откровения. Повествование построено обоюдоостро — R рассказывает историю жизни Персона, которая сама частично рассказывает об R, причем без всякой лести. Персон не поэт, он корректор, его жизнь проходит на задах литературы, он смотрит на язык R и других людей из-за кулис. В его скептических глазах швейцарская крепость автора распадается на беспорядочное скопление отелей и уродливых вилл, непроходимых маршрутов для «прогулок», сахарных снегов, сосен на частных участках земли и бульдозеров. Даже сам R словно распадается на части; его поддельный английский старательно усыпан <…> фальшивыми идиомами, странными разговорными оборотами, которые на бумаге каким-то образом становятся торжеством манерного стиля. И характеры, собранные R, как и слова, покидают его, уходят, живут, как они, пожалуй, делали всегда, своей жизнью. Мгновенные великолепные связи литературы становятся прозрачными, и мы видим, как материал, из которого она сделана, ускользает, разлетается во все четыре стороны, уносится в другие сознания, другие сферы, другие будущие жизни. Стройное повествование имеет место там, где трагический путь Персона пересекает дорогу R, и наоборот. Ранее, например, Хью Персон наслаждается неуклюжим совокуплением с темноволосой Джулией, наслаждается он им главным образом потому, что Джулия — приемная дочь знаменитого писателя R, которую считают его любовницей и любимой героиней его романов, но Хью позднее не видит того, что его собственная возлюбленная, Арманда, этакая светловолосая копия Джулии, и есть тайная страсть R, в чьем воображении обласканы каждый изгиб и каждая впадинка ее тела. И это, как сказал бы R, вовсе не шутка над тобой, Хью. R нисколько не свободнее Персона в мире просвечивающих предметов, где самые массивные творения обречены на разрушение и растворение в историях чьих-то жизней. Ваше владение ими оказывается столь же реальным и столь же бессильным и невидимым, как и ваша подпись на словах, которые вы произносите; каждая веха, каждый значок частной собственности несет на себе призрачный отпечаток бесконечного количества сознаний, и, следовательно, не несет ничей отпечаток. В мире подобного рода легко строить узоры, но невозможно прилепить их куда-либо. Сверкающие предметы ускользают от вас и оставляют в конце концов в полном одиночестве: «Жизнь, — говорит R с комическим спокойствием, — можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг собственной личности…» С такими мыслями не будешь вызывать духов или забивать пространство сцены персонажами. Автор только намекает на историю жизни Хью, раскрашивает несколько чудных сцен, добавляет пламени и копоти, темноты и золота, чтобы создать общее впечатление. Соблазнительные детали, ужасные склоки, слезы, суд происходят за кулисами. Внимание сфокусировано на тайных ходах ума, на воображаемых страданиях, без которых невозможно отказаться от (воображаемой) власти над (воображаемой) красотой — отказаться от них так же трудно, как и от собственной жизни, хотя, быть может, это одно и то же. Скупой выверенный язык книги постоянно намекает на трагикомическую истину; она переполнена стратегически важными деталями, вроде совершенно не английских, но чрезвычайно точных идиом Арманды: «А теперь заниматься любовью»[238]. Именно «заниматься». Она не говорит «займемся», иначе действие было бы взаимным — любовь, к сожалению, дело одного человека, сколько бы мы ни стремились к взаимности. Арманда, столь важное для Персона существо, выскальзывает у него между пальцев, как только его тяжелые, смиренные руки оказываются на ней. У него ничего не остается, кроме умственных акробатических упражнений в полном одиночестве, с помощью которых он уворачивается от веселых угроз психиатров и теологов («расскажи дяде свой сон, иначе будешь гореть в аду»), и движения ощупью вперед по пути расставания с тем последним, что у него еще было, и превращения в просвечивающий предмет. «Просвечивающие предметы» — это лучшая за последнее время книга о том, как создается и разрушается литература. R говорит: «Люди научились жить с черной ношей, с огромным саднящим горбом: с догадкой, что „реальность“ только „сон“». Но дело не в том, что мы привыкли жить с этим ускользающим бесполезным противоречием, дело в том, что мы устали биться в него лбом. Может быть, именно поэтому появилось на свет множество угрюмых произведений, доктринерских трактатов о так называемом упадке воображения, напоминающих круговые лабиринты и населенные близнецами-двойняшками. Короткое, ясное откровение Набокова не идет ни в какое сравнение с подобными ученическими спектаклями: он знаток и неутомимый исследователь интеллектуальных событий и ощущений; он человек, который может с поразительным тактом и уверенностью говорить о расплывчатых радостях и жалких унижениях авторского труда. Making fictions // TLS. 1973. 4 May. P. 488. (перевод А. Патрикеева). Джонатан Рабан{199} Прозрачные подобия Глубочайшее чувство в романах Набокова, и единственное чувство, — это страдание; осенняя сентиментальная печаль, вызванная одиночеством и преходящей природой вещей. Он Басби Беркли{200} мировой скорби (или мировой корки, не помню точно): великий хореограф и фокусник, чьи самые изящные и блистательные работы имеют в своей основе одну-единственную слезоточивую картинку. Кинбот, дыша зловонием, жалко взирает через окно на роскошную вечеринку, устроенную соседом Шейдом; Гумберт видит, как его шедевр, его Лолита, превращается в пригородную шлюшку по имени Миссис Ричард Ф. Скиллер. Уберите с романа Набокова обертку в виде литературных игр, фокусов с зеркалами и сурового иронического философствования, и у вас в руках останется изящная слезливая штучка. «Лолита», по его же собственным словам, началась с образа несчастной обезьяны, чью историю Набоков случайно прочел в газете. Эта зверюшка, когда сторожа снабжали ее красками и бумагой, могла изобразить только решетку своей клетки. Самому Набокову удалось достичь тонких акварельных тонов при изображении внутреннего убранства тюрьмы, но в сердцевине каждого нового романа сидит себе на корточках грязная, косматая обезьяна и, сжимая в волосатой лапе кисть, пучит молящие глаза куда-то в сторону Общества защиты животных. Последнее время обезьяна эта стала странным образом походить на самого Набокова — нахмуренный лоб, обвисшие щеки, язвительность, связанная с несварением желудка, и сильный русский акцент все больше придают ей облик персонажа пантомимы, за которого романист, обливаясь потом, неумело пытается себя выдать. «Просвечивающие предметы» — это роман о страданиях авторства, унылый солипсизм писателя, заселяющего персонажами свой иллюзорный мир. Это наименее удачная и наиболее откровенная книга Набокова. Читателя приглашают заглянуть в замочную скважину и проследить за развитием отношений между автором и его персонажем, бедным Хью Персоном, которого вызвали из небытия и заставили проплясать свою мелкую мимолетную жизнь на страницах романа. Имя «Хью» по-английски произносится как «Ю», или «ты», а слово «Персон» имеет первичное значение «маска» или «персона». Набоков ловит его своим сачком, как бабочку, в первом же предложении, а потом распинает его иголочками на протяжении двадцати шести главок, бормоча в сторону читателя о трудностях своего занятия. Даже с маски падают сгустки ее собственной истории — ее трудно назвать просвечивающим предметом. Прозрачность — это состояние, связанное с жизнью в настоящем, с движением сквозь предметы и события, когда можно небрежно оставлять побоку их природу и историю. <…> В прозе Набокова есть только один тип людей, которые хорошо себя чувствуют в подобной прозрачности, людей, которые без малейших усилий идут по морю аки посуху. Это девушки, яркие и бесчувственные, как представители чешуйчатокрылых. Лолита, которой для счастья вполне хватало конфет и плакатов с портретами кинозвезд, была лучшей из набоковских фигуристок, скользивших по пленке поверхностного натяжения жизни; ее незаметная смерть во время родов, подобная гибели бабочки, стала самой существенной составляющей таланта, позволившего ей навечно остаться в настоящем. В новом романе Набокова появляется ее отпрыск, самоуверенная, хорошенькая, спортивная девушка по имени Арманда, обожающая кататься на горных лыжах по швейцарским склонам. Однако снег, по которому она скользит, едва оставляя след на его поверхности, — это ледяная корка, отделяющая мир чувств от нее самой. Как и Лолита, несется она навстречу случайной смерти от рук задушившего ее во сне Персона. Романисты, как и персонажи, — плохие горнолыжники. Персон, спотыкаясь и хрипя от натуги, тащится за Армандой и никак не может за ней угнаться. Ему мешают возраст, прошлое, работа редактором в издательстве (он приезжает в Швейцарию, чтобы заняться последней рукописью R, романом, озаглавленным «Транслятиции» и написанным в стиле набоковского рококо). Ему не хватает сил, чтобы подняться в гору, и он сидит на террасе отеля и пытается разглядеть яркую куртку Арманды в бинокль. Однако Персон, как и R, всего лишь двойник самого Набокова; как Персон гоняется за Армандой по Швейцарии, так Набоков гоняется за Персоном по своей книге. Они несутся круг за кругом, непрерывно, как в орнаменте на античной вазе. Набоков выскакивает вдруг, вопреки всякой грамматике, как «эпизодический герой» самих «Транслятиции» по имени Адам фон Либриков. В «Просвечивающих предметах» (параллель между двумя романами станет яснее, если знать, что название «Транслятиции» происходит от слова со значением «метафорический») Набоков становится одним из главных героев своего произведения: его вымышленные человечки изображают рисованную погоню за прозрачными метафорами, которые приводят нас обратно к автору романа, стенающему под грузом сотворенного им же самим мира. Его власть над этим миром напоминает самоуправство божества. Он знает то, что хочет знать. Книга утыкана отступлениями в скобках, которые содержат фрагменты полного знания, способного сделать лучшие и напряженнейшие места пошлыми и глупыми. Так, когда Персон смотрит на зеленую резную фигурку лыжницы в витрине сувенирной лавки, Набоков в состоянии заметить: «…это был имитирующий арагонит „алябастрик“, а сделана и раскрашена была вещица узником Грюмбельской тюрьмы, силачом-гомосексуалистом Арманом Рейвом, задушившим сестру-кровосмесительницу своего дружка». Единственное место, откуда возможно так описать данное событие, это могила — гипотетическое положение полноты памяти, которого все персонажи (Персон, R, Набоков), ковыляющие и ощупью ползущие по роману, стремятся достичь. Набоков дает им то, чего они хотят: R он отправляет на тот свет при помощи болезни печени, а Персона уничтожает в огне пожара. Подлинная прозрачность располагается лишь по ту сторону жизни, когда каждую шутку, каждое совпадение и историческую случайность можно наблюдать одновременно. Однако Набоков, несмотря на периодические путешествия в загробный мир, прекрасно себя чувствует в мире, где определенность кончается в настоящем. В действительности «Просвечивающие предметы» — это два романа. Один представляет собой историю, рассказанную земным человеком, который на основании собственных рассуждений пытается угадать, что будет дальше; другой представляет собой воплощение некоего романа, какой Бог мог бы написать для развлечения, задремав одним глазом. А в начале двадцать пятой главы, когда Персона уже прочно приковали к трагической судьбе, Набоков спрашивает: «Чего ты ждал от своего паломничества, Персон? Простого зеркального возвращения старых страданий? Сочувствия от замшелого камня? Насильственного воссоздания безвозвратно исчезнувших мелочей? Поисков утраченного времени в совершенно ином смысле, чем ужасное „Je me souviens, je me souviens de la maison ou je suis ne“[239] Гудгрифа или даже настоящее Прустово странствие? Все, что ему довелось когда-то здесь испытать (за исключением финала последнего восхождения) — это отчаяние и скука». Эти вопросы дают священный список традиционных описаний радостей и трудов литературы. Роман как форма художественного произведения уходит корнями в прошлое. Набоков же пытается вытащить его в будущее, чтобы испытать сладостную печаль событий, которые еще не наступили. Le temps perdus «Просвечивающих предметов» потеряно и для персонажей книги, и для их жизней. Предприятие это — не бей лежачего. Нас оставляют наедине с романистом, угрюмо размышляющим над неполнотой мира и представляющим его в невозможной перспективе, чтобы достичь эстетического совершенства, которого так не хватает реальности. В жизни все скука и горечь; в искусстве «чародея» неряшливые своенравные штучки, вроде девушек, редакторов издательств и романистов, страдающих болезнью печени, чудесным образом превращаются в сияющие прозрачные сущности. Однако Набоков постоянно мошенничает. В его новом романе совсем не ощущается сопротивление жизни. В «Бледном огне» и «Лолите» нужно было сражаться с сырым материалом американской жизни. Набоков утверждал, что, когда он писал «Лолиту», он ездил на автобусах по Бостону и собирал молодежный жаргон. Его питала вульгарность американской жизни, он усердно наблюдал обстановку мотелей, пригородов, шоссе, в которой развивается действие романа. Как бы там ни было, «Лолита» радостно погружает нас в липкую текучую суть США пятидесятых годов, в ней чувствуется вонь дешевых закусочных, запах горячей искусственной кожи на сиденьях низкого, блестящего хромированными деталями бьюика. «Бледный огонь» также великолепно передает пристойную паранойю студенческого городка в Новой Англии. Придать этому материалу столь мучительно манящую элегантную форму было настоящим подвигом для чародея-романиста. Здесь же Набоков-волшебник бездействует: воду он превращает в вино только со скуки. Теперь персонажи начинают его раздражать раньше, чем успевают появиться в книге. Они уже представляют собой всего лишь легкие каракули на бумаге, пешек в большой игре. Персон — меланхолическая тайнопись, Арманда вырезана с рекламы лыжного свитера в брошюре по зимним видам спорта. С R Набоков обходится несколько лучше, он рисует комичный автопортрет. Его романист говорит на сочном, идиоматичном языке иностранца, на котором каждое диалектное выражение получается чуть-чуть неправильно: «покороче говоря…». Делается, однако, все это расслабленно, будто художник черкает на бумаге во время телефонного разговора. Но стоит ему взяться за описание Швейцарии, как он грубо уменьшает масштаб пейзажа, сводя его к пигмейскому размеру своих персонажей. Реальный мир, в который нас приглашают «Просвечивающие предметы», похож на сувенирный пейзажик из цветной бумаги внутри стеклянного шара. Тряхните его, снег поднимается в воздух и медленно опускается хлопьями соды. Набоков сам раздраженно трясет свою скучную игрушку двадцать шесть раз. Теперь Набоков, обуреваемый скукой, дерзко отбрасывает идеи, которые когда-то наполняли жизнью его произведения: «Люди научились жить с черной ношей, с огромным саднящим горбом: с догадкой, что „реальность“ только „сон“. Но насколько было бы еще ужаснее, если бы сознание того, что реальность может оказаться сновидением, само было сном, встроенной галлюцинацией! Надо, впрочем, помнить, что не бывает миража без точки, в которой он исчезает, точно так же как не бывает озера без замкнутого круга достоверной земли». Сколько бы там ни расписывалась эта «тяжелая ноша» и прочие страсти, чувствуется, что Набоков зевает от этих мыслей, возможно, ему удалось перевести себя в иной мир полного знания, откуда все человеческое выглядит мелким, глупым и ужасно неэстетичным. Во всяком случае, «Просвечивающие предметы» показывают нам автора романа, который устал от собственного ума и даже злится на него. Такая попытка изобразить одинокое знание не вышибет у меня слезу. Несмотря на рассудочную браваду, фатальное погружение Набокова в глубоко личные оккультные занятия выдают недостаток ума и чувства. Jonatan Raban. Transparent Likeness // Encounter. 1973. September. P. 74–76 (перевод А. Патрикеева). ТВЕРДЫЕ СУЖДЕНИЯ STRONG OPINIONS
Сборник нехудожественной прозы В. Набокова, вобравший в себя интервью, рецензии, письма редакторам различных газет и журналов, благодарственные отзывы авторам юбилейного сборника (Triquarterly. № 17. 1970) и энтомологические статьи, своим появлением был обязан договору, заключенному в декабре 1967 г. между писателем и «Макгроу-Хилл»: за пять лет Набоков обязался предоставить в распоряжение издательства 11 книг. К 1973 г. писатель выдал четыре книги: «Аду», английские переводы «Короля, дамы, валета» (1968) и «Машеньки» (1970), «Просвечивающие предметы» и сборник «Стихи и задачи» (Poems and Problems. N.Y.: McGraw-Hill, 1971), помимо русских и английских стихотворений включавший шахматные задачи. Возникшую было паузу между «Просвечивающими предметами» и спешно готовящимся сборником рассказов[240] (над их переводом с русского на английский не покладая рук трудились отец и сын Набоковы) решено было заполнить изданием набоковских интервью и статей. Едва ли Набоков рассчитывал, что книга станет бестселлером. Ей отводилась иная роль. Она должна была кристаллизовать «публичную персону» или «литературную личность» писателя: представить в наиболее законченном, очищенном виде тот идеально-обобщенный, эстетизированный и мифологизированный образ эстетствующего сноба, игрока в бисер и добропорядочного американского патриота, который Набоков целенаправленно навязывал читателям (а где-то и самому себе!) начиная с конца пятидесятых годов в послесловии к американскому изданию «Лолиты», предисловиях к переводам русских романов и в многочисленных интервью, тщательно срежиссированных и отредактированных им самим интервью, когда ответы на заранее присланные вопросы давались только в письменном виде. Из более чем сорока интервью, данных различным американским и европейским журналам и газетам, Набоков отобрал лишь двадцать два (и то, по крайней мере, одно из них — упомянутое выше псевдоинтервью 1972 г. — было целиком сочинено самим Набоковым). Добавив к ним наиболее важные для себя «письма в редакции» и критические статьи (среди них — разгромная рецензия на американское издание сартровской «Тошноты» и саркастический отзыв о набоковедческой монографии Уильяма Роу), Набоков еще раз тщательно отредактировал их. Придав собранию разношерстного материала логическую завершенность и смысловое единство, писатель, как никогда полно и обстоятельно, изложил здесь свое эстетическое кредо и предложил публике сочиненную им самим идеальную версию собственного «я» — оскар-уайльдовской закваски эстета, чурающегося политики, «литературы Больших идей» и прочей, как выразился бы один из набоковских персонажей, «мерзкой гражданской суеты», — озабоченного лишь «сочинением загадок с изящными решениями» и представляющего свою читательскую аудиторию в виде толпы людей с набоковскими личинами вместо лиц. Лейтмотивом через всю книгу проходили наипатриотичнейшие заявления о том, что он гордится своим американским гражданством — «я действительно чувствую теплую и беззаботную гордость, когда показываю свой зеленый американский паспорт на европейских границах», — что его оскорбляет и огорчает «грубая критика американской политики» (имелась в виду война во Вьетнаме), о том, что «перечислять на одном дыхании Освенцим, Хиросиму и Вьетнам — возмутительная пошлость», что он при первой же возможности (которая так и не представилась) покинет Швейцарию и вернется в Америку, «к ее библиотечным полкам и горным тропинкам», что он, аполитичный Набоков, сожалеет «о позиции глупых и нечестных людей, которые смехотворным образом приравнивают Сталина к Маккарти, Аушвиц к атомной бомбе, а бессовестный империализм СССР к честной и бескорыстной помощи, которую США предоставляет попавшим в беду народам». Если добавить к этому грубые выпады против собратьев по перу (не только современников, вроде «банального баловня буржуазии» Сартра и «современного заместителя Майн Рида» Хемингуэя, но и классиков: Сервантеса, Достоевского, Гоголя и др.), то можно легко понять, почему на тех немногих рецензентов, кто откликнулся на выход книги, «твердые суждения» Набокова произвели гнетущее впечатление. Экстравагантные политические заявления Набокова вызвали у Джина Белла <см.> сравнение с Барри Голдуотером и Ждановым, натолкнув при этом на грустную мысль, что автор книги, «стоит ему только покинуть два поля своей деятельности — писательство и ловлю бабочек, — страдает недостатком интеллекта». Назойливые выпады против фрейдизма вызвали у другого рецензента, Ричарда П. Брикнера, раздраженное замечание: в книге Набокова господствует «язык невежественного реакционера, старающегося науськивать филистеров» на те явления, суть которых ему непонятна. «А то, как Набоков по-никсоновски бессодержательно употребляет слово „прогрессивный“, издает точно такое же дешевое бряцание» (Brickner P.R. // NYTBR. 1973. November 11. P. 36). Некоторые рецензенты были особенно шокированы даже не запальчивым и непререкаемым тоном, с каким Набоков излагал свои «твердые суждения», а «полным отсутствием каких-либо конкретных объяснений или примеров, их подтверждающих», благодаря чему, указывала Диана Джонсон, скандальные набоковские заявления «становятся похожими на глубоководных рыб, которые лопаются, когда их подымают на поверхность. <…> Набоков, по простоте сердечной, рассылает другим великим приглашения на казнь, не открывая, в чем же состоит их преступление» (Johnson D. // Christian Science Monitor. 1974. February 6. P. F5). В подавляющем большинстве рецензий вполне резонно указывалось на то, что набоковский сборник едва ли будет пользоваться широким читательским спросом и вряд ли «понравится тем, кто в восторге от романов Набокова» (Гор Видал <см.>). «Без сомнения, — утверждал рецензент из журнала „Спектейтор“ Колин Уилсон, — книга привлечет внимание будущих биографов и литературоведов, но трудно представить, по какой причине она сможет заинтересовать кого-нибудь еще» (Wilson С. Butterfly minded // Spectator. 1974. № 7613. (May 25). P. 646). Прогнозы рецензентов полностью оправдались. Подпортив набоковское реноме в среде американских интеллектуалов, книга не привлекла к себе внимание «рядовых» читателей и расходилась крайне плохо — хотя очень скоро была буквально растаскана по цитатам критиками и набоковедами. Гор Видал{201} Путь Черного Лебедя Вслед за замечательной книгой мемуаров профессора Владимира Набокова «Память, говори» появились «Твердые суждения» — собрание материалов, в котором он сохранил для будущих студентов все, сколько-нибудь напоминающее интервью, данные им за последнее десятилетие. <…> Увы, Черный Лебедь швейцарско-американской литературы должен многое объяснять в своем творчестве (но не петь лебединую песню: он еще нужен нам на многие годы). Помимо всевозможных скандальных интервью, в форме «Писем к издателю» профессор Набоков рассказывает о разногласиях, возникших между ним и французским издателем «Лолиты», между ним и критиками его перевода пушкинского «Евгения Онегина», а также между ним и различными его оппонентами (намеренно опуская причину написания каждого из этих писем, он создает полубезумное, почти кафкианское настроение). В это издание включены также выдержки из его разглагольствований о книгах. <…> Наконец, он предлагает нам несколько обстоятельных «портретов» бабочек, умерщвленных им («умелым щипком за брюшко») во время его знаменитых поездок по мотелям Америки. Ответы профессора Набокова на вопросы, заданные ему доброй дюжиной корреспондентов, часто забавны, иногда ослепительно остроумны и всегда — даже после третьего или четвертого раза — невыносимы из-за настойчивого повторения одного и того же. Лично я ни за что на свете не хотел бы еще раз перечитать то, что он пишет твердым карандашом в своих письмах, стоя за конторкой, пока не устанет и не присядет или не приляжет; — все то, что он пишет на карточках из бристольского картона, разлинованных только с одной стороны, чтобы по ошибке не взять вместо чистой уже исписанную карточку. Читая и перечитывая эти описания, понимаешь, почему Набоков считал Роб-Грийе выдающимся писателем. Как известно, интервьюеры с особой настойчивостью стремятся узнать, как именно пишет писатель (то, что он пишет, обладает для них не столь магической привлекательностью). Но Лебедь озера Леман на протяжении всего того, что он считает заслуживающим издания, потчует нас многочисленными повторениями. «Я требую от моих студентов страсти в науке и точности в поэзии». Прекрасно сказано — но только если это сказано один раз. («Афористичность — признак склероза».) А у него, конечно же, интервью рассказывают и повторяют на все лады священную историю обо всех безвозвратных утратах, понесенных благородным родом «помещиков и воинов» (происходящим, не исключено, по прямой линии от Чингисхана) в годы русской революции, и о скитаниях его наследника (Германия, Англия, Америка), и о метаморфозе в Корнелле, превратившей его из «тощего почасовика в полного профессора», из безвестного романиста русской эмиграции в творца «Лолиты», которую Ишервуд считал лучшей книгой, когда-либо написанных об Америке. <…> «Твердые суждения» напоминают и показывают, до какой степени их автор все еще остается элементом американской академической машины. К числу лучших страниц в этом разделе книги, бесспорно, принадлежит описание экзамена в большом зале в Корнелле, состоявшегося зимним днем. Но, несмотря на чувствительные выпады против «рэкета символизма в школах, который привлекает компьютеризованные умы, но губительно влияет на интеллект и поэтическое чувство», сам Набоков принадлежит именно к тому типу писателей, который больше всего нравится рэкетирам. Не только его проза, насыщенная трехъязычными каламбурами и игрой слов, но и эта книга («просто мне нравятся фразы с изящным завершением») переполнена символами, которые гораздо, гораздо ниже всех этих татарских деревьев и скифских туманов. К числу лучших интервью относятся беседы с Набоковым Альфреда Аппеля, мл. <…> Другое дело, что вопросы Аппеля часто куда длиннее и витиеватее ответов профессора. Означает ли это, что на этих страницах решила порезвиться труппа, разыгрывающая интеллектуальную комедию? Этакие новоявленные Стравинский и Крафт? Определенно, преподаватель предлагает своим ученикам изысканный вариант игры в прятки, а также секс-прятки. Время от времени профессор поневоле замечает, что сам он не кажется интересным и привлекательным для молоденьких девушек, неожиданно возникающих в его произведениях. («Льюис Кэрролл любил маленьких девочек. Я — нет».) В такие моменты наш гордый Черный Лебедь превращается в нескладного гуся, опасающегося, как бы его не зажарили члены правления в Корнелле. Несмотря на случайные приятные места, эта книга вряд ли понравится тем, кто в восторге от романов Набокова. Но для студентов, которым придется писать о нем в американских университетах, пожалуй, будет полезно познакомиться с этой болтовней в одном томе. <…> Gore Vidal Black Swan's Way // Observer. 1974. May 12. P. 36. (перевод А. Голова) Джин Белл Мир сверкающих поверхностей «Твердые суждения» — это собрание всевозможных набоковских заметок: интервью, писем к издателям, этимологических штудий и нескольких статей, по большей части весьма задиристых. Письма, также отличающиеся придирчивостью, производят менее резкое впечатление, так как их адресаты не указаны. Вся эта смесь предназначена для исследователей творчества Набокова, которые проявят интерес к последним баталиям писателя. Данная книга всего лишь восполняет пробелы, позволяя бросить мимолетный взгляд на личность этого мудрого мастера, скрытую за отполированными до блеска вымыслами, лирическими воспоминаниями и сварливыми предисловиями. И вот теперь эти жареные факты и любопытные подробности, доселе разбросанные по разным изданиям, собраны под одним переплетом: идиллическое имение в старой России; эмигрантский кочевой образ жизни; убийство набоковского отца русским фашистом; жизнь в гостиницах, бабочки, профессор в Корнелле <…> неспешное заполнение карточек перед лекциями (и даже для ответов во время интервью); традиционные вкусы в искусстве (неприятие абстракционизма); невосприимчивость к музыке; сын — оперный певец; длительные скитания по Западу, впоследствии ставшие «Лолитой»; скандальные публикации; успех; полнейшее безразличие к социальным проблемам; насмешки над мыслителями и большинством писателей и, наконец, манихейский дуализм в политике (добрая Америка, противостоящая глобальным проискам Кремля). Как и в своих романах, Набоков удивительно живописен («я родился художником»), даже скульптурен. Не менее живописен он и в подходе к литературе. В своих корнеллских лекциях он старательно избегает исторического и интеллектуального контекста, зато подробно останавливается на описании устройства русского спального вагона у Толстого или карты Дублина у Джойса. Действительно, любимыми набоковскими мальчиками для битья являются те критики, которые усматривают в искусстве «школы» или «влияния» (всегда в кавычках). Он также осыпает насмешками писателей «с тенденцией» — Достоевского, Манна, Камю и любых других авторов, склонных изображать роль некоего нематериального (скажем, «духовного») начала в человеческой жизни. В своей курьезной атаке на «Тошноту» («Нью-Йорк таймс», 1949, помещено в рецензируемом томе) Набоков по большей части рассматривает неточности перевода и фактические ошибки у самого Сартра и в заключение отбрасывает книгу на том основании, что она рассматривает отвлеченные философские проблемы «на чисто ментальном уровне». Здесь Набоков напоминает наивного позитивиста, отрицающего все, что невозможно увидеть. Так уж сложилось, что постоянным эпитетом Набокова стало слово «мыслитель». Хорошо известны его словесные залпы по другому мыслителю — Фрейду. Постоянные выпады против «венского шарлатана», смешные на первый раз, на двадцатый кажутся решительно утомительными. Более того, Набоков любит осмеивать и бездоказательно обличать. Он никогда ничего не аргументирует, редко приводит ссылки на какие-либо конкретные книги или пассажи Фрейда; он берется за оружие для того, чтобы развенчать Фрейда как психоаналитика и литературного критика. Он, несомненно, полагает, что Фрейд не представляет из себя ничего, кроме секса и Эдипова комплекса, так что читатель начинает удивленно задумываться: а читал ли Набоков Фрейда? Точно также проклятия, обрушиваемые на Маркса, представляют собой патологический антикоммунизм, и периодические «опровержения» Маркса в набоковских романах выглядят скорее проявлением личной предвзятости. И хотя Набоков претендует на некоторые познания в физике, среди мыслителей, которых он любит задевать, оказывается и Эйнштейн, и то, что Набоков называет «его гладкими формулами». Сам Набоков исповедует расплывчатый солипсизм и грубый атомизм, в котором не остается места ни для чего иного. В принципе, трудно винить Набокова за то, что он стал таким. И тем не менее как-то грустно видеть, как он обращает свою злость и раздражение на многих писателей просто потому, что его творчество отличается от их и по стилю, и по духу. Проблема отчасти заключается в том, что Набоков не просто питает отвращение к ним, а в самом деле не способен подобрать ключей к отвлеченному мышлению. Единственный философ, с которым Набоков хоть сколько-нибудь знаком, — это Бергсон, а его собственные попытки создания отвлеченных дискурсов в «Аде» и «Под знаком незаконнорожденных» напоминают петушиный фальцет и кулдыканье индюка. Однако еще более загадочно бесцеремонное третирование Набоковым других авторов, которых он время от времени называет писателями второго сорта, а то и хуже. Таковы оценки Конрада («подростковый»), Лорки («эфемерный»), Сервантеса («грубая рухлядь»), Достоевского («трескучий фразер»), не говоря уж о Бальзаке, Фолкнере и сотнях других авторов, о которых он вновь и вновь пишет как о макулатуре. Набоков может бегло задеть одного-двух своих именитых современников: так, Беккет пишет «приятные романы», но «никудышные пьесы в традиции Метерлинка», а Борхес — наследник Анатоля Франса; дешевые приемы, если вспомнить, как сердился Набоков, когда подобные сравнения относили к нему самому («да и что такое, собственно, традиция Метерлинка?» — мог бы ответить он сам на вопрос интервьюера). Список врагов Набокова необычайно широк, и это не единственный способ их очернения, ибо враг номер один для него — общие идеи. Он питает неприязнь к тем авторам, стилю или структуре которых недостает отшлифованности, или чьи несовершенные творения исполнены человечности (Достоевский, Селин). «Интерес к человеку» — вот главное уничижительное слово для Набокова; отсюда его презрение к Ван Гогу. Будучи в первую очередь стилистом, чьи романы исключают интеллектуальное начало и держат плотно закрытой крышку на котле свободных страстей, Набоков презирает любое искусство, несущее на себе печать интеллекта и неуправляемых эмоций. Кроме того, проявляя своего рода «ждановщину наоборот», Набоков ipso facto[241] относит к низшему разряду литературу с «социальным содержанием»: бальзаковские описания французской буржуазии, описания империализма у Конрада и Глубокого Юга у Фолкнера, и даже «Гернику» Пикассо. В числе немногих авторов, избавленных им от мусорного ящика, — Флобер, Джойс, Пруст, воплотившие в своем творчестве идею искусства для искусства, которым Набоков искренне симпатизировал, совершенно игнорируя вполне дидактические намерения Флобера и его интеллект, как игнорировал он воссоздание широкой социальной панорамы у Пруста, его внутренние противоречия, нравственные конфликты и катастрофы. И все же, хотя Набоков провозглашал безразличие ко всем доктринам и идеологиям, в его собственной башне из слоновой кости куда больше социального содержания, чем он мог бы допустить. Большинство его русскоязычных романов и некоторые из написанных на английском служат безоговорочным оправданием культуры русской эмиграции, а с другой стороны, все советские персонажи, которых он отшлепал в «Подвиге», «Защите Лужина» и «Бледном огне», представляют собой грубые карикатуры, зеркальные отражения капитализма в зеркале социалистического реализма. (Бальзак, сатирически изображая французских финансистов, всего лишь «социален», а набоковский пасквиль на советских туристов — «искусство».) «Под знаком незаконнорожденных», самый слабый из романов Набокова, — всего лишь антикоммунистический трактат, переполненный темными по смыслу литературными шарадами и читающийся едва ли не труднее Кестлера. Автор не показывает глубокого понимания конфликта и сути диктатуры, не выдвигает никакой концепции относительно того, почему та или другая группка способна захватить власть в государстве; все сводится лишь к изображению деятельности злобных скотов, которые боятся и ненавидят профессоров. И его нападки на социальное «равенство» (содержащиеся, например, в «Подвиге») читаются как антидемократическая риторика XIX века или выступления Барри Голдуотера{202}. «Пнин» и «Бледный огонь» усеяны проявлениями эстетической и политической мании Набокова; обе книги представляют собой громкие залпы по оппозиционерам — противникам Маккарти, а идиллия в предреволюционной Зембле очень близко напоминает либеральную утопию Набокова и его впечатления от Америки. Другие романы служат своего рода платформами для самых его характерных художественных «идей». «Дар», весьма специфический отчет о перебранках и распрях в русской литературе, содержит полемику (посредством критики Чернышевского) с социальным искусством, а в «Истинной жизни Себастьяна Найта», в выпадах против Гудмэна, ниспровергаются исторически мыслящие критики и одновременно утверждается художественное и даже моральное превосходство писателя, держащегося в стороне от социальных кризисов типа неурожая, безработицы и войны, — своего рода Эйн Рэнд{203} для эстетов. Даже те книги Набокова, в которых нет никакой доктрины, содержат выпады против левых, фрейдистов и романистов социального направления. В этой связи можно вспомнить коварную «объективность» социологов эпохи краха идеологий. Перефразируя Борхеса, можно сказать: те, кто выступает против социальных доктрин в литературе, на самом деле имеют в виду любые доктрины, отличающиеся от их собственной. «Твердые суждения» надолго оставляют неприятный осадок. Очень печально, что автор, стоит ему только покинуть два поля своей деятельности — писательство и ловлю бабочек, страдает недостатком интеллекта. Набоков всячески преуменьшает роль и значимость причин и следствий в истории, и возникает ощущение, что его собственные воззрения — плод невежества. Складывается впечатление, что он считает маоистский Китай продуктом советской системы («опухоль России»), а его аллюзии на историческое прошлое редко простираются далее упоминания той роли, которую сыграли его аристократические предки. На этих страницах Набоков предстает как косный чудак-реакционер, отпугивающий и своими взглядами, и даже своей лексикой, обиженный на большинство других авторов и отличающийся удивительной узостью интересов, — словом, своего рода Бобби Фишер{204} в литературе. Одним словом, эта книга не привлечет к нему особой симпатии, за исключением разве что тех университетских почитателей, которые подражают его прозе и, как попугаи, повторяют его предубеждения. Ибо Набоков в сфере академического «производства» затмил даже Элиота. Литературоведы охотятся за его энтомологическими и литературными публикациями; его едкие аллюзии на венского шарлатана теперь вытеснили религиозную ностальгию Элиота. И все же не подлежит сомнению, что без «Лолиты» набоковская литературная продукция ограничивается незначительными — хотя формально и эффектными — достижениями. Его русскоязычные произведения, теперь полностью переведенные на английский, в свежей, местами шокирующей манере (хотя и здесь нет особого отрыва от повествования традиционного типа) трактуют о проблемах переходных состояний, о стечении обстоятельств, о движении персонажей на шахматной доске, об «он сказал — она сказала». Редко превышая по объему 200 страниц, они добротно слажены, хорошо читаются, занятны, содержат немало «очаровательных» описаний и временами даже трогают читателя. Изысканно-галантные, неизменно остроумные, эти искусные предметы развлечения редко отзываются эхом в самых глубинных уголках человеческого сердца. Лишь «Смех во тьме» и «Приглашение на казнь», пронизанные чувством тревожного ожидания и атмосферой абсурда, составляют некое исключение. Разумеется, в своей сфере русскоязычные произведения Набокова совершенны — в той же мере, в какой Хаусмен{205}, Пуленк{206} или Фриц Крейслер{207} совершенны в своей. Но диапазон этот чрезвычайно ограничен; романам недостает интеллектуальной глубины и изящества Беккета, очаровательного чувства юмора и удивительной изобретательности Кортасара или широты взглядов Борхеса (который часто утверждает, что писательство не есть чистое искусство, но человеческие притчи) на вселенную, которая решительно сошла с ума. В русскоязычных писаниях Набокова слишком много милых, живых молодых людей, которым всякое дело по плечу, тогда как жертвы столь же часто являют собой презренных дураков, изображенных в качестве собак, лягушек и жаб. Англоязычные произведения Набокова куда более неровны. «Себастьян Найт» решительно напоминает «Пьера Менара»{208} Борхеса (биография вымышленного автора), но там, где Борхес пользуется блистательной иронией и отстранением, Набоков прибегает к лобовой атаке и сарказму. «Под знаком незаконнорожденных» — достаточно пустая книга, написанная хорошей прозой, а «Пнин» — типичный университетский роман, не лучше и не хуже сочинений Эмиса, Маламуда{209} или Рэндалла Джарелла{210}, отличающийся от них только «содержанием». «Бледный огонь» — произведение настоящего мастера; и хотя поэма нередко бывает излишне прозаичной, а маниакальная одержимость рассказчика часто смягчается прихотливым стилем Набокова, это произведение наглядно показывает, как мастер-виртуоз может превратить в подлинное искусство такой тончайший материал, как академические интриги и свойственную ученым мужам манию величия. Напротив, «Ада» с ее трехъязычными каламбурами, случайными аллитерациями и языком, насыщенным автоаллюзиями и причудливыми образами, являет собой совершенно нечитаемого литературного монстра. Манерной, потакающей себе самой прозе, отлично подходящей для Кинбота и Гумберта Гумберта, в данном случае недостает внутренней основы, и она оказывается просто плоской. Зная отвращение Набокова к пародийным историям и беззубым каламбурам «Поминок по Финнегану», странно видеть его в плену тех же самых пороков. «Просвечивающие вещи», скромный и стройный роман с изящной сменой голосов, куда более удачен; он напоминает деликатно не договоренные любовные истории его берлинской поры. «Лолита» — бесспорно, центральное произведение Набокова, обладающее совершенной формой, за исключением разве что «фонового» материала. Она читается и перечитывается с таким интересом именно потому, что при всем набоковском безразличии к современной реальности и «человеческим интересам», в романе кристаллизовался целый ряд современных явлений: одиссея по мотелям, бездумные и нахальные американские подростки пубертатного возраста, культивирование психопатической буффонады. «Лолита» получилась такой удачной еще и потому, что набоковские навязчивые идеи в ней либо отсутствуют, либо согласуются с содержанием. Так как Гумберт явно ненормален, ему вполне приличествуют ненавязчивые антифрейдистские выпады; а его смешанное франко-английское происхождение исключает резкие антикоммунистические выпады (в самом деле, единственный значительный «эмигрантский» момент в новелле — шумная эскапада с таксистом-монархистом); кроме того, сама природа темы, чуждая «литературщине», не допускает никаких разглагольствований о других авторах. Набоков дождался-таки громкой славы. Его виртуозная проза служит образцом, напоминая о необходимости не допускать во фразах никаких формул и клише. То, чем он упивается в своем невежественном эстетизме, вызывает досаду и раздражение. Тем не менее он сумел создать пару настоящих шедевров. Иначе он стал бы анахронизмом, которому почти нечего предложить серьезным читателям. Набоков — либерал-аристократ XIX века, питавший свое мировоззрение в замкнутом кругу эмигрантской субкультуры в Берлине (он так и не выучил немецкий) и отыскавший в тихих университетских городках Америки эпохи «холодной войны» нечто максимально близкое своему социальному идеалу — мягкому либерализму, свободному от левых и индифферентному к правым. В интеллектуальном плане он скорее старомодный индивидуалист, убежденный в абсолютной независимости своего сознания и все еще ведущий битву эпохи fin de siecle против психиатрии вплоть до отрицания какого бы то ни было влияния внешней среды. Его эстетические воззрения счастливо совпали с периодом господства в академическом мире ортодоксии Новой критики с ее догматическим отрыванием искусства от социальной жизни и мышления. Подобные взгляды сегодня безнадежно устарели, как фантазм, подкрепленный снобизмом и ностальгией. Совсем недавно такие латиноамериканцы, как Неруда, Гарсия Маркес и Карпентьер, доказали, что, независимо от Жданова и Набокова, органичное социальное мировоззрение и сложный художественный мир вполне могут уживаться друг с другом, а в Северной Америке такие авторы, как Пинчон и Бартельм, напомнили о том, что история — оживший кошмар, с которым искусство, если оно есть нечто большее, чем сверкающие поверхности и блестящее остроумие, должно найти взаимопонимание. «Лолита» существует — но, несмотря на это, существуют и «Сто лет одиночества». Gene H. Bell. A World of Shiny Surfaces // Nation. 1975. May 31. P. 664–667 (перевод А. Голова). СМОТРИ НА АРЛЕКИНОВ! LOOK AT THE HARLEQUINS!
 В. Набоков в костюме Арлекина (Р. Уилсон) В. Набоков в костюме Арлекина (Р. Уилсон) Восьмой англоязычный роман В. Набокова (оказавшийся последним художественным произведением, вышедшим из-под его пера) был начат в феврале 1973 г. и закончен в апреле 1974 г. Похоже, что, создавая пародийную ревизию своего долгого творческого пути (именно такой ревизией и стал роман), семидесятипятилетний писатель не был уверен, не помешает ли смерть или тяжелая болезнь завершить этот труд в том виде, в каком он был задуман. Не желая того, чтобы незаконченное произведение было опубликовано, в случае своей смерти он завещал уничтожить рукопись (если так можно назвать почтовые карточки, на которых Набоков писал почти все свои англоязычные произведения). Позже писатель завещал аналогичным образом поступить с рукописью другого произведения — оставшегося незавершенным романа «Оригинал Лауры» («The Original of Laura»). Неудивительно, что писатель торопился с завершением романа. Дорожа каждым днем работы, он отказался от поездки в США для получения пожалованной ему Национальной премии по литературе — вместо него на церемонии присутствовал Дмитрий Набоков. Первое американское издание «СНА» (игривая аббревиатура, которую, вслед за Вадимом Вадимычем, героем-повествователем романа, охотно использовали все рецензенты) вышло в августе 1974 г. Спустя несколько месяцев, в апреле 1975 г., роман был опубликован в Англии (London: Weidenfeld & Nicolson, 1975). Из всех англоязычных произведений Набокова «Арлекинам», пожалуй, больше всех не повезло с рецензентами. В подавляющем большинстве критических отзывов он был расценен как свидетельство творческого упадка писателя, не только безнадежно оторвавшегося от «живой жизни» и запросов современности, но и впавшего в грех самоэпигонства. Изощряясь в колких насмешках, рецензенты указывали на тематическую узость произведения и раздражающую манерность авторского языка — «гремучую смесь филологической педантичности и неуклюжего сленга» (Raban J. Exiles // Encounter. 1975. Vol. 44. № 6. P. 80), — сокрушались по поводу откровенной механичности сюжетных перипетий и нарочитой марионеточности персонажей, лишенных даже намека на психологическую глубину и житейскую достоверность. «Смутные тени на стене его [Набокова] необитаемой пещеры языка», — так охарактеризовал их Джонатан Рабан (Ibid. P. 81). Вежливо назвав «Арлекинов» «великолепным романом об одиночестве», «самой печальной и наиболее привлекательной» книгой Набокова после выхода «Бледного огня» (Ibid. P. 79), он насытил рецензию таким количеством язвительным замечаний, которые во многом обесценили высказанные им похвалы. В качестве ключевого образа «СНА» ехидный критик выделил упомянутого в третьей главе первой части индигового попугая, умевшего говорить «алло», «Отто» и «папа»: «Этот образ отбрасывает длинную тень через весь роман. Подобно попугаю, пронзительно кричащему в своей клетке, романист сидит, запертый в собственном романе, его искусство превратилось в черствый бисквит, его язык — в бессмысленное подражание» (Ibid. P. 80). По схожей схеме построил свою рецензию и Мартин Эмис <см.>: воздав писателю за его прежние заслуги, он аттестовал «Арлекинов» как «жалкое и печальное исключение среди набоковских книг». В отличие от Эмиса, считавшего, что «Смотри на арлекинов!» написан «скверно», Сол Малофф признавал, что и в этом романе писатель демонстрирует прежнее стилистическое мастерство. Однако это признание не уберегло Набокова от нелицеприятной критики: «Если бы романы Набокова состояли из одних чудесных фраз, его определенно считали бы величайшим из ныне живущих писателей; и он, конечно, стал бы таковым, пиши он путеводители, руководства по ловле чешуекрылых и наставления по организации автомобильной промышленности. Но книги состоят не из одних прекрасных фраз. Временами (особенно когда кажется, что он сознательно старается ошеломить читателя своим мастерством, выводя предложение за предложением одно лучше другого) возникает сильное желание, чтобы это была огромная, громыхающая, вся в пене, задыхающаяся от напряжения фраза-першерон, тянущая отсюда и дотуда тяжеленный воз чего-то ужасно важного и нужного. Вот только ехать „дотуда“ совершенно не входит в планы автора романа о Вадиме. Суть его состоит в том, чтобы сотворить немыслимые симфонические образы, волшебные узоры и божественную материю, причем сделать это с высокомерным изяществом и виртуозностью. Такое произведение по своей сути и замыслу является подчеркнуто декадентским, презрительным вызовом „шутам-критиканам воскресных газетных приложений“, обвиняющим писателя в „аристократическом обскурантизме“. Набоков — наш великий декадент, наш царственный вельможа и оригинал, непревзойденный художник второго ряда, кому может позавидовать любой представитель первого — в то время как газетные критиканы продолжают ворчать и скрежетать зубами»[242] (Maloff S. // New Republic. 1974. Vol. 171. № 26 (December 28). P. 29). Разумеется, далеко не все рецензенты при разговоре об «Арлекинах» злобно скрежетали зубами и свирепо кусали престарелого мэтра. Репутация автора «Лолиты» была слишком высока и весома, чтобы не оказывать мощного влияния на критиков. Правда, положительные отзывы на этот набоковский роман, как на подбор, вышли какими-то вялыми и неубедительными и по большей части представляли собой доброжелательный пересказ фабулы. Подобным пересказом Набокова одарили: незлобивый Джон Апдайк, поставивший «Арлекинов» выше «Ады» и «Просвечивающих предметов» (Updike J. Motlier Than Ever // New Yorker. 1974. November 11. P. 209); Джон Скау, назвавший роман «одной из самых озорных и забавных книг» Набокова (Skow J. Butterflies Are Free // Time. 1974. October7. P. 65); В.С. Притчетт, единственной серьезной ошибкой автора посчитавший советскую одиссею героя-повествователя (Pritchett V.C. Nabokov's Touch // NYRB. 1974. November 28. P. 3) и Питер Кеннел (Quennell P. Autobiographical fiction // Books and bookmen. 1975. Vol. 20. № 11 P. 32–33). Последние два критика, будто сговорившись, принялись вдобавок рассуждать о стернианстве Набокова. Впрочем, и их признание «Арлекинов» не было безоговорочным. И Кеннел, и Притчетт сочли, что «Смотри на арлекинов!» не является лучшей вещью Набокова, а эффект от радужной рецензии Джона Скау был изрядно подпорчен издевательской подписью под фотографией семидесятипятилетнего писателя: «An obsolete variant of kern»[243]. Даже Марк Слоним, по своему обыкновению не скупившийся на лестные эпитеты и похвалы в адрес Набокова: «„Посмотри на арлекинов!“ [перевод названия, предложенный Слонимом] — блистательный, остроумный, занимательный и, пожалуй, наиболее доступный из его романов», — нашел неудачными последние главы — «особенно описание паралича героя и его третьей и четвертой жен, играющих безмолвные роли водевильных статисток. Возможно, что к концу романа автор несколько устал от лицедейства и каламбуров, и его сверкающая живость потускнела» (Слоним М. Новый романа Набокова // Русская мысль. 1974. 21 ноября. С. 9). Между тем хор набоковских недоброжелателей звучал куда более громко и слаженно. Набокову вменялось в вину, что «в этой книге он больше, чем когда бы то ни было, пишет для себя и своих стойких поклонников». Этот упрек высказал, в частности, Кеннет Черри, с точки зрения которого «„Смотри на арлекинов!“ — не очень хороший, хотя в своем роде и замечательный, роман: он слишком явно демонстрирует тот упадок, который впервые стал ощутимым с публикацией „Ады“» (Cherry К. Nabokov's Kingdom by the Sea // Sewanee Review. 1975. Fall. P. 715). «С выходом мастодонтоподобной „Ады“, — утверждал критик, — сконструированный Набоковым мир становился все более закрученным, все более зависящим от того, что уже было показано прежде, все меньше рассчитанным на живой отклик» (Ibid. P. 714). Схожую позицию занял Джин Белл. Начав свою рецензию «за здравие» и отметив «сильные стороны» «Арлекинов» — «Буквально каждое предложение выписано восхитительно: в конце концов Набоков — великий виртуоз-импровизатор художественного слова, Ференц Лист английской прозы. Не устаешь восхищаться тем, как он описывает своих персонажей. Его взгляд на флору и фауну остается неизменно острым и живым; быть может, уж слишком роскошны бывают у него пейзажи, этакая цветистость ради показа мастерства», — рецензент довольно быстро переключился на другую тональность, задав жару и Набокову, и его университетским клевретам: «„Смотри на арлекинов!“ — книга, лишенная подлинного интереса. Она может захватить при одном-единственном условии, если читатель приобщен к особому культу. Непосвященных туда не допускают, а периодические припадки самовосхваления превосходят шедевры рекламных изданий „Успех“ и самого Нормана Мейлера. Это корпоративный роман в самом чистом виде, подчиненный священным интересам одной личности, ну разве еще интересам его нескольких академических прихлебателей — этой послушной ватаге сателлитов, что, превознося новый роман, тут же мчатся выуживать и смаковать все гостиничные аллюзии, славянские каламбуры с поговорками и скрытое издевательство за старые обиды. Но хуже всего то, что, кроме Ричарда Пурье, не нашлось рецензента, способного проанализировать серьезнейшие изъяны романа, а пуще всего огорчает то, что наши ученые интеллектуалы встречают бурными аплодисментами такой скабрезный хлам, как эти мерзкие книжонки „Ада“ и „Смотри на арлекинов!“ — воплощение старческого брюзжания, убогости, пустоты и скуки» (Bell G.H. // Commonweal. 1976. February 13. P. 119–120). Самым яростным набоковофобом выказал себя Питер Акройд <см.>, написавший язвительную рецензию, которую можно было бы свести к сакраментальной формуле «А был ли мальчик?». Акройд предпринял яростный штурм на писательскую репутацию Набокова, стремясь выставить его «чистой воды краснобаем», поднаторевшим на саморекламе и беспощадно эксплуатирующим не им найденные художественные приемы. Таким образом, под конец своей писательской карьеры Набоков неожиданно сам для себя оказался в роли пресловутого «гипсового куба» (см. набоковское послесловие «О книге, озаглавленной „Лолита“»), перед которым — к ужасу верных почитателей и трудолюбивых диссертантов — вдруг выросла целая орава «смельчаков» с молотками и кувалдами. И хуже всего было то, что у своих недоброжелателей Набоков уже вызывал не озлобление, суеверный ужас или отчаянное желание «запретить» (как это было после выхода «Лолиты»), а пренебрежение и насмешки. Набоков перестал быть дразнящей загадкой: столь старательно сконструированный имидж сыграл с ним злую шутку, заслонив от читателей слишком многое, чем было богато его многогранное творчество. Анатоль Бруайар{211} Стриптиз с закавыкой Кто еще, кроме Владимира Набокова, мог придумать несуществующего писателя с единственной целью невыгодного для него сравнения с самим Владимиром Набоковым? Вадим Вадимович, герой «Смотри на арлекинов!» — русский писатель из эмигрантов, чья карьера «до странности» повторяет судьбу своего создателя. Существенное различие только в качестве произведений того и другого. Хотя Вадим — знаменитый писатель, его неотступно преследует «ощущение, какое испытываешь во сне, будто моя жизнь — это жизнь неведомого близнеца, пародия, ухудшенное издание чужого бытия… кажется, будто дьявол понуждает меня изображать ту, другую личность, того, другого писателя, который был и будет несравненно более великим, более удачливым и жестким, чем ваш покорный слуга…»[244] Весь белый свет понимает, что Вадим — это тот самый Набоков, тот самый «другой», несказанный, до кого не дотянуться даже во сне. Объяснить роман «Смотри на арлекинов!» снисходительно означало бы сказать, что автор подшучивает над собой; однако, по крайней мере на мой взгляд, вся тональность книги, все-все, ранее написанное и сказанное г-ном Набоковым, никак не подтверждает подобный вывод. Куда более правдоподобным представляется его желание соблаговолить и снизойти до милой шутки над нашей близорукостью. Вот, мол, ваш хваленый Набоков в трех измерениях; он как бы говорит: теперь я дам вам подсказку, пару-тройку намеков, покажу вам фокус-покус с маленьким стриптизом Набокова, какого больше нигде вам не увидеть. Он выше нашего пониманияГ-н Набоков любит поучать рецензентов своих книг; на этот раз он пошел дальше и провел ревизию всей критической мысли относительно своего творчества. Он не просто славный выдумщик, умняга и стилист, каким его считают почитатели, он «несравненно более великий». Он так велик, что выше нашего понимания. У Вадима есть одно свойство: он не может, идя по улице, повернуться кругом и проделать путь обратно, например, сходить на угол за табаком и вернуться домой. В его ощущениях это происходит иначе: он поворачивает вокруг себя улицу на 180 градусов. Эгоцентризма более острой формы невозможно представить, а поскольку мы приглашены напрячь наше воображение, мне интересно, как этот топографический заскок отражается на альтер-эго Вадима, на самом г-не Набокове. Другой план романа представляет собой безжалостную и детальную ревизию творческой эволюции автора. «Собственно, ценность настоящих воспоминаний, — пишет Вадим-повествователь, — по преимуществу определяется тем, что они являют аннотированный каталог корней, истоков и занимательных родовых каналов многих образов из моих русских, и особенно английских, произведений». И за сим «дивным» предисловием идут страница за страницей описания того, как Вадим готовит чистый экземпляр рукописи для машинистки, каталог с комментарием ее опечаток, ряд невыразительных, никак не связанных с сюжетной линией длиннот о том, что там-то и там-то, тогда-то и тогда-то писал такую-то и такую-то книгу, рассказ, стихотворение. Четыре раза на протяжении романа Вадим женится, но всех четырех жен, вместе взятых, не хватает, чтобы напитать один-единственный достоверный образ. Все, чем они заняты, — это избегать даже видимости нормальной мотивации и человеческого общения, а их сексуальная жизнь описывается просто с болезненной стеснительностью. Парадокс для Набокова с его репутацией мастера эротики на почве неудовлетворенной мужской страсти к несозревшей девочке. Надо сказать, наш автор, который в своих интервью называл посредственными, заурядными и годными лишь для юного читателя, среди прочих, таких писателей, как Манн, Лоуренс, Фолкнер, Конрад и Флобер[245], сам пользуется у критиков исключительно милостивым обращением. Его особенно хвалят за стилистическую «легкость руки», что толковый словарь определяет как «такая ловкая манера исполнения, что само исполнение остается незаметным». Должен сказать, что в современной литературе трудно найти другое исполнение, которое было бы столь «заметным», как в этом романе г-на Набокова. На каждой странице натыкаешься на аллитерации; ради них автор готов поступиться всем, словно старомодный стихоплет, которому смысл не важен, была бы рифма. Банановый сплит{212}В одном интервью г-н Набоков заявил, что «естественного словаря» ему мало. То, чем он дополняет недостаток, это кондитерские сладости, вроде мороженого с вареньем и бананового сплита со взбитыми сливками, но никто не осмеливается сказать ему это в лицо. «Особые эротические приемчики моей сладкой, податливой, нежной Айрис, разные оттенки ее любви, изобретательность в ласке, легкость, с какой она приспосабливала свое тело к любому излиянию страсти, кажется, диктовалось богатым опытом»[246]. Эта смесь штампов и жеманства типична для книги. Простой автобусный билет под увеличительным стеклом авторской чувствительности выглядит «отвратительно маленьким, тонким и липким…». В порыве маниакального самомнения Вадим придумывает «английский язык, за который буду отвечать я один», и мне кажется, что эту ответственность действительно надо возложить на него и/или г-на Набокова. Как обычно, автор тут еще играет в свои словарные игры полиглота, что, на мой взгляд, просто вежливый реверанс в адрес добросовестного читателя. Кончается «Смотри на арлекинов!» суровым торжеством справедливости. Вадим сражен доведенным до солипсизма индивидуальным ощущением пространства. При попытке самому повернуть назад там, где он поворачивал вокруг себя всю улицу, его расшиб паралич. Надеюсь, г-н Набоков не обидится, если воспользуемся его метафорой с зеркалом: мне кажется, его «легкая рука» снова оскользнулась и оставляет автора в очень неловком положении. Проще говоря, книга поражает как результат больного воображения, парализованного тщеславием. Anatole Broyard. Snag in a Strip Tease// The New York Times. 1914. October10. P. 45 (Перевод В. Симакова). Ричард Пурье{213} Набоков как свой собственный полугерой После Джойса с его портретом Стивена, после «воспоминаний» Марселя у Пруста сложная и путаная игра между Набоковым и главным героем его «Смотри на арлекинов!», тридцать седьмой по счету книги, мало чем удивляет, зато сильно разочаровывает. Рассказ ведется от лица Вадима Вадимовича, русского писателя-эмигранта, зеркального отражения, так сказать, дублера Набокова как писателя и как человека; но, в отличие от Пруста и Джойса, вариант самого себя Набоков применил вовсе не для проверки подлинности собственной самобытности. Вымышленное «я» не противопоставляется ни реальному, ни авторскому «я». Набоков со своими писаниями нависает над страницами книги и служит, так сказать, исходной точкой для оценки Вадима. Если взять стиль романа, то в комедийной эротике, в динамике действия и в портретных набросках второстепенных фигур он просто великолепен, а вот в другом, куда более важном, далеко не так хорош. В книге Набокова нет того драматического напряжения, того исследовательского азарта, который мы находим у Джойса и Пруста, а в наши дни очень часто еще и у Мейлера; того азарта, который является результатом их удивительно жизненных, болезненных, прямо-таки пугающих взаимоотношений со своими двойниками. Вадиму не позволено сделать того, что было бы странным для Набокова, испробовать то, что Набоков уже не испробовал. Хорошо известно, что Набоков верит в мощь слова, способного творить реальность, он даже может позволить своему творению самому заняться тем же. Здесь же он блеснул таким чудовищным высокомерием, что не пожелал уступить чисто вымышленному претенденту даже крошки собственного «я» — величайшего прозаика нашего времени. Интересно решать в книге ребусы и головоломки, когда они пародируют хорошо известное, и совсем иное дело (хотя и тут тщеславие разгадки не лишает книги интереса), когда нужно знать в деталях все творчество Набокова и окольности его писательской карьеры. Однако в обоих случаях в конце всей этой экзегезы здесь не найти отзвуков личной драмы, что так волнует читателя у Пруста и Джойса и что так мощно прозвучало в «Лолите» и в «Бледном огне» <…> Порой любезное приглашение автора к упражнению ума скрывает назойливый дидактизм. Набоков предусмотрел все мыслимые заблуждения в соотношении выдумки и реальности. Тем самым он назидательно указывает: если вымысел — не Реальность, тогда вне вымысла нет никакой так называемой реальности. Реальность, как он любит часто повторять, всегда нужно брать в кавычки. Таким образом, масштаб вымышленного литературного предприятия Набокова, выражаясь очень и очень осторожно, не имеет границ, и хозяйничать в нем Набоков предпочитает только сам. За последние лет десять появилась масса маленьких Набоковых, они готовы выступить с итоговыми книжками такого рода, что позволяет щегольнуть мастерством и представить это своим «изобретением». Вообще-то говоря, и тут мы имеем дело с тем же. Но упражнения в экзегезе, которые нам предлагается совершить здесь, и усилия, какие мы прилагаем, читая Мелвилла, Джойса или Пинчона, вещи совершенно разные, к путать их не следует. У тех писателей тоже много всякого рода загадок, но внимание читателя привлекает не сам текст как таковой и не моменты биографии авторов (это здесь принципиально), а сама жизнь и контекст современного мира со всеми его треволнениями, в атмосфере которых они живут и пишут. Такой подход мне кажется более интересным и важным, нежели то, о чем пишет Набоков, которого величают, и делают это порой совершенно заслуженно, величайшим из ныне живущих писателей. Набоков находится на периферии великих американских литературных традиций, заложенных Готорном и Мелвиллом, даже — всей литературы XX столетия после Джойса, считаясь самым глубокочтимым мастером, несмотря на весь свой пугающий солипсизм. Набоков стоит выше власти общественных и литературных установлений, с помощью которых люди все еще придумывают самих себя, и заимствований оттуда в его творчестве немного. В своем барственном презрении ко всей остальной литературе, за исключением ничтожного числа шедевров (держим в уме его пресловутое осуждение Фрейда), Набоков наконец-то высказал в новом романе предположение, что сам он — производное художественного вымысла, и не просто продукт, а его полное и целостное воплощение. Отдавая должное таланту, проявленному в «Лолите» и «Бледном огне», было бы интересно задаться вопросом: подобает ли так восхищаться Джойсом писателю, который столь едко спародировал и раскритиковал Уолтера Пейтера{214}. Того самого Пейтера, которого если не по уму и энергии, то по характеру, как мне представляется, можно считать прямым предтечей Набокова, написавшего эту книгу. Richard Poirier. Nabokov as His Own Half-Hero // NYTBR. 1974. October 13, P. 2, 4 (Перевод В. Симакова). Питер Акройд{215} Soi-disant[247] Г-н Набоков несомненно считает себя если не великим, то очень хорошим писателем; льстивая американская критика стала его превозносить, небольшая часть среднего класса Америки — читать, и он пришел к обманчивому заключению, что главное в набоковских произведениях — сам Набоков. Это обычная практика всех писателей средней руки, и в своем романе «Смотри на арлекинов!» Набоков, не дожидаясь суда пока еще не написанной истории современной культуры, написал историю собственной литературы. Этот роман — завершение всех набоковских романов, во всяком случае будем на это надеяться. «Повествователем» в книге выступает Вадим, писатель с претензиями из эмигрантской среды: в своей кокетливо-изящной манере Набоков приводит на форзаце перечень «других книг» того же автора; эта пародийная солидность намекает на то, что перед нами метароман в процессе создания. Вадим начинает свое вымышленное жизнеописание с пасхального триместра в Кембридже «за ланчем у Пита»; это университетский клуб, к которому серьезно относятся только эмигранты, — а это уже намек на то, что на подходе очередной блистательный перл Набокова: «Айвор Блэк заметил, что гоголевскому Городничему следовало бы носить пеньюар, потому что „вся история — просто кошмарный сон старого негодяя, и русское название „Ревизор“ происходит от французского reve, сон. Не так ли?“ Я ответил, что это кошмарная идея». Идея действительно кошмарная, но это не мешает Набокову носиться с ней с упорством охотника за бабочками. Когда Набоков упоминает какого-нибудь писателя, то он, конечно, говорит о себе самом, а тот — лишь рекламная заставка, должная намекнуть на скорый выход юбилейного сборника статей, посвященного деятельности выдающегося литератора. Герой романа принадлежит все той же школе «как бы» и очень похож на других набоковских персонажей, которых он наваливает на себя, чтобы было теплее: Вадим, русский по происхождению, попадает в Париж, потом в американский университет, пишет для эмигрантских журналов, и всегда и везде его занимает только собственная персона, страстного интереса к которой я, например, разделить не могу. Он не любит звук тикающих часов и запах, исходящий от других людей, иначе говоря — всех и вся, что может помешать лицезреть собственное совершенство. Посему женится он с катастрофическими для себя последствиями, в результате остается один с дочерью, которая, понятно, тоже его оставляет. Но все это лишь чисто внешние обстоятельства злоключений Вадима, ибо его главный недуг происходит от особого вида невроза, не позволяющего ему правильно совместить свое физическое тело с отвлеченными категориями пространства. В итоге с ним случается апоплексический удар, а роман заканчивается утверждением, что дело скорее всего в путанице со временем, а не с категориями пространства. Остроумный способ отстраниться от собственных мемуаров, но, увы, не слишком убедительный. Между тем Вадим становится известным и уважаемым прозаиком, но как это ему удается, честолюбивым писателям не узнать. То, что говорится о его замечательных книгах, ничего, кроме стереотипного самолюбования, не содержит; но так, наверное, и создаются репутации — уж кому, как не Набокову, это знать. Итак, как обычно, мы имеем дело с мистерией о сказочном путешествии по просторам набоковского величия, и этот рейд в собственные глубины осуществлен в «Смотри на арлекинов!» с таким рвением, что автора на этот раз заносит туда, куда еще не ступала нога человека. По пути Набоков рассыпает аллюзии и полунамеки на свои ранние романы; масса типажей и ситуаций упоминается явно с одной-единственной целью: создать у читателя иллюзии deja lus[248]. Всему этому может быть два объяснения: либо Набокова продолжают восхищать собственные произведения и ему ужасно хочется разгадать причину этого и найти всему объяснение; либо, что кажется более вероятным, его талант совсем атрофирован, и ему теперь не остается иного, как только перелицовывать ранее сделанное, чтобы выжать хоть какое-то подобие аромата из давным-давно загербаризированного цветка. Представляя «Смотри на арлекинов!» как роман новый и не похожий на все другие, автор обязан сделать два самонадеянных допущения: во-первых, читатель досконально знает обширную набоковскую литературу и способен на лету улавливать смысл рассыпаемых намеков. Допускать такое, разумеется, нет никаких оснований. И во-вторых, Набоков достаточно велик и знаменит, чтобы позволить роскошь полюбоваться собой. Или поставим вопрос прямо: так ли его романы хороши, чтобы их помнили? Отнюдь. Просто Набоков все более раздувает кампанию самовосхваления, потому что, если отбросить всю его риторику, которой он внушил американским критикам такую горячую любовь, в его книгах нет и не было ничего выдающегося. Дело в том, что Набоков не писатель-творец, а чистой воды краснобай. Он освоил все механические приемы сочинения романов, придумал в этом деле кое-что сам, но суть от него все время ускользает. Он не в состоянии создать литературную сущность и вынужден повторять темы и фабулы ранних сочинений, являющихся плодом не творческого воображения, но пустой фантазии. Вот как это выражает двоюродная бабушка героя, баронесса Бредова: «Деревья — арлекины, и слова тоже арлекины». Что хорошо для баронессы, совсем не годится для прозаика. Проза Набокова — это самолюбование без попытки самоосознания, и ее приятная сладенькая фактура — верный признак того, что «здесь что-то не так». Об одном писателе-эмигранте Набоков обмолвился, что у него «неплохая проза и заемные стихи», и это именно то, что отличает слабую и производную прозу Набокова. Когда роман изо всех сил стремится стать литературой с большой буквы, он становится литературщиной. Слова Набокова полые, чисто внешние, и складывает он их в слишком плоский текст. Что же остается в итоге? Надутый господин, занятый рукоблудием, а это занятие, как известно, оглупляет. Peter Acroid. Soi-disant // Spectator. 1975. № 1660 (April 19). P. 476 (перевод В. Симакова). Мартин Эмис{216} Вне стиля Вообще говоря, Набоков пишет романы трех видов: сатиру («Бледный огонь», «Под знаком незаконнорожденных», «Приглашение на казнь»), которая у него получается настоящим шедевром карикатуры; произведения, выдержанные в духе черного юмора («Отчаяние», «Лолита», «Смех во тьме») с воспеванием смертоубийства, безумия и порочной любви; жизнеописания («Пнин», «Ада», «Истинная жизнь Себастьяна Найта») — этакое вольное воссоздание жизни отдельных людей. Новый роман — подлинное жизнеописание (он так и называется: «автобиография» Вадима Вадимовича) и вместе с тем это одна из набоковских антологий, ревизия сюжетов и тем, присущих творчеству Набокова, тетрадь с вырезками его высказываний и мотивов. Набоков всегда Набоков — догмат неопровержимый, однако «Смотри на арлекинов!», надо признать, просто жалкое и печальное исключение среди набоковских книг. Внимательно наблюдаемая жизнь, утверждает Набоков в своем комментарии к «Евгению Онегину», порой открывает почти готовый художественный образ. Что касается судьбы Вадима, она подана в книге похожей на жизнь многих и многих, т. е. ничего особенно художественного в ней нет. Проходя по местам обитания Набокова (дореволюционная Россия, Кембридж двадцатых годов, эмигрантский Париж, академическая Америка), жизнеописание Вадима свободно протянулось между «тремя-четырьмя следовавшими одна за другой женитьбами»… Если «Ада» (1969) показывает Володю в стадии личинки, а «Просвечивающие предметы» (1972) являют чеканный образ старого Набокова, то «Смотри на арлекинов!» представляется попыткой обозреть зрелые годы писателя. И что характерно, Набоков как бы излагает свою биографию и в то же время задает читателю серию шарад и головоломок: жизнь и книги свои он насквозь запсевдонимил (шурина Вадима зовут Макнаб, его «Красный цилиндр» — это набоковское «Приглашение на казнь»). Так что нам придется здорово потрудиться над разгадкой всех таких намеков и при этом, разумеется, помнить изящное напутствие Набокова в «Память, говори»: «Я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой». Таким образом, на нашу долю выпадает двойное удовольствие: любоваться тем, как Набоков ублажает себя, и в придачу выслушивать его насмешки — мол, какие же мы олухи, если занимаемся этим. Ну и ладно. Мы и так не ищем у Набокова утешения и читаем его не ради глотка «человеческих интересов», высмеянных им с глубоким знанием дела в «Твердых суждениях». Листать его книги нас побуждает одна-единственная причина: безукоризненно выстроенные предложения. Роман «Смотри на арлекинов!» по большей части написан скверно, и вот этот-то его недостаток действительно огорчителен. Мы рассчитывали увидеть новый литературный кульбит или шпагат, а вместо этого столкнулись с грубовато-пошловатыми каламбурами, бесцеремонным амикошонством («нечто общее с катанием монет, метафорой капитализма, не так ли, Марксик, мой дорогой») и псевдогеоргианством{217}, которое он сам же так едко высмеивал в книге «Память, говори». Во всем томе в 250 страниц мне попались четыре пассажа, действительно запоминающиеся и прекрасные; в раннем Набокове было трудно найти столько же, чтобы они совершенно не запоминались. Такой провал автора, которого мы привыкли считать величайшим стилистом нашего времени, вызывает особую досаду. Здесь под «стилем» я подразумеваю не просто легкую игру пера; в конце концов, лучше, чем думаешь, — не напишешь. В современной литературе нет даже бледного подобия Набокова по разнообразию, силе и яркости восприятия мира. Читать и перечитывать прежнего Набокова — означало получать комбинированный заряд интеллектуальной, мыслительной и эстетической стимуляции, что равнозначно высшей стадии чисто чувственного наслаждения, какое дарит нам чтение хорошей прозы.{218} Набоковский дар изображения в известной мере ослаблялся его неумением создавать характеры. А роман «Смотри на арлекинов!» преподал нам урок, который следует хорошо усвоить: неодушевленная проза — ничто. Martin Amis. Out of Style // New Statesman. 1975. Vol. 89. № 2301 (April 25). P. 555–556 (перевод В. Симакова). ЛЕКЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
За годы своей преподавательской деятельности в различных американских университетах — в Стэнфорде, Уэлсли и Корнелле — Набоков подготовил обширный курс лекций по русской и европейской литературе. Об издании своих лекций он подумывал уже в начале пятидесятых годов. В письме Паскалю Ковичи (12 ноября 1951) среди своих ближайших литературных планов писатель упомянул о готовящейся к изданию литературоведческой книге, которая «должна будет состоять из 10 глав: 1. Сервантес „Дон Кихот“; 2. Джейн Остен „Мэнсфилд-парк“; 3. Пушкин „Пиковая дама“; 4. Диккенс „Холодный дом“; 5. Гоголь и Пруст; 6. Флобер „Госпожа Бовари“; 7. Толстой „Анна Каренина“, „Смерть Ивана Ильича“, „Хаджи Мурат“; 8. Чехов „В овраге“, „Дама с собачкой“ и другие рассказы; 9. Кафка „Превращение“; 10. Искусство перевода»[249]. В силу ряда причин запланированное издание так и не состоялось. Позже Набоков неоднократно возвращался к этому замыслу и на протяжении шестидесятых годов периодически заявлял в интервью о том, что готовит к печати лекции своего корнеллского курса «Шедевры мировой литературы». В дальнейшем Набоков несколько охладел к лекциям. В апреле 1972 г. он внимательно перечитал все лекционные материалы, нашел их совершенно непригодными для печати и оставил в своих бумагах категорическую записку: «Мои университетские лекции (Толстой, Кафка, Флобер, Сервантес и проч.) слишком сыры и хаотичны и никогда не должны быть опубликованы. Ни одна из них!»[250] Правда, уже в январе 1973 г. писатель вновь подумывает об издании «определенной части своих университетских лекций», о чем сообщает в письме одному из руководителей издательства «Макгроу-Хилл»[251]. И все же лекциям не суждено было увидеть свет при жизни писателя. Они были подготовлены к печати благодаря стараниям американского литературоведа Фредсона Бауэрса, проделавшего титаническую работу по сведению разрозненных, порой трудночитаемых набоковских записей в единое целое. Результатом текстологических изысканий Бауэрса явились два тома «Лекций», вышедших один за другим в 1980 и 1981 гг. (В 1983 г. под редакцией Бауэрса были изданы набоковские «Лекции о „Дон Кихоте“».) В англоязычной прессе (особенно в университетских журналах) выход набоковских «Лекций» был встречен с энтузиазмом. К тому времени писатель уже прошел посмертную канонизацию и считался не только одним из самых выдающихся англоязычных авторов второй половины XX в., но и бесспорным классиком мировой литературы, так что интерес к его творческому наследию был огромен. Авторы большинства рецензий, как это и следовало ожидать, ограничились общим пересказом и, как выразился бы Георгий Адамович, «заметками восклицательного характера», громогласно объявив, что набоковские «Лекции» «по праву занимают место в одном ряду с письмами Флобера, предисловиями Генри Джеймса и дневниками Вирджинии Вулф» (Dirda M. Nabokov at the Lectern // Washington Post. 1980. October 19. P. 10). Многие критики, привыкшие проецировать на Набокова авторский образ «Комментариев к „Евгению Онегину“» и «Твердых суждений», были приятно удивлены: эгоцентричный и самовлюбленный автор, обычно агрессивно утверждавший свое писательское «я» на обломках чужих репутаций, проявил себя в качестве самоотверженного ученого и добросовестного педагога, отдавшего немало сил на изучение творчества писателей, казалось бы, далеких от его эстетических идеалов (Остен, Диккенс, Толстой, Чехов). Некоторых рецензентов особенно умиляло то, что в своих лекциях Набоков проявил так несвойственное ему чувство терпимости и снисхождения по отношению к другим писателям. Один из благодушных рецензентов дошел до того, что усмотрел в «Лекциях по русской литературе» «замечательную терпимость и симпатию, проявленную к писателю, которого Набоков обычно клеймил как „старого Дасти“, наемного писаку и журналиста, притворявшегося романистом» (Stonehill B. // Contemporary Literature. 1983. Vol. 24. № 1 (Spring) P. 111), — к Ф.М. Достоевскому, лекцию о котором Саймон Карлинский <см.> (куда более спокойно отреагировавший на «редкие одобрительные замечания в адрес Достоевского») назвал «настоящей сенсацией», поскольку «неожиданным оказалось глубокое знакомство Набокова с творчеством Достоевского и проницательность его суждений». Энн Фридман <см.>, напротив, не увидела особой проницательности ни в этой, ни в других лекциях о русских классиках. Признавшись в том, что она получила «огромное удовольствие <…> от неиссякаемой игры набоковского ума и блесток <…> словесного мастерства», Фридман высказала немало критических замечаний и по поводу композиции «Лекций по русской литературе», разбухших от утомительных пересказов и пространных цитат, и по поводу узкоформалистического литературоведческого метода В. Набокова. «Демонстративная» манера изложения и стратегический принцип изучения отдельно взятых шедевров европейской литературы не слишком впечатлили и некоторых других рецензентов. И если стойкий набоковианец Роберт Олтер <см.>, указав на «ограниченность такой манеры изложения», все же нашел в «демонстрационном методе» Набокова немало достоинств, то профессор Корнеллского университета Роберт М. Адамс (кстати, при жизни писателя довольно прохладно отзывавшийся о его произведениях[252]) довольно резко заявил: «Некоторые из лекций Набокова представляют собой не более чем развернутый парафраз разбираемых им произведений. И он первый согласился бы, что пересказ произведений литературы, каким бы он ни был искусным, неизбежно должен исказить их» (Adams R.M. Nabokov's Show // NYRB. 1980. December 18. P. 61). В качестве существенного изъяна «Лекций» Адамс и Карлинский отметили почти полное отсутствие ссылок на работы других критиков и литературоведов. Позже, в отзыве на перевод «Лекций по русской литературе» этот мотив подхватила Людмила Оглаева, справедливо заметившая, что в набоковских лекциях «далеко не все наблюдения и выводы о творчестве русских классиков отличаются новизной и оригинальностью (например, мысли о драматургичности романов Достоевского, ставшие общим местом еще в начале века, после статьи Вячеслава Иванова „Достоевский и роман-трагедия“). Практически не используя какую-либо критическую литературу, Набоков невольно начинает играть нелепую роль изобретателя велосипеда» (Оглаева Л. «Страстно хочется развенчать…»: Владимир Набоков о русских классиках // Книжное обозрение. 1996. (№ 31). 6 августа. С. 8). Иным рецензентам показался странным и случайным сам состав анализируемых произведений. В первую очередь это относилось к первому тому «Лекций», куда, наряду с бесспорными шедеврами Флобера, Кафки и Пруста, была включена далеко не самая лучшая вещь Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». «Эксцентричный выбор», сделанный Набоковым, удивил и Дафну Меркин <см.>, и Джона Саймона, автора, пожалуй, наиболее колючей рецензии на первый том набоковских «Лекций»: «Безусловно, наш профессор оказался не способен привести неотразимые доказательства гениальности Стивенсона, несмотря на все планы улиц и чертежи фасадов домов, которые он чертил для студентов. <…> Набоков и сам сознает всю слабость Стивенсона, так что весь этот раздел временами производит впечатление неуклюжей апологии» (Simon J. The novelist at the blackboard // TLS. 1981. April 24. P. 457). Этот же критик, посмаковав языковые ошибки, допущенные Набоковым, высказал немало язвительных замечаний по поводу набоковского педантизма: «Набоков не может процитировать роман, упомянутый в разбираемом произведении, не упомянув (без всякой необходимости) дату его написания; он нарисует серию излишне подробных диаграмм о соотношении в одной личности черт Джекила и Хайда (то есть того, о чем можно было без всяких диаграмм сказать одной фразой), снабдит вас искусно выполненным изображением того вида орхидей, которые Сван дарил Одетте. Так ли уж это необходимо для понимания „В поисках утраченного времени“, точно так же как и схемы улиц Дублина — для понимания „Улисса“»? (Ibid. P. 458). В какой-то степени критик был прав: и педантично вычерченные диаграммы, и планы Дублина, и изображения купе железнодорожного вагона, в котором провела ночь Анна Каренина, — все это (как и набоковские «Лекции» в целом) немного могли дать для понимания классиков европейской литературы. Однако все, даже самые придирчивые рецензенты, прекрасно понимали: «профессор Набоков» — лишь одна из многих личин Набокова-художника, и главная ценность «Лекций» в том, что они «позволяют нам глубже постичь творческое „я“ одного из самых загадочных и удивительных писателей уходящего XX столетия» (Оглаева Л. Цит. соч. С. 8). Роберт Олтер Рец.: Lectures on Literatures. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark, 1980 Владимир Набоков, согласно опубликованным в печати свидетельствам студентов, учившихся у него в 1950-е годы, был замечательным преподавателем: неортодоксальным по своим методам, обладавшим живыми и увлекательными манерами и, что особенно важно, умевшим привлечь внимание к тем взглядам на литературу как искусство, которые он проповедовал на своих занятиях. Поразительный успех Набокова в качестве преподавателя не мог не породить вопроса о том, справедливо ли некоторые критики приписывали ему неизменную самовлюбленную надменность. Лишь немногие серьезные писатели сумели стать хорошими преподавателями (Эдмунд Уилсон, друг Набокова в те годы, служит выразительным примером обратного) по той очевидной и вполне понятной причине, что они слишком погружены в свои собственные писания, чтобы еще уделять достаточно много внимания специфическим интеллектуальным потребностям и недостаткам молодежи. Набоков же, напротив, когда изгнание и нужда неожиданно заставили его подняться на преподавательскую кафедру, смог предложить студентам тщательно подготовленные тексты лекций, которые он читал им, потому что, при всей своей шутливой игривости, он ощущал в себе, если позволительно воспользоваться старомодной фразой, моральную страсть ко всему тому, что он преподавал. В последние годы своей жизни Набоков несколько раз заявлял о том, что он намерен подготовить к публикации свои лекции о современной прозе, читанные им в Корнелле. И вот, когда вышел в свет первый том этого издания (второй, посвященный исключительно русским писателям, будет издан в следующем году), читатель может сам убедиться в правоте Набокова, долго колебавшегося и намеревавшегося переработать свои корнеллские материалы. Они в гораздо большей степени представляют собой университетские лекции, чем критические эссе; в скрупулезном издании Фредсона Бауэрса их сопровождают иллюстрации набоковских диаграмм и схем. Хотя Набоков и проявляет интерес преимущественно к стилю и композиции и иногда высказывает интересные замечания касательно этих формальных аспектов, его манера изложения скорее демонстрационная, чем аналитическая. Он исходил из предположения (без сомнения, подтвержденного слушателями курса «Литература 311–312») о том, что его аудитория состоит из девственно-невинных читателей, впервые пробирающихся или даже продирающихся через изучаемую книгу. Его стратегический принцип при изучении «Мэнсфилд-парка», «Госпожи Бовари» и «Превращения», «Улисса» и других произведений состоит в достаточно подробном пересказе их сюжета с частым цитированием длинных пассажей, сопровождаемых несложным комментарием по поводу того, что прочитанный отрывок «восхитительно изящен». Этот метод, дополненный живым присутствием Набокова и его эффектным стилем устного изложения, производил, как свидетельствует в своем предисловии Джон Апдайк, поистине магнетическое впечатление; но на печатной странице эти обзоры, как бы изящно ни были они написаны, представляют собой не более чем обзоры, а цитаты, увы, всего лишь цитаты. Ограниченность такой манеры изложения, пожалуй, наиболее заметна в лекции о Прусте — писателе, которого Набоков очень любил и которого считал эталоном совершенства в литературном искусстве. Но, за исключением нескольких премилых наблюдений над стилем Пруста и, в частности, над использованием им метафор, лекция о нем представляет собой серию отрывков и выдержек из романа, перемежаемых краткими парафразами лектора при переходе от одного большого массива цитат к другому. Но справедливости ради я должен отметить, что в этих лекциях имеются и весьма ценные наблюдения — ценные даже для подготовленного читателя. Набоков, и это вполне естественно, рассматривает творчество вышеупомянутых прозаиков искушенным взглядом опытного мастера и время от времени бросает проницательный взгляд на то, как построена данная вещь, как писатель подводит нас к конкретной сцене, как он согласует и перемешивает различные коллизии и группы персонажей, вводит тему и искусно вплетает ее в ткань своего художественного произведения. Таково практическое восприятие Набоковым трудностей компоновки сложной структуры художественного произведения, приводящее его к проницательному выявлению того, что он называл темой «многослойности» в «Госпоже Бовари», начиная с гротескно многослойной шляпы молодого Шарля во вводной сцене и слоистого свадебного пирога Эммы, за которыми следует подробное описание нескольких ярусов их дома в Тосте, а в завершение дается описание трехслойного гроба Эммы. Это внимание к гаечно-болтовым аспектам знаменитых романов в сочетании с удивительной проникновенностью и чуткостью иной раз говорит в пользу демонстративного метода, даже если речь идет об инертной печатной странице. Дело в том, что в некоторых случаях иллюстративные выдержки подобраны так умело, а краткие комментарии к ним так удачны, что у читателя возникает свежее и обостренное чувство особого очарования того или иного романа, особенно когда Набоков обращает наше внимание на мастерское описание в «Холодном доме» тумана, поднимающегося, словно занавес, над Темзой, чтобы показать солнечный свет, который пробивается сквозь облака и бросает «светлые блики, казавшиеся серебристыми озерами» посреди темного моря, охваченного суматохой кораблей, снующих туда и сюда. Набоков цитирует параграф с описанием, затем комментирует следующий параграф, чтобы показать наглядность и точность описания, отметить музыкальность только что процитированного отрывка, указать на место этой сцены и экономность художественных средств в романе. Это — замечательный пример такта в критике, передающий, в отличие от более привычных академических анализов, чувство наслаждения, возникающее при чтении. Во всяком случае (что, кстати, и делает «Лекции по литературе» поистине драгоценной книгой, несмотря на длинноты в резюме и цитатах), «Лекции» дают ощутить тот особый динамизм, который присутствует в выдающихся произведениях художественной литературы. Здесь Набоков затрагивает уже не поэтику, а метафизику художественного творчества. Писатель, — настойчиво декларирует он, — это прежде всего чародей. Такая настойчивость обладает известной полемической заостренностью, обращенной острием против приписываемой роману — «эпосу буржуазного общества» — функции бесстрастного воспроизведения реальности, что имело место в большинстве литературоведческих школ вплоть до возникновения французского структурализма. Но если Набоков отвергает взгляд на роман как на чисто репрезентативную структуру, упорно доказывая, что даже бесспорно реалистические произведения временами нарушают законы обыденной реальности или даже создают свои собственные законы, он, как того ожидают многие читатели, не доходит в этом направлении до признания самотождественности литературного текста, что так модно сейчас среди последователей nouvelle critique. По его мнению, между художественным текстом и реальностью существует несомненная связь, но она носит не столько рефлективный или миметический, сколько конститутивный характер. Это — предельно обостренное выражение убежденности Набокова в том, что художник есть чародей — чародей, который благодаря ловкости рук показывает трюки и одновременно дарует вещам бытие, извлекая их из кажущейся пустоты воздуха. Антитетическое представление образцов неудачных писаний способно наглядно показать, что же скрывается за понятиями «художественная литература» и «реальность». Протестуя против дидактики и документальной прозы в небольшом эссе «Искусство литературы и здравый смысл», выполняющем роль заключительной лекции — одной из наиболее совершенных жемчужин книги, — Набоков пишет: «Читая мораль, писатель оказывается в опасной близости к бульварной муре, а сильным романом критики обычно называют шаткое сооружение из трюизмов или песчаный замок на людном пляже, и мало есть картин грустнее, чем крушение его башен и рва, когда воскресные строители ушли и только холодные мелкие волны лижут пустынный песок». Блестящее остроумие, элегантная перекличка аллитерирующих созвучий и ритма для придания сцене большей метафоричности являют собой противоположный пример того, что можно создать из слов, расставленных по своим местам, но я хотел бы обратить внимание, в частности, на то, что стоит за этими образами. Реальность, утверждает Набоков в целом ряде витиеватых сентенций, проникнутых философским субъективизмом, — это то, что каждый из нас возводит во мраке своего сознания. Средний интеллект, будучи ленивым или боязливым, либо и тем и другим одновременно, предпочитает иметь дело с устоявшимися концепциями и готовыми суждениями, разделяемыми большинством, и скрытые следы этой интеллектуальной лени и трусости можно найти всюду в популярнейших образчиках массовой литературы — от дешевой сентиментальной беллетристики и порнографии до ложного идеализма и мещанской пошлости. Изготовители такой литературы не только строят на песке, но и, словно дети, лепят из песка, используя для этого все, что попало под руку; и их произведение, которому недостает надежного цемента воображения, есть не что иное, как мнимый образ, на мгновение возникающий из небытия и вновь возвращающийся в бесформенность. Эти тихие мелкие волны в заключении небольшого набоковского пассажа показывают, каким, на его взгляд, должен быть серьезный писатель. Море — это всегда образ хаоса, а хаос — активная, опасная сущность, отравляющая каждое мгновение жизни непостоянством и отрицанием смысла бытия. Хаос в скрытой форме присутствует во вводной лекции в форме знаменитого набоковского парафраза 1-й главы книги «Бытия»: «Если материя этого мира и реальна (насколько реальность вообще возможна), то она отнюдь не является целостной данностью: это хаос, которому автор говорит: „Будь!“ — и мир начинает вспыхивать и плавиться. Он переменился в самом своем атомном составе, а не просто в поверхностных, видимых частях». Писатель не хватается за фрагменты и случайные частицы, строя крепость из песка, но, напротив, создает свое собственное целое из беспорядочного смешения разрозненных элементов; ибо его задача — не восстановление реальности, а ее создание. Здесь перед нами — сложный парадокс, полностью понять который можно только путем изучения набоковских лекций о конкретных романах, в особенности — о «Холодном доме» (лучшей во многих отношениях лекции). С одной стороны, Набоков настаивает на примате фантазии в процессе создания произведения художественной литературы; с другой стороны, он отнюдь не согласен с тем, что это относится ко всякому вымыслу, что писательская власть создавать миры из слов является абсолютно произвольной. Эффект подлинно великого произведения литературы, подчеркивает он выразительной перестановкой ожидаемых эпитетов, заключается в «Точности поэзии и Восторге науки». Я полагаю, и точность, и восторг в равной степени влияют на стилистику произведения искусства и на те материалы этого мира, из которого оно создано. Таким образом, восторг здесь — это всегда восторг открытия, но понятие открытия относится и к выявлению искусной согласованности частей произведения (вспомним повторяемость многослойных предметов в «Госпоже Бовари»), и к открытию в произведении какого-либо великолепно написанного пассажа, который мы могли пропустить или попросту не заметить своим неискушенным, нелитераторским взглядом (взять хотя бы подернутое облаками солнце, заливающее серебряным блеском поверхность воды в «Холодном доме»). Точно так же поэзия может быть названа точной, ибо она точно передает тончайшие внутренние настроения, минутные состояния, используя оптимальные слова, звуки, ритмы, образы для передачи соответствующих оттенков чувств, зримых предметов, моральных состояний и всего что угодно. И если, по Набокову, может существовать неприемлемая реальность, которую писатель не должен отражать, литература, несмотря на это, постоянно сталкивается с такими реальностями, отражает и кристаллизует их, придавая им достоверность благодаря силе художественной выразительности, которая может быть кратко охарактеризована как архитектоническое единство дерзкой фантазии и скрупулезной наблюдательности. К этой картине набоковской метафизики художественной прозы необходимо добавить еще один элемент, а именно время. Набоков, несомненно, был писателем, уделявшим большое внимание времени, но особую остроту и актуальность этому придал исторический катаклизм, который ему суждено было пережить: целый огромный мир, в котором он родился и вырос, был безвозвратно уничтожен русской революцией в тот момент, когда Набоков едва вступил в самостоятельную жизнь. Все мы пленники времени, настойчиво напоминает Набоков, все мы — его жертвы, пока не найдем способа победить его с помощью искусства. Беспощадное море, пожирающее хрупкие создания, — здесь приходит на память идиллия на пляже Ривьеры в «Память, говори!» и ее парафразы в «Лолите» — может быть и образом tempus edax, времени, пожирающего творения рук человеческих. Таким образом, память становится естественным элементом в процессе художественного творчества, как описывает его Набоков (именно поэтому столь важной фигурой для него является Пруст), но его память очень динамично взаимодействует с подсознательным чувством, с ясным восприятием настоящего и чувством соразмерности, помогающим создать целостную художественную форму. Писатель не просто воскрешает прошлое, а включает его в общую трансцендентальность той страшной реки времени, о которой он говорит в своей лекции: «во внезапной вспышке сходятся не только прошлое, настоящее, но и будущее — ваша книга, то есть воспринимается весь круг времени целиком — иначе говоря, времени больше нет». Интересно, что такие кульминационные моменты творчества вызывают у Набокова не чувство подъема и уподобления богам, а почти мистическое состояние слияния с окружающим миром: «Вы одновременно чувствуете и как вся Вселенная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей вас Вселенной. Тюремные стены вокруг эго вдруг рушатся, и не-эго врывается, чтобы спасти узника, а тот уже пляшет на воле». Учитывая все это, мы можем лучше понять, почему Набоков рассматривал чтение лекций как необходимую возможность продемонстрировать студентам чрезвычайную важность литературы как искусства, почему он связывал искусство не только с ясностью и гармонией, но и с состраданием и — он не боялся этого слова — с добротой. Искусство — это решительный отказ человека отступить перед реальностью хаоса, независимо от того, проявляется ли такой хаос в слепом натиске времени, в тупости массовой культуры или в жестоких режимах тоталитарных государств. Именно такое восприятие искусства, воплощенное в художественной литературе и объясняющее надлежащую моральную серьезность посреди всевозможных уловок и игровых моментов в «Даре», «Приглашении на казнь», «Лолите» и «Бледном огне», делает их достойными встать в один ряд с лучшими образцами романа нашего века. Robert Alter. Lectures on Literature: British, French and German Writers, by Vladimir Nabokov // New Republic. 1980. Vol. 183. № 14 (October 4). P. 32–35 (перевод А. Голова). Дафна Меркин{219} Учась у Набокова В королевстве слова у Владимира Набокова безраздельно царит «затейливость прозы», как называет это Гумберт Гумберт в первых абзацах «Лолиты». Конечно, для некоторых читателей его проза слишком богата, слишком насыщена элегантными прилагательными и лукавыми каламбурами, требующими внимания, граничащего с почтительностью. Для других же, включая и меня, труд, затраченный на чтение затейливой набоковской прозы, вознаграждается с лихвой: ведь читателя приглашают пообщаться с самим маэстро, в присутствии которого мрак изгнания искупается изысканным искусством и блистательными шутками над судьбой русского эмигранта, сумевшего воссоздать самого себя на языке, ставшем для него приемной матерью. Мне кажется, лишь очень немногие читатели способны воспринять ужасную красоту набоковского языка и ощутить насилие над ним, смягчаемое лишь мастерством писателя. Набоков настолько умело скрывает свою ранимость, что она кажется высокомерием, но за неукротимостью его интеллекта — о, это неумолимое чувство превосходства рассказчиков, убежденных, что читатель мыслит и чувствует так же остро, как они сами! — стоит перемещенное лицо, эмигрант. Гумберт Гумберт напоминает нам, что за всеобъемлющую страсть — все равно, к нимфетке или к особому стилю прозы, — приходится дорого платить. «Итак, вот моя повесть, — говорит в заключение потерпевший поражение преследователь „Ло-ли-ты“, многообещающей американской девочки-мечты. — Я еще раз перечел ее. К ней пристали кусочки костного мозга, на ней запеклась кровь, на нее садятся красивые ярко-зеленые мухи». В 1940-е и 1950-е гг. Набоков, недавно перебравшийся в Америку, преподает в Уэлсли и Корнелле. «Лекции по литературе» были составлены из его машинописных и рукописных заметок, изданных Фредсоном Бауэрсом с предисловием Джона Апдайка. Книга прекрасно оформлена, имеет большие поля и включает в себя факсимиле обстоятельных набоковских диаграмм и карт, а также страницы из аннотированных автором экземпляров его новелл. В этих лекциях, как этого и следовало ожидать, немало блестящих мест, но наиболее поразительно в них то, что автор поставил их написание, так сказать, на индустриальную основу. Трудно представить себе, что этот эрудит и веселый жизнелюб стал тщательно транскрибировать лирику «Круглоголового», ирландской баллады XVIII в., в своем преподавательском экземпляре «Улисса» только затем, чтобы процитировать несколько строк из нее на лекции, если бы на каждой странице не было заметно огромное удовольствие, которое доставляет ему это занятие. Набоков общается со студентами с нарочитым чувством собственного достоинства и не скупясь на эффектные фразы и проявление страсти, а то и сомнительные шутки, порождение ума, обожающего игры и розыгрыши: «Если прочесть слово „эмбарго“ задом наперед, — сообщает он студентам в начале своей лекции о романе „Мэнсфилд-парк“ Джейн Остен, — получится „грабь меня“». Книга включает в себя набоковские лекции о Джейн Остен, Диккенсе, Флобере, Роберте Льюисе Стивенсоне, Прусте, Кафке и Джойсе, два тематических эссе («О хороших читателях и хороших писателях», «Искусство литературы и здравый смысл»), а также краткую заключительную лекцию, озаглавленную «L'Envoi». Набоков явно пристрастен в своих взглядах, рассматривая искусство как свободное творчество, а не рабское подражание действительности, и он повторяет эти взгляды так часто, что они приобретают аксиоматический вес: «Литература — это выдумка». <…> Он так же со вкусом повествует о своей оригинальной и курьезной теории физиологии читателя: «Читая „Холодный дом“, следует лишь расслабиться и довериться собственному позвоночнику — хотя чтение и головной процесс, но точка художественного наслаждения расположена между лопатками». <…> Как и подобает писателю, любимым увлечением которого была ловля бабочек, Набокова гораздо больше интересует изображение деталей, из которых состоит картина, чем сама картина. Он редко пользуется тем, что сам называет «социологической стороной». Романы — это волшебные сказки, чистые и простые, и оценивать их следует с точки зрения воображения и стиля — ну хотя бы насколько достоверно изображена бородавка на крючковатом носу ведьмы, — а не с точки зрения правдоподобия: «Самобытный автор всегда создает мир… Для талантливого автора такая вещь, как реальная жизнь, не существует — он творит ее сам и обживает ее». В этом смысле Набоков — литературный абсолютист, которому наиболее близки такие романисты, как Флобер, Пруст и Джойс. Я не уверена, например, что Набоков знал, как ему быть с миниатюристами типа Остен, хотя он изо всех сил пытался подобрать ключи к ней. Он восхищается ее манерой — «пассажами с ямочкой на щеке — с иронической, нежной ямочкой на бледной девичьей щеке автора», но покровительственно именует «Мэнсфидд-парк» «коллекцией изящных безделушек, сберегаемых в хлопковой вате». Быть может, он старался сохранять вежливость, говоря о писательницах-женщинах; в любом случае его длинное, напоминающее лабиринт эссе о Джейн Остен — наименее удачная вещь во всей книге, и очень жаль, что именно она ее открывает. Совсем иное дело — Диккенс. Свою лекцию о «Холодном доме» Набоков начинает приступом безграничного энтузиазма: «Мы готовы теперь приняться за Диккенса. Мы готовы теперь воспринять Диккенса. Мы готовы наслаждаться Диккенсом». И надо признать, что в этом во многих отношениях самом трогательном и непредсказуемом эссе в книге он именно этим и занимается. Перед чтением этого эссе я не могла и подумать, что Диккенс, с его неистовствующим и жестикулирующим пером, способен привлечь внимание придирчивого и разборчивого Набокова. Кроме того, я была удивлена совершенно разными симпатиями этих двух людей, что обычно принято рассматривать как проявление «гуманности» писателя. То, что Диккенс обладал поистине большим сердцем, никогда не ставилось под сомнение, несмотря на случайные прегрешения и отдельные темные пятна. Набокова же некоторые критики подозревали в том, что у него вообще нет сердца. Конечно, было бы ошибочным отрицать те многообразные черты жестокости, что пронизывают его произведения, — кстати, те самые черты, что придают его романам уникальное, блестящее и отточенное совершенство, — но я не думаю, что он был начисто лишен органов чувств. Но чтобы найти их, вам надо заслужить его уважение. Если вы просто достойны сожаления, Набоков не будет сострадать вам; но если вы жалки и лукавы, как Гумберт Гумберт или Джон Шейд из «Бледного огня», он будет петь для вас. Диккенс, бесспорно, создавал персонажей, особенно детей, вызывавших творческую симпатию Набокова. И действительно, Набоков со всем жаром красноречия защищает Диккенса от упреков в сентиментальности. <…> Эссе о «Госпоже Бовари» сверкает всевозможными комплиментами; кажется, будто один совершенный мастер снимает шляпу перед другим. Набоков разражается гневными тирадами по поводу неправильно переведенных фраз в райнхэртском издании 1948 г., воспринимая погрешности по отношению к Флоберу как личное оскорбление. Он вновь и вновь предостерегает своих студентов от фатальной ошибки, заключающейся в вопросе, «правда ли то, что написано в романе или стихотворении… Девушки Эммы Бовари никогда не было; книга „Госпожа Бовари“ пребудет вовеки». Особое внимание Набокова привлекает наслоение образности у Флобера (он даже открывает «лошадиную тему» в новелле, которая была бы очаровательной, если бы не была нарочитой). Набоков приводит цитату из писем Флобера о мучительных поисках композиции: «Я пять дней просидел над одной страницей… Очень волнует меня, что в книге моей мало занимательного. Недостает действия, а я придерживаюсь того мнения, что идеи и являются действием. Правда, ими труднее заинтересовать, я знаю, но тут уж виноват стиль…» Когда Набоков комментирует такие места, мы с вами присутствуем уже не на лекции, а при беседе двух писателей-мастеров, передающих секреты своего мастерства через века. Я не вполне уверена, что «Доктор Джекил и мистер Хайд» Роберта Льюиса Стивенсона достойны быть включенными в эту благородную компанию, но мне кажется, что Набокова покорила его дружелюбная, окутанная туманом атмосфера — черта британского образа жизни, о котором он так много слышал в детстве. Как бы там ни было, это достаточно эксцентричный выбор, хотя он и высвечивает проявляющуюся как бы мельком, обращенную к земле сторону натуры Набокова. Впрочем, эссе о Прусте, Кафке и Джойсе поистине превосходны. Пожалуй, в этом отношении наиболее близок Набокову Пруст, чей изысканный плюмаж волнует его так, как не могут волновать ни головоломки Джойса, ни мертвенный холод Кафки. Рядом с Прустом он вырос не столь беззащитным, более восприимчивым, и эстетический восторг преодолевает его нарочитую отрешенность ученого. Быть может, это объясняется тем, что Набокова сближает с Прустом, как ни с каким другим художником слова, сильнейшая ностальгия по утраченной истории и столь же сильное стремление возродить прошлое с помощью своего литературного дара. В эссе об «Улиссе» Набоков сообщает нам, что Стивен «одинок не потому, что рассорился с верованиями своей семьи… но потому, что он был создан автором как потенциальный гений, а гений по необходимости одинок». Это наблюдение, на мой взгляд, — горькое восприятие Набоковым своего собственного положения. Ибо, если быть гением — значит в известном смысле пребывать в ссылке, то гений-изгнанник Набоков одинок вдвойне. Эссе, собранные в книге, обнаруживающие его любовь к прихотливому укрытию от трагического давления жизни, показывают, с какой жадностью одинокий дух Владимира Набокова искал «прибежища в искусстве». Daphne Merkin. Learning from Nabokov // New Leader. 1980. Vol. 63. № 19. (October 20). P. 13–14 (перевод А. Голова). Чарльз Стэнли Росс Рец.: Lectures on Literatures. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich / Broccoli Clark, 1980 Если время для Вана Вина являло собой текучий материал для выращивания метафор, то для университетского лектора Владимира Набокова эту же роль выполняли искусство и наука. В «Твердых суждениях» мы читаем о «страсти в науке и терпении в поэзии», тогда как на с. 5 «Лекций по литературе» мы видим, что роли поменялись, превратившись в «страстность художника и терпение ученого.» На других страницах изящную поэзию сменяют терпеливое или страстное искусство, соседствующие с «научной интуицией», «восторгом науки» или «волнением чистой науки». Светловолосый бородатый студент, проглатывающий набоковские высказывания столь же жадно, как Гумберт в воображении пожирал глазами Лолиту, может высказать возмущение, услышав о различии между наукой и чистой наукой, но в другом месте Набоков уточняет, что под наукой он имеет в виду естественные науки. И действительно, в заключение «Лекций» он обрушивается на математику, которая для него является совершенно другой наукой, чем энтомология, ибо она в принципе символична и способна претерпевать метаморфозы от объективного к субъективному. Мое мнение об этом бурном фрагменте заключается в том, что чрезвычайно трудно проникнуть в значение большей части написанного Набоковым, так как его язык куда более метафоричен и даже риторичен, чем то, что готовы воспринять студенты. «Я не говорю по-немецки, у меня нет друзей среди немцев, и вообще я не прочел ни одного немецкого романа», — писал он в предисловии к «Королю, даме, валету». «Я не знаю немецкого», — заявлял он в начале «Отчаяния», хотя Джон Апдайк в предисловии к «Лекциям по литературе», преодолевая риторику, дает понять, что Набоков всю жизнь читал по-немецки, хотя владел им и не в совершенстве. Более того, мы узнаем, в пятидесятых годах Набоков знал немецкий достаточно хорошо, чтобы иметь право написать о «Превращении» Кафки: «На немецком, то есть на языке оригинала, в волшебной череде фраз всюду чувствуется чудесный текучий ритм». Эта книга содержит немало любопытных сведений и фактов, проливающих свет на набоковские высказывания. Она состоит из лекций, посвященных семи крупнейшим произведениям, чаще всего — писателей XIX в.: «Мэнсфилд-парк», «Холодный дом», «Госпожа Бовари», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «В сторону Свана», «Превращение» и «Улисс». Набоков обожал насыщенные резюме, обширные цитаты и краткие пояснения к важнейшим терминам. Последнее особенно важно, с тех пор как в ранних интервью появились различные, обычно неполные их версии. Такое впечатление, что большинство набоковских интервью, к которым он, как известно, готовился заранее, состоят из фрагментов этих и других лекций, перемешанных и кое-как, на скорую руку, склеенных друг с другом. Чем больше мы знаем вариантов, тем меньше остается перед нами загадок, как показывают различные версии «страсти» и «меткости». Символы — любимая мозоль Набокова, но определение того, что он имеет в виду под ними, никогда не бывает легким. В этих лекциях мы обнаруживаем, что он различает «художественные символы» и «дурацкие символы»; одни из них связаны с творчеством, а другие проистекают из него. Мне посчастливилось подобрать это определение для пояснения набоковских взглядов на это непростое слово, и я благодарен за него всем, кто принимал участие в публикации этих лекций, особенно редактору, сумевшему составить любопытную для чтения книгу из пестрой смеси автографов и авторской машинописи, дошедших до нас на различных этапах вычитки и завершенности. Так как в книге нет указателя, может быть полезным перечислить некоторые другие критические термины Набокова, которые более или менее ясно представлены в этой книге. В их числе — темы; структура; реминисценции; специфическая «ямочка на щеке» («когда между прямыми информативными членами предложения незаметно вводится элемент тонкой иронии»); эпиграмматическая интонация; ход конем; <…> фильтрующий посредник и «перри» («возможно, производное от перископа»), служащие некими представителями автора в тексте; стиль (важнейшими чертами которого в «Холодном доме» Диккенса признаются: «яркое воплощение», «обрывочный перечень изобразительных деталей», сравнения и метафоры, повторы, риторические вопросы и ответы, апострофическая манера Карлейля, эпитеты, говорящие имена, аллитерации и ассонансы, прием «и-и-и», игра слов, косвенная передача речи и «юмористическое, мудреное, иносказательное, прихотливое толкование»); реализм и натурализм; контрапункт; <…> синхронизация; клише и поток сознания. На мой взгляд, лишь немногие из этих терминов в правильном их понимании проникали в «великое братство троечников», посещавшее набоковские лекции. Термин «символ» появлялся на этих лекциях так часто, порой даже без всяких ограничительных дефиниций, которые я упоминал, что невольно напрашивается желание видеть в нелюбви Джона Шейда к этому термину результат фрустрации, вызванной набоковскими экзаменационными материалами. Корнелл разделял иллюзии Лиги плюща о том, что курсы литературы и искусства можно слушать и в больших лекционных залах, где классная дискуссия вообще не практикуется. Эта система помогает профессорам писать свои книги, но ее результатом является то, что студентам приходится вместо материалов сдавать итоговый экзамен, который выдерживают лишь немногие зубрилы или талантливые писатели и на котором проваливаются многие потенциальные ученики. Пробные экзаменационные вопросы в конце книги снабжены ключами с указанием номера страниц, ибо Набоков вовсе не шутил, когда говорил, что ожидает лишь оттока студентов. Но эта система функционирует в Корнелле, и не случайно книга так хорошо читается, являясь, пожалуй, куда более точным путеводителем по семи анализируемым произведениям, чем устные лекции, хотя различные источники и свидетельствуют, что Набоков был вдохновенным лектором. Он читал свой текст очень тщательно, следил за надлежащим уровнем эрудиции в своем классе и менял принципы анализа в соответствии с особенностями каждой разбираемой книги. Обычно очень трудно изложить в одной-двух фразах содержание книги, но Набоков делает это просто блестяще. «Улисс», например, — книга о безнадежном прошлом, смешном и трагичном настоящем и патетическом будущем. «Превращение» Кафки показывает, как близки друг другу фантазия и реальность: семейство Грегора не обращает внимания на жука в спальне точно так же, как одна пара из реального сообщения в газете не замечала мертвое тело у себя в ванне. Во всех этих комментариях затрагивается одна нравственная тема, которую я надеялся найти и которая сразу же попалась мне на глаза, когда я впервые открыл книгу. Книга открылась на странице, где дана фоторепродукция двух страниц набоковского издания «Холодного дома» с указанием характерных черт романа. На каждой из них Набоков написал свою оценку их по моральной шкале: от злых до добрых и очень добрых. Некоторые места заслужили такие оценки, как «ноль», «фальшь» или «плохо». Этот анализ очень важен, ибо его необходимо применять всякому при чтении романов самого Набокова. Гумберт, к примеру, плохой, но так как в «Лолите» все гораздо хуже его, то он кажется хорошим, хотя это не более чем иллюзия. Эти две страницы из «Холодного дома» и множество других примеров в лекциях четко определяют высокие этические стандарты Набокова, его моральную ответственность (даже перед лицом того, что он называл «иррациональной верой в человеческую доброту») и его настойчивые попутные советы читателям держаться в стороне от зла и уродств, существующих в этом мире. Charles Stanley Ross // Modern Fiction Studies. 1981-82. Vol. 27. № 4. P. 737–739 (перевод А. Голова). Энн Фридман Читая вместе с Набоковым Перед нами книга, полная причудливых суждений и радостных открытий, которую мы никак не предполагали получить в ее нынешнем виде. Фредсон Бауэрс, который в сотрудничестве с женой и сыном Владимира Набокова выпустил первый том набоковских лекций по литературе, любовно выбрал из заметок великого мастера его своеобразные отзывы о Тургеневе, Достоевском, Толстом, Чехове и Горьком, размышления о пошлости, искусстве перевода и хороших читателях. (Сюда входит и раздел о Гоголе, взятый из книги 1944 г. «Николай Гоголь».) Заключительные страницы читаются с упоением: авторская зоркость и вспышки остроумия воскресают на глазах. Студенты, слушавшие эти лекции в Уэлслейском и Корнеллском университетах в 1940-е и 1950-е гг., могут разделить свою радость с читателями, чей восторг перед его романами помог Набокову исчезнуть с американской сцены и покинуть пределы страны. Огромное удовольствие в этих лекциях получаешь от неиссякаемой игры набоковского ума и блесток — его любимое слово применительно к другим писателям — словесного мастерства: творчество Толстого «отличает хищная сила», чеховская Муза «всегда одета в будничное платье», «русская проза удивительно ладно уместилась в круглой амфоре прошлого столетия, а на нынешнее остался лишь кувшинчик для снятых сливок». В причудливой манере, напоминающей стиль Андрея Синявского (тоже написавшего книгу о Пушкине и Гоголе), Набоков говорит о писателях так, что они начинают напоминать героев из его романов: «Когда Тургенев принимается говорить о пейзаже, видно, как он озабочен отглаженностью брючных складок своей фразы; закинув ногу на ногу, он украдкой поглядывает на цвет носков». Отрывки, которые он восхищенно цитирует — иные из них чрезвычайно пространны, — сияют набоковским блеском, поскольку он или переделал, или улучшил переводы. Живость языка окажет неоценимую услугу тем, кто не знает русского. Равно как и авторские замечания к оригинальному тексту. Авторитет Набокова-профессора связан с его личностью. Он пускает в ход личные воспоминания и делает краткие экскурсы в историю — например, говоря о толстовском изображении высшего общества, добавляет, что до революции к этому обществу принадлежала и его семья. В лекции об «Анне Карениной», занимающей центральное место в книге, он и сам почти входит в этот роман. Настаивая на том, что Стива Облонский — что-то вроде конферансье в романе, Набоков тем не менее берет на себя роль рассказчика: обращает внимание студентов на отдельные места, знакомит их с железнодорожными вагонами первого класса, с часовщиками, раз в неделю заводящими часы, с сортами устриц, цветами в дамских прическах и предпочитает бальные платья из бархата. Заметки и комментарии не равноценны (схема железнодорожного вагона, признаюсь, меня нисколько не увлекла) — но все они помогают представить мир, совершенно не похожий на наш. Поэтому «Лекции» — ценный вклад в диалог культур. (Разумеется, Набоков чувствовал себя свободно и в той культуре, на чей язык он переводил, — слово mouseman, которым он назвал героя «Записок из подполья», предназначено для американцев.) Набокову пригодились и семейные воспоминания, приближающие к нам русских писателей: один из его предков был начальником Петропавловской крепости, когда там сидел Достоевский; Набоков знал писателя, женившегося на возлюбленной Достоевского, и однажды вместе с отцом повстречал на улице Толстого. Такими рассказами Набоков отучал студентов от подобострастного преклонения и подчеркивал, что писатели — такие же смертные, только способные создавать бессмертную прозу. Поэтому он свободно острил, а порой даже бывал груб и несправедлив. Достоевского он попросту игнорирует: «Я равнодушен как к музыке, так, увы, и к Достоевскому-пророку». Набоков не скрывает своего желания «развенчать» Достоевского. Горький, по его мнению, вообще ниже всякой критики: «Бедняга учился, совершенствовал свой стиль». Зато биографии этих писателей — лучшие в книге. Набоков невольно акцентирует свое авторское «я» — не тем, что отклоняется от темы, а самим тоном и небрежными поучениями о том, что следует ценить в литературе и какое место занимает в ней он. Его критерий («я смотрю на литературу… как на явление мирового искусства и проявление личного таланта») чаще всего задан: «как вы знаете, я не выношу вульгарного „интереса к человеку“… и ни один биограф даже краем глаза не посмеет заглянуть в мою личную жизнь». И его студенты всегда должны помнить, что его истинное призвание — художественная литература. Опытным глазом профессионала Набоков подмечает промахи своих предшественников, начиная от неумелых тургеневских описаний базаровской коллекции жуков и кончая забытой пепельницей, которой Смердяков убил отца в «Братьях Карамазовых». Точно так же он с большим искусством подмечает «прелестные художественные мазки», которые он так любил: воспалившийся Феничкин глаз в «Отцах и детях» или миг, когда Гуров видит собачку его возлюбленной и от волнения не может вспомнить ее имя. Призывая студентов судить о литературе с точки зрения стиля, Набоков привносит дух состязания в свои лекции. Он обращает особое внимание на то, как в «Анне Карениной» пары опережают друг друга, а Левин и Китти создают идеальную семью; он наслаждается, выбирая, кто талантливее в «Чайке»: Треплев или Тригорин, Нина или Аркадина. На самом деле это виртуозное прочтение русской литературы, исключительно чуткое к взлетам восприятия и писательского мастерства. О Гоголе Набоков говорит: «До появления Гоголя и Пушкина русская литература была подслеповатой. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета». Тургенев — «первый русский писатель, заметивший игру ломаного солнечного света». «Чехов первым из писателей отвел подтексту важную роль в передаче конкретного смысла». Толстовское изобретение внутреннего монолога в сцене перед самоубийством Анны предвещает джойсовский поток сознания. И в той же лекции есть прекрасный отрывок о том, какую важную роль играет сцена родов из «Анны Карениной» в истории мировой литературы. Есть тут и оборотная сторона, образно говоря, — свой злодей в маске, и авторским восторгам противостоит неудовольствие. Набоков не только прославляет своих героев; он стремится очернить их противников, которых выставляет в наших глазах туповатыми глашатаями «идейного содержания». Это два непримиримых стана. Есть в лекциях и другое противопоставление: все читатели делятся на плохих и хороших. Набоков начинает поощрять хороших и срамить плохих уже во вступительной лекции, где описывает борьбу между власть имущими и общественной утилитарной критикой. Оба лагеря мешали свободному проявлению гения, и Набоков призывает студентов избегать обоих путей — искать не больших идей, но особого видения; не сведений о России в романе, но «особый мир и индивидуальный гений». Высочайшая похвала хорошему читателю — эпитет «восхитительный», вслед за которым идет «искушенный», «творческий», «художественно мыслящий» и, наконец, просто «читатель». Самый мягкий эпитет для плохого читателя — «неискушенный», за ним следует более резкий — «общественно настроенный» и, наконец, «рядовой» — тот, который читает книгу ради сюжета, а не ради «тона и оттенков» или «поэтической интонации». Отсюда всего один шаг до плохих критиков, «которые разглагольствуют о книге, вместо того чтобы раскрыть ее душу». Возможно своей пренебрежительностью он хотел внушить студентам благоговейный страх перед высоким искусством и отучить их от «простоты» в литературе. Впрочем, этот метод мог пригодиться и ему самому. Осмеивая плохого читателя, он метил в каждого критика, который мог недооценить его искусство. Намеренно или нет, он так реагировал на литературный климат Америки начала 1940-х гг. Лекции создавались, когда Набоков еще только входил в американскую литературу — задолго до того, как он получил признание. Поэтому, когда он акцентирует свое преподавательское «я», это не кажется неестественным — скорее trompe l'oeil и trompe l'oreille[253]. Набоков говорил тоном мэтра, уверенного в своем литературном величии, мэтра, которым он хотел быть, но еще не был. Приехав в Америку в 1940 г. как писатель-эмигрант и аристократ, он открыто критиковал Советский Союз, бывший в ту пору нашим союзником. Кроме того, он мог чувствовать, что всеобщее увлечение литературой больших идей (которую читают за ее социально-политическое или психологическое содержание и которая разительно отличается от его собственных произведений) угрожает его будущей славе. Отвечая на письмо Эдмунда Уилсона, похвалившего «Условия человеческого существования» А. Мальро, Набоков писал в 1946 г.: «Чем дольше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в том, что единственно важное в литературе (более или менее иррациональное) — шаманство книги, т. е. писатель должен быть прежде всего волшебником». (Мальро им не был.) Вот эстетический нерв лекций. «Искусство — это божественная игра, — поучает он. — …необходимо иметь в виду, что идеи в литературе не так важны, как образы и магия стиля». Хороший переводчик должен уметь воспроизвести «манеру речи и поведения» автора. Набоков не только не скрывает своих симпатий и антипатий, но и требует строгого подчинения его критериям, и лекционный зал становится его маленьким царством, слегка напоминающим Ясную Поляну. Набоков великолепен в пристальных разборах отдельных произведений, где он хочет проследить особое мерцание волшебства. В главе об «Анне Карениной» он делает поразительные открытия, разбирая отдельные образы, начиная со стеклянных столов и поющих женщин из сна Стивы Облонского. (Набоков прекрасно толкует толстовские сны.) Но когда он переходит к эволюции характера, его тон меняется. Например, Анна понимает, что «ее греховная жизнь сделала с ее душой». Далее Набоков предлагает студентам не обращать внимания на мысли Левина, которыми кончается книга. Важна не сама мысль, а скорее ее контуры; «в конце книги… он переживает внутренний переворот, обретает благодать» (чудесная фраза, которую можно было бы отнести к Дмитрию Карамазову после его сна о ребенке{220}, если бы Набоков не был несокрушимо уверен в том, что герои Достоевского не меняются). Левинские размышления и нерешенные вопросы звучат на протяжении всей книги, несмотря на суровое осуждение Набокова. Говоря о «Записках из подполья», Набоков трижды повторяет, что в 1-й части книги важны не идеи, а манера их изложения. Тем не менее идеи персонажа накладывают отпечаток на его действия, страхи, желания. Хотя Набоков ничего об этом не говорит, связь идей с действием и нравственными оценками соединяет две части «Записок». Мучительные раздумья о свободе, которым предается «подпольный житель», по мысли Набокова, не свойственны таким героям, несмотря на то, что в самом начале он объявляет, что «настоящие книги пишутся свободными людьми для свободных читателей». (Интересно, что дуализм добра и зла, столь занимавший Достоевского, не раздражал Набокова в повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», которую он расхваливает в первом томе лекций по зарубежной литературе. Стивенсон обожал Достоевского и скорее всего немало позаимствовал у него; по части мелодрамы, однако, Набоков признает за Стивенсоном хороший вкус, а за Достоевским «дурной вкус».) Социальные взаимоотношения и внутренняя динамика характера мало волновали Набокова, и потому его анализ некоторых произведений кажется чересчур упрощенным. Смутное прозрение Нины в конце «Чайки» опущено. Прорыв в понимании и любви, первой настоящей любви Гурова в «Даме с собачкой», сведен до плоского пересказа. Почти все разборы прекрасно выбранных коротких рассказов разочаровывают. Он называет «Шинель» «величайшим русским коротким рассказом», «Даму с собачкой» — величайшим рассказом в мире, а «Смерть Ивана Ильича» — «самым ярким, самым совершенным и самым сложным произведением Толстого». К сожалению, ни набоковские определения, ни его блестящие штрихи не объясняют, почему это так. Структура лекций — похвалы, длинные цитаты, отсутствие комментария — тоже утомляет. Приведя последние страницы «Отцов и детей», Набоков роняет единственное замечание: «Судьба все же вершит свой суд, но по-прежнему под присмотром Тургенева». Возможно, это сознательный прием, словно он хочет сказать: «Послушайте этот текст и полюбите его». А быть может, он пытается подражать авторской манере, и главный смысл скрыт в подтексте. Как бы то ни было, набоковская похвала не может воздать должное накопленному опыту мировой литературы. Он помогает восстановить поистине решающее значение высокого литературного мастерства, все блистательное, что было в русской литературе. Но из лекций невозможно понять, что же делает русскую литературу XIX в. сопоставимой с греческой трагедией и эпосом. Набокову интересен лишь очарованный читатель и внутренний мир художника и его искусства. Он не выносит драмы совести и нравственного суда, делающих литературу столь могучей, а подчас и гибельной. Набоков, наследник великой русской литературы, не видит необходимости говорить о ее нравственных основах. Он понимает истинное искусство и умеет творить его — однако, превратив эстетику в предмет лекционной полемики, он оказывает своим студентам плохую услугу. Его критический аппарат усваивается с трудом, и студенты не могут имитировать его великолепный вкус с помощью его формул. Кроме того, он развивает у них недолжное (быть может, схожее с сентиментальностью) презрение к той литературе, с которой он считал своим долгом бороться. Anne Frydman. Reading With Nabokov // The New Leader. 1981. Vol 64. № 23 (December 14). P. 25–27 (перевод А. Курта). Саймон Карлинский Лекции Набокова по русской литературе На факультетах славистики и университетских кампусах Америки одно время бытовала занимательная история: когда главный департамент высшего образования Восточного побережья решил предложить Владимиру Набокову должность профессора и обсуждалась его кандидатура, известный ученый русского происхождения{221} заметил, что пригласить великого русского писателя прочесть лекции по русской литературе — все равно что пригласить слона прочесть курс лекций о слонах. Что за странное замечание и пример! Известных художников, поэтов и композиторов нередко приглашают читать лекции за прошлые заслуги. Что же касается слонов, то общительный, красноречивый слон, если бы таковой нашелся, определенно мог бы прочесть курс по изучению его вида. Именно таким — общительным и красноречивым — был Набоков-критик, художественный переводчик и, наконец, исследователь литературы. Младший современник Пастернака, Мандельштама и Цветаевой, Набоков не избежал влияния символизма и постсимволизма — предреволюционных литературных течений, которые сформировали этих трех крупных поэтов. Как и они, Набоков не признавал утилитарной и идеологической критики, господствовавшей в русской культуре в конце XIX века, и высоко чтил литературное мастерство и филигранную словесную ткань художественного произведения. Однако его неприязнь к неоклассицизму XVII и XVIII вв. и многим русским предшественникам Пушкина скорее сближают его с утилитарной критикой XIX в., чем с русским модернизмом начала XX в. В английской и русской автобиографиях Набоков рассказывает, как зачитывался русскими книгами в обстановке нерусского Кембриджа, опасаясь забыть или засорить культурное наследие, соединившее его с родиной, которую он уже не надеялся увидеть. Насколько русская литература пропитала его кембриджские годы, видно из рассказа об увлечении футболом (он был прирожденным вратарем): в русской автобиографии (в отличие от английской) этот рассказ украшен ссылками на Чехова, Тургенева и Пушкина. Довольно рано Набоков начинает скрещивать свою прозу и поэзию с литературоведческими штудиями. Три стихотворных пьесы 1923–1924 гг. и комедия «Событие» (1938) — великолепные стилизации, в которых ощущается влияние русских писателей 19 в. А «Дар» (1938) — не только роман, но и сжатая история литературы XIX в. В американский период вершиной этого жанра стали «Бледный огонь» и «Ада», где литературоведческие изыскания и широкая эрудиция автора участвуют в развитии сюжета. Подобно тому как повествование в «Бледном огне» приняло форму комментариев к длинной поэме, изощренный и ни на что не похожий прозаический четырехтомный перевод «Евгения Онегина» стал поводом для изучения пушкинского языка и стиля. Недавно опубликованные лекции по русской литературе были подготовлены и прочитаны Набоковым в Уэлслейском колледже и Корнеллском университете. В те годы (1941–1958) он написал «Под знаком незаконнорожденных», «Лолиту», «Пнина», переводил и изучал литературу. Его никогда не занимал процесс развития литературы во времени. Набоков — критик и исследователь литературы не придавал большого значения литературным школам и влияниям. В лекциях число ссылок на дополнительные источники ничтожно, а выбор этих источников кажется случайным: например, Набоков мельком упоминает анархиста Кропоткина и его книгу «Идеалы и действительность в русской литературе» — собрание клише и общих мест XIX в. — или, излагая биографию Горького, щедро цитирует пропагандистскую книгу для детей Александра Роскина «На берегах Волги». Прежде всего Набокова интересовали неповторимые особенности автора и книги. В обзорном курсе он приводит ровно столько исторических сведений об эпохе, сколько необходимо для того, чтобы студенты сосредоточились на конкретном литературном шедевре. Как я уже говорил, набоковский взгляд на литературу сложился примерно в ту четверть века, когда русская культура временно освободилась от утилитарной критики, которая господствовала во второй половине XIX в. и, по словам известного русского марксиста Г. Плеханова, видела свою задачу в том, чтобы «перевести художественное произведение с языка искусства на язык общественных наук». Традиция предписывала не обращать внимание на литературный язык, пренебрегать самобытностью и блеском, презирать форму и вообще все, кроме «политической корректности». Чехов восстал против этого в 1890-е годы — он говорил, что «романист-художник должен проходить мимо всего, что имеет временное значение». Взгляды Чехова, казавшиеся в конце XIX в. еретическими и вызывающими, были приняты большинством русских писателей в начале нашего века. В лекции «Русские писатели, цензура и читатели» Набоков красноречиво доказывает, что диктат утилитаризма в литературе, усилившийся в советское время, сочетал в себе худшие черты царской цензуры с требованиями радикальной критики XIX в. Изучая биографию Николая Чернышевского (одного из теоретиков радикально-утилитарного надзора над литературой), ставшую 4-й главой «Дара», Набоков окончательно убедился, что единственный способ постичь художественное произведение — это «отложить социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя». В интервью, автобиографиях и письмах Эдмунду Уилсону Набоков говорит много интересного о русских писателях XX в., которых он ценил, — о Бунине, Блоке, Андрее Белом и некоторых других. Но в его лекциях, за исключением короткого раздела о Максиме Горьком (пересказ книги Роскина), представлены четыре крупнейших автора XIX в.: Тургенев, Толстой, Достоевский и Чехов (лекция о Гоголе — отрывок из книги Набокова «Николай Гоголь», 1944). Тургенева, по мнению Набокова, нельзя ставить в один ряд с Гоголем, Толстым или Чеховым. «Он не великий писатель, хотя и очень милый». Набоков находил ошибки в знаменитых тургеневских пейзажах и считал его романы неудачными из-за недостатка действия и заданности эпилогов, где методично подводится итог судьбам героев. Вместе с тем Набоков восхищался «густой, как масло, размеренной прозой» Тургенева, его томными фразами, которые он сравнивал с «ящерицей, нежащейся на теплой, залитой солнцем стене», а в «Даре» — с грациозными прыжками зайца. С помощью длинных цитат и схемы, фиксирующей все передвижения героев, Набоков раскрывает студентам механизм своего любимого тургеневского романа «Отцы и дети» и делится своими взглядами на его структуру. Лев Толстой для Набокова — несомненно, крупнейший прозаик. Я даже помню, как он говорил, что «Анна Каренина» — величайший из всех романов, ни больше ни меньше. «Войну и мир» он тоже любил, но ставил несколько ниже «Анны Карениной» — в своем первом большом романе Толстой еще не научился вплетать социологические и исторические экскурсы в канву повествования и нередко прерывал его ход вставными философскими главами. Набоков не случайно так подробно разбирает свой любимый роман. Раздел о Толстом — это, вероятно, не только материалы для занятий со студентами, но и наброски к неосуществленному комментированному изданию «Анны Карениной». Как и бесчисленные читатели «Анны Карениной», Набоков был очарован толстовским даром передавать самую суть жизни героев. Блестящий стилист, Набоков сумел разгадать тайну толстовского волшебства, раскрыть его секрет: Толстой обращается с временем так, что читатель ощущает реальность повествования. Иллюзия подлинного движения времени достигается несмотря на присутствие в романе двух несогласованных между собою линий. Одна линия — история Китти и Левина — лишь изредка совпадает с другой, основной линией романа. Опираясь на различные исторические события, упоминаемые в книге, Набоков тщательно выстраивает хронологию «Анны Карениной» и снабжает разнообразные вымышленные события историческими датами (то же самое он сделал, разбирая «Евгения Онегина»). Помогая студентам ощутить толстовское мастерство и совершенство структуры его романа, указав на один дефект (попытка Вронского покончить с собой нелепа и психологически и структурно), Набоков всячески избегает упоминаний о том, что «Анна Каренина» — сложное общественно-политическое произведение. Точно так же, разбирая «Смерть Ивана Ильича», он обходит молчанием исторический фон и тему рассказа, хотя при этом и отдает должное его непреходящей общественной сатире. Дело не в том, что он не знал об этих сторонах толстовских произведений, но акцент, сделанный на них, противоречил бы всему методу преподавания. Лекция о Достоевском стала настоящей сенсацией. Неожиданной оказалась не набоковская неприязнь к писателю, которая и раньше озадачивала его собеседников и читателей. Нелюбовь к творчеству Достоевского воспринималась на Западе как необъяснимое заблуждение, которое разделяли и более знаменитые предшественники Набокова. Скажем, Толстой писал, что не мог «побороть отвращения к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам» в «Братьях Карамазовых». Чехова утомляли романы Достоевского, они казались ему затянутыми и претенциозными. Марина Цветаева считала Достоевского совсем необязательным. Если Набоков называл лучшей книгой Достоевского «Двойник» — раннее произведение, написанное под сильным влиянием Гоголя, — то Цветаева делала исключение для его ранней повести «Белые ночи»: «Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем». Отношение Набокова к жизни, искусству и политике неизбежно вызывало у него отталкивание от всего, что отстаивал Достоевский. Неожиданным оказалось глубокое знакомство Набокова с творчеством Достоевского и проницательность его суждений. Живое набоковское прочтение «Идиота», обсуждение несоответствия между фарсовыми названиями глав в «Братьях Карамазовых» и подлинным содержанием этих глав, настойчивая уверенность в театральных истоках романной техники Достоевского (Достоевский как потенциальный драматург, скрытый за романистом) могут быть оценены исследователями Достоевского, которые, возможно, во всем остальном не согласятся с Набоковым. Особенно очаровательны редкие одобрительные замечания, как бы неохотно он их ни ронял: «Братья Карамазовы» — лихо закрученный уголовный роман, но действие разворачивается медленно; сюжет «Идиота» построен искусно, интрига разворачивается с помощью многочисленных искусных приемов. Правда, иные из них больше смахивают на удары дубинкой вместо легкого касания перстами художника. А кульминационная комическая сцена у г-жи Ставрогиной в «Бесах» — это «невероятный вздор, но вздор грандиозный, со вспышками гениальных озарений, освещающих весь этот мрачный и безумный фарс!». Набоков признавал, что «Записки из подполья» (название, которое он переводит как «Memoirs from Under the Floor» вместо неправильного «Notes From Underground») — важнейшая книга Достоевского, квинтэссенция его «тем, шаблонов и интонаций». Поскольку он решил ограничиться «исследованием стиля», его обычный методологический и структурный подход к литературе оказался недостаточным. Как указывал Д.С. Мирский, «Записки из подполья» «нельзя считать простым и чистым художественным вымыслом», «они занимают особое место среди великих мистических откровений человечества», — измерение, которое Набоков решительно отвергал. В этой книге Достоевский обрушился на позитивизм и рационализм XIX в., которыми пропитан чудовищный, но влиятельный роман Чернышевского «Что делать?». Сам Набоков разделался с романом и целым кругом идей, с ним связанных, в 4-й главе «Дара», где нарисовал портрет Чернышевского. На первый и поверхностный взгляд автор «Записок из подполья» и Набоков могли бы стать товарищами по оружию, но коренная разница между ними во всем остальном, делает этот парадоксальный союз немыслимым. Однако их общая нелюбовь к роману Чернышевского и проблески симпатии, иной раз различимые в лекции о Достоевском, указывают на все еще не решенную загадку и необъяснимое сходство некоторых набоковских романов с романами Достоевского: пародийная вариация на тему «Преступления и наказания» в «Отчаянье»; сходство рассказчика в «Соглядатае» и героя «Записок из подполья» и трактовка педофилии как тягчайшего, преднамеренного преступления в нескольких романах Достоевского или как злосчастной и невольной сексуальной склонности в «Лолите» (что более правдоподобно). Набоков недолюбливал Достоевского и чтил Толстого, но писатель, которого он по-настоящему любил, — это Антон Чехов. Его любовь к Чехову («именно его книги я бы взял с собой на другую планету», — писал он в незабываемых «Юбилейных заметках») поражает лишь тех, кто недостаточно глубоко проник в истоки художественного видения этих писателей. Помимо общих политических взглядов Набокова роднит с Чеховым свойственное им обоим отвращение к литературным условностям и всевозможным шаблонам, художественный метод, коренящийся в биологических науках, и постоянная привычка наблюдать и фиксировать реальность. Политические убеждения Набокова, высказанные в интервью 1964 г. журналу «Плейбой»: «Свобода слова, свобода мысли, свобода искусства», в главном совпадают с убеждениями Чехова, изложенными в письме 1888 г. к Алексею Плещееву, которое часто цитируют. Эти свободы могут показаться банальными и самоочевидными в современных западных демократиях, но сколько русских писателей от Пушкина до Солженицына (не говоря уже о советских) предпочитали их всему остальному? В биографическом очерке о Чехове Набоков мог ошибаться в отдельных деталях, но его бережный разбор двух величайших чеховских рассказов «Дама с собачкой» и «В овраге» свидетельствует о том, что он глубоко понимал и высоко ценил писателя, которого однажды назвал своим предшественником. В проницательном эссе о Набокове «Эстетика блаженства»{222} американский писатель Эдмунд Уайт указывал, что путь Набокова к американскому читателю был трудным, поскольку «американцы редко чувствуют себя уютно в обществе высокой литературы. Им хочется, чтобы литература поднимала настроение и будоражила. На их вкус книга должна быть термометром, измеряющим температуру Zeitgeist[254], или, по крайней мере, отчетом с передовой об осажденном это». Последний наследник целой плеяды великих писателей Набоков рассказывал об их наследии молодым американцам и, обучая, как читать литературу, точно указывал, куда завело идейное содержание и насилие над искусством величайшую в мире литературу. Simon Karlinsky. Nabokov's Lectures On Russian Literature // Partisan Review. 1983. № 1. P. 94–100 (перевод А. Курта). 2. Критические этюды, эссе 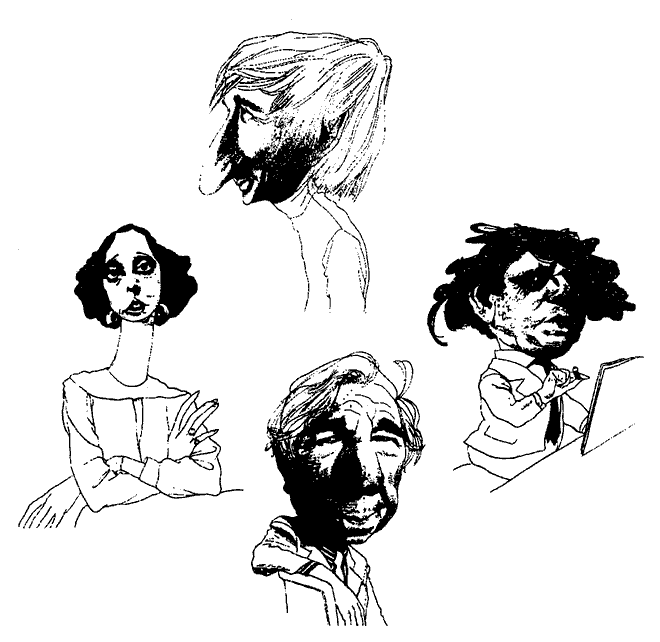 Шаржи Д. Левина на Д. Апдайка, Дж. К Оутс, Э. Берджссса, А. Кейзина Шаржи Д. Левина на Д. Апдайка, Дж. К Оутс, Э. Берджссса, А. Кейзина Юрий Иваск{223} Мир Владимира Набокова Одна моя знакомая — читатель, что называется, от Бога, назовем ее миссис Икс (Ньютон, штат Массачусетс), — сказала о сочинениях Набокова: «Его самовлюбленность беспредельна, но пишет он весьма и весьма увлекательно». Так оно и есть. Набоков пишет играючи — исключительно ради собственного удовольствия! И читателю не остается ничего иного, как вместе в автором получать это удовольствие. Безграничное любопытство — интеллектуальное и художественное — превратило Набокова в эдакого наблюдателя-обжору: он не утруждает себя разглядыванием жизни, он заглатывает ее целиком, до последней крошки. Не уставая восхищаться бескрайним разнообразием нашей удивительной жизни, Набоков воплощает свои впечатления в слова — и возникает совершенно новый мир. Поэтический гений писателя гордо и невозмутимо парит над житейской обыденностью. Он настолько ясно представляет себе этот мир, и его язык столь оригинален, что читателю порой кажется, будто Набоков рассказывает о жителях другой, далекой-далекой планеты, жизнь которых не имеет абсолютно ничего общего с той, которую мы проживаем ежеминутно; мы словно наблюдаем на ними в огромный телескоп. Благодаря искрометному уму автора, созданные им образы резки и отчетливы, но мы чувствуем, что нас разделяют парсеки расстояний. Набоков все время ищет — и находит! — новые сравнения и метафоры, дабы соединить изначально несхожие предметы и впечатления, и они начинают походить друг на друга; возникает несметное братство новорожденных сравнений. В «Других берегах» мы встречаем одно из этих необычных сравнений, с помощью которых Набоков переносится в придуманный им мир: «Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой». В русском издании его мемуаров (которое, к сожалению, не вполне совпадает с английским) Набоков размышляет о «дьявольском времени» и «божественном пространстве». В последнем ему довелось испытать ни с чем не сравнимое блаженство. <…> Религия чужда Набокову, однако он провозглашает существование некоей связи с кем-то или чем-то неведомым; ощущение этой связи возникает у него в состоянии экстаза, в который поэт и ученый впадает, глядя на порхающих бабочек. Кто они, набоковские персонажи? Они — живы (иными словами, тонко очерчены), но нежизнеспособны (в них нет непосредственности, теплоты). Они оторваны от реальности, к которой мы привыкли, и могут существовать лишь на страницах замысловатого повествования Набокова. Русская критика — в отличие от американской и английской — нарекла его героев «безжизненными». Георгий Адамович, все еще наиболее влиятельный критик из числа русских эмигрантов, писал, что это куклы, «безупречно разрисованные и остроумнейшим образом расставленные в какой-то идеальной магазинной витрине». Даже Владислав Ходасевич (1886–1939), известный своим давним противоречивым отношением к Адамовичу, разделял его мнение, говоря, что набоковские романы выигрывают не за счет характеров героев, а благодаря множеству литературных приемов и уловок, которые магическим образом изменяют канву произведений, а сам автор не утруждает себя тем, чтобы придать происходящему хотя бы иллюзию правдоподобия. Его героев можно условно разделить на две категории: зрячие и слепцы. Абсолютной слепотой, по-моему, наделены все женские характеры, включая Лолиту. Если же отвлечься от половых различий, то незрячими Набоков делает всех пошлых и пошловатых личностей, жестоко высмеивая их с помощью веселой, но желчной сатиры. Но что есть пошлость? Набоков размышляет об этом в книге о Гоголе, где ему блестяще удалось объяснить англоязычным читателям русское слово «пошлость». Чванство, суетность и глупость, — и, хочется добавить, слепота, т. е. неспособность видеть мир вечно новым, всегда меняющимся, — вот черты, наиболее точно отличающие пошлых людей. Но в набоковских произведениях присутствуют и зрячие личности. Изумительное и предельно лаконичное описание человека с распахнутыми глазами дано в коротеньком рассказе «Облако, озеро, башня». Может, именно здесь таится ключ к его художественной лаборатории. Русское название звучит дактилем, эквивалент которому можно разглядеть в двух горизонтальных плоскостях (облако, озеро), перерезанных вертикальной (башня): — —|. Герой рассказа сродни чеховскому маленькому человеку. Он эмигрант средних лет, живет в Берлине и неожиданно получает бесплатные билеты на трехдневную экскурсию ins Gruene. В дороге он достает томик великого русского поэта Тютчева, чем вызывает недовольство попутчиков-немцев («Он не такой как мы; его надо проучить!»). Они выбрасывают в окно его огурец («приличные люди это не едят»). Вопреки всему, наш кроткий чудак млеет, созерцая из окна поезда мелькающий мимо мир. Окурок, пятнышко на платформе, расплывшееся от вишневой косточки, — все кажется ему необычайно красивым и гармоничным. Ему интересны играющие дети и то, какие очертания примет их неведомая судьба — скрипки или короны, пропеллера или лиры? И тут возникает чудо — пейзаж в ритме дактиля: облако, озеро, башня. Маленький человек с глазами гения решает остаться здесь навсегда: «Друзья мои! Друзья мои, прощайте!» Но разъяренные немецкие филистеры силком загоняют его обратно в поезд и начинают методично и изощренно избивать. Ослепленные злобой, они буравят ему ладонь штопором. В этом крохотном шедевре предстают как бы в миниатюре все основные темы творчества Набокова: и волшебный ковер-самолет для полетов в мечту, и эксцентрик с всепожирающими глазами, и озлобленные вульгарные слепцы. Не обошлось и без романтического вкрапления, навеянного, видимо, «Taugennichts» Эйхендорфа, гонимого заплесневевшими в своей косности обывателями. Одержимый шахматами Лужин, забавный, обаятельный Пнин, преувеличенно гротескный Цинциннат, приглашенный на казнь, любовник Лолиты Гумберт и другие — все они из породы романтиков-мечтателей, наделенных художественной зрячестью. Их кругозор может быть как необычайно широк (Гумберт), так и весьма и весьма ограничен — например, шахматной доской (Лужин), или печатным текстом (Пнин), или стенами тюрьмы (Цинциннат), — но у каждого из них есть свой собственный мир, в котором они чувствуют себя как рыба в воде. Кто он, любовник Лолиты Гумберт? В новом аду, провозвестниками которого были Данте и Достоевский, в аду XX века, в мире, где погибли и Бог и человек, где нет места раскаянию, ибо понятие греха более не существует, в этом либеральном и цивилизованном аду Гумберт вдруг осознает, что любит нимфетку больше, чем самого себя, как когда-то Данте боготворил Беатриче, а Отелло обожал Дездемону. В финале Гумберт создает собственный кодекс добра и зла. Он, безусловно, злодей и в конце романа сам вынесет себе приговор. Но не это главное. Он поэт-романтик, однажды воскликнувший: «О, Лолита моя, все, что могу теперь, это играть словами!» В этом возгласе сосредоточено набоковское чувство пространства с Лолитой в центре, окруженной тысячами прихотливо выписанных деталей, будь то тропы, фигуры речи или иные художественные приемы. Мы восхищаемся, глядя на гумбертовские колени, «как отражение колен в зыбкой воде», или неверную, ускользающую серебристую гладь воды, или дешевые, но бесценные безделушки, подаренные любовником своей юной inamorata. Во всех этих наблюдениях больше экзистенционального, нежели в самом Гумберте с Лолитой. Набоков наделяет своим видением мира то рассказчика, то других героев, заставляя читателя замирать в восхищенном изумлении. Он великолепен, но принимать его можно гомеопатическими дозами. Набоков исповедует принцип наслаждения жизнью, вернее, теми ее гранями, которые достойны художественного воплощения. Лолита, спору нет, очаровательна, бабочки тоже. Но и Пнин ни в чем им не уступает. <…> Сюжетные линии у Набокова строятся на традиционной основе, но главное для него не сюжет как таковой, а стиль, сотканный из метафор, каламбуров, игры слов, аллитераций. Неленивые студенты находят их буквально пригоршнями. <…> На обоих языках Набоков вслед за Гоголем последовательно доказывает, что магия искусства может из кучи мусора создать великолепную жемчужину. Мелочи — деревянная коробка из-под гвоздей, сера, изюм, мыло, вазочка с засохшими сладостями — подвергаются чудесным превращениям. Гоголь и Набоков делают эти образы предметов выпуклыми и самостоятельными, отсекая все лишнее и выдергивая их из привычного окружения. Мы видим все словно через увеличительное стекло. Неустанные попытки критиков найти в книгах Набокова кафкианские мотивы заранее обречены на неуспех. Доказательство тому — то же «Приглашение на казнь», где трагедийная ситуация преподносится в совершенно ином ключе. Там, где Кафка корчится от боли, Набоков корчит рожи. Его сюрреализм напоминает Льюиса Кэрролла. Эпилог из «Приглашения…», когда Цинциннат понимает, что этот нелепый маскарад с казнью просто невероятен, напоминает ситуацию с Алисой, оказавшейся в карточном королевстве: — Вы ведь всего-навсего колода карт. Кому вы страшны?! Королева воскликнула: — Отрубите ей голову! Отрубите! — Чепуха! — сказала громко и решительно Алиса, и королева замолчала. Словно последовав совету храброй девочки, Цинциннат понимает, что казнь — это какой-то бред, и уходит со страниц романа в мир неведомый, но правдивый. Неистребимая, ненасытная жажда жизни Набокова имеет свои отличительные черты. Только по степени ее остроты писателя можно уподобить таким влюбленным в жизнь фигурам, как Шекспир или Руперт Брук, Толстой или молодой Леонид Леонов. Его жадное до жизни зрение в немалой степени развивалось под влиянием среды, окружения, в котором рос маленький Набоков, хотя жизнь в эмиграции, на чужбине также наложила свой отпечаток на мировосприятие писателя. В семьях русского дворянства, будь то зажиточные фамилии («Другие берега») или помещики победнее («Жизнь Арсеньева» И. Бунина), сызмальства прививались творческий подход к жизни и умение свободно парить в мире фантазии. Набоковы умели получать удовольствие равно как от ловли бабочек или похода за грибами, так и от семейного ужина в саду или светского обеда. Сейчас у людей больше времени для праздности. Количество выходных неимоверно увеличилось. Но как убого, уныло и бездарно они проходят! Выбор развлечений ограничен, для полета фантазии просто нет места: судите сами, кроме телевизора, садоводства, походов по магазинам и катания на автомобиле ничего не осталось. Кажется, еще Адам Смит сказал, что общество процветающих и просвещенных плебеев будущего еще позавидует изысканным развлечениям канувших в прошлое аристократов. Увы, до этого пока не дошло. Набоков рос в сгинувшую эпоху дилетантов-любителей, мягких, интеллигентных русских помещиков. По мнению Набокова, их дети обладали обостренной восприимчивостью и хорошей памятью. «И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла». За исключением Набокова и, может, еще горстки его сверстников, эти вундеркинды со временем превратились в личностей по большей части бесцветных. Набоков стоит особняком от своих предшественников — выходцев из дворянской среды, создававших литературу, в основе которой лежали общечеловеческие ценности. Дореволюционная русская литература была самой отзывчивой, самой ангажированной. Я имею в виду великие произведения патриция Толстого или плебея Достоевского. Большинство их пророчеств были туманны или не сбылись. Но их попытки найти смысл жизни представляют куда больший интерес, нежели сами проповеди. Толстой хотел постичь конечную тайну жизни, проникнуть в тайну бытия: почему юный Петя Ростов должен погибнуть после того как, лежа на повозке и внимая мелодиям летней ночи, он изведал абсолютное счастье? Почему чистые сердцем обречены умирать, не успев вкусить всех прелестей жизни? («Война и мир»). Пушкин, никогда не рвавшийся в благодетели человечества, верноподданно служил идее. Г. Федотов, называя Пушкина певцом противоборствующих реальностей{224} — Империи и Свободы, — равно милых его сердцу, подчеркивал, что именно это противостояние было неисчерпаемым источником его вдохновения. Хотя Пушкина занимали и более конкретные проблемы: например, найти такую литературную идиому, которая бы отражала, с одной стороны, врожденную творческую суть русской натуры, а с другой, — идеи и чаяния, заимствованные у Западной Европы. Толстой, Пушкин и многие другие предшественники Набокова — все они были крайне политизированны; они остро чувствовали свой долг как перед человечеством, так и перед Отчизной. Набоков же, последний русский писатель-дворянин, не ощущает себя ничьим должником и признает лишь обязательства перед Творчеством. Набоков не разделял беспокойства, которое, если верить Хайдеггеру, доказывает, что мы ходим по краю пропасти. Ночные кошмары в «Приглашении…» — лишь часть игры. Бессмертная любовь талантливого искусителя и убийцы (Гумберт в «Лолите») — тоже игра. «Зло есть норма», и, хочется добавить, зло есть игра. Но умение Набокова восхищаться витающими в пространстве предметами и воплощать их на бумаге посредством символов и составляет его гениальность и мастерство. Что побуждает писателя с головой погружаться в феерическое исследование вселенной? Вот его собственный ответ: «Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования». Борьба со смертью — это не больше и не меньше, чем борьба со смертью, которая тем острей, чем напряженней, насыщенней человеческая жизнь, строго ограниченная временем и пространством. Ограничения подстерегают на каждом шагу! Возникает вопрос: а не слишком ли велика плата? Набоковские сравнения и каламбуры блестяще чеканны и отшлифованны, но на них так часто натыкаешься, что возникает пресыщение. Его нельзя поглощать в больших количествах, хотя искушение отведать еще и еще слишком велико. Трудно устоять против соблазна еще раз окунуться в дивный аромат, исходящий от замысловатого сюжета. Но приходится остерегаться, когда имеешь дело с этим homo ludens[255]. Самое милое дело — читать его урывками, выдергивая то тут, то там по главке, как стихи в сборнике. К нему надо относиться как к изысканной закуске, возбуждающей читательский аппетит и читательскую joie de vivre[256], но злоупотреблять им нельзя. Иначе не избежать мучительного пресыщения. George Ivask. The World of Vladimir Nabokov // Russian Review. 1961. Vol. 20. № 2. P. 134–142 (перевод Н. Казаковой). Элизабет Джейнуэй Маг Набоков Объектом научного анализа стал в этом году 68-летний Владимир Владимирович Набоков, известный прежде всего как автор «Лолиты». Его творчеству посвящены две литературоведческие монографии — «Бегство в эстетику» Пейджа Стегнера и «Набоков: жизнь в искусстве» Эндрю Филда, а также весенний выпуск «Трудов по современной литературе», вышедший в издательстве Висконсинского университета. Превращение нравящегося и интересующего писателя в предмет профессиональных дискуссий способно не на шутку озадачить массу обычных читателей. И неудивительно: слишком уж часто дотошная детальность литературоведческого анализа вызывает иронию или раздражение тех, кто становится его свидетелем. Мой отец в поздние годы говаривал, что всю жизнь ценил в романах Мелвилла и Конрада «славные истории» и не собирается менять свое мнение оттого, что кучке досужих толкователей вздумалось вдруг выискивать в них завуалированную символику. Должна признаться, столь же по-обывательски подмывало отреагировать и меня, когда я набрела, например, на такое суждение Альфреда Аппеля в «Трудах Висконсинского университета»: «От внимательного читателя не должна укрыться тема бабочки — лейтмотив „Лолиты“: роман изобилует откровенно „этимологическими“ описаниями облика главной героини, да и знакомство с другими книгами прозаика (в частности, с „Другими берегами“) призвано подвести читателя к этой мысли». Равно как и на следующую констатацию Эндрю Филда: «„Защита Лужина“ — великолепный орнамент, а может, и краеугольный камень набоковского мастерства, однако вряд ли у кого-либо возникнет искушение или потребность перечитывать ее больше одного раза». Ну и способ выражать свои мысли у этих литературоведов, доложу я вам! Готова поручиться: получив такую рекомендацию, читатель-простак тотчас заявит, что готов перечитать «Защиту Лужина» четырежды либо не читать вовсе, энтомологические же метаморфозы Лолиты для него небезынтересны в познавательном плане, однако мало что прибавляют к эмоциональному воздействию романа. При всем том читатель-простак окажется не прав. Ибо обывательское здравомыслие — недуг, еще более опасный (как показал это сам Набоков — показал лучше, чем множество других!), нежели даже кинботизм, эта гротескная форма научности, которую наш автор с таким блеском описал в «Бледном огне». И Аппель, и Филд — признанные знатоки набоковского творчества, и они могут порассказать нам о нем немало нужного и поучительного. Скажем, Аппель (в свое время бывший слушателем Набокова в Корнеллском университете) публикует на страницах «Трудов Висконсинского университета» интересное, пусть и отмеченное чрезмерной почтительностью, интервью с писателем, а также блестящую статью о «Лолите» — статью, которая может лишь расширить диапазон восприятия книги. Что до Филда, то проделанный им исчерпывающий обзор всего литературного наследия Набокова на русском и английском языках: романов, рассказов, стихов, критических эссе, пьес, переводов — поистине бесценен для будущих специалистов. В нем равно привлекают и глубина анализа, и мастерское умение обобщать. Но, разумеется, и ученые не безгрешны. Так, Клэр Розенфелд, разбирая «Отчаяние» на страницах «Трудов Висконсинского университета», и Пейдж Стегнер, анализируя в своей монографии «Истинную жизнь Себастьяна Найта», оба обнаруживают невосприимчивость к авторской иронии — применительно к Набокову, постоянно заставляющему своих персонажей судить себя самих и себе выносить приговор, особенно огорчительную. Тем не менее преимущества пристального и серьезного изучения очевидны. Независимо оттого, к чему стремится читатель-простак, прямым следствием академического прочтения становится расширение контекста произведения и усиление его резонанса, очищение этого произведения от скорлупы «посюстороннего», обеспечивающее возможность как детального его рассмотрения на максимальном приближении, так и с необходимой для общего обзора дистанции. Есть, впрочем, нечто неподвластное академической науке: способность определить, оправдывает ли то или иное произведение затрачиваемые критические усилия. Это дело читателей, сегодняшних и завтрашних. Что же, и ежу порой ведомо то, что неведомо выслеживающей его лисице. Ведь не критика удерживает произведение на плаву, а лишь живая и непрерывная связь между его творцом и аудиторией. Связь эту завязывает текущее поколение читателей, но и ему, увы, не дано предвидеть, сколь длинна будет животворная нить. Одному небу известно, «стоит ли» Набоков колоссальных трудов, положенных на анализ его книг, и «гарантирована ли» ему жизнь во времени. Пишет он великолепно, но ведь не хуже писал и Суинбёрн. Однако независимо от того, потянутся ли к его произведениям книгочеи грядущих поколений, уже сегодня можно уверенно констатировать: затрагиваемые в его книгах темы: утрата безвозвратно ушедшего и любимого прошлого; сомнение в реальности собственного «я», населяющее его прозу образами двойников и обманчивыми зеркальными бликами; и адекватное вопрошание окружающего, диктуемое страстным стремлением понять, каково оно на самом деле; природа искусства, суть его отличий от вечной работы воображения — все это стало значимой и неотрывной частью мира, в котором мы живем. Творческий метод Набокова: каламбуры, обманки, пародии, сюжетные и образные совпадения, призванные сигнализировать о тайной подспудной силе, о вездесущем безжалостном Мак-Фатуме, лицо автора, сквозящее в действиях и поступках персонажей, — идеально соответствует избранному писателем материалу. Предельно красноречива в этом смысле и техника его письма, делающегося автокомментарием к затронутым темам и таким образом ставящего нас перед крайне актуальным в наши дни вопросом: что нами движет? В какой мере подвластно мне течение моего собственного бытия, а если не мне, то кому оно подвластно, какой силе? Вопросом, вновь возвращающим нас в круг исходных понятий — таких, как осознание пределов собственного «я», смысла и назначения искусства. Есть еще один ракурс, в котором легко различить, как жизненный материал набоковского творчества детерминирует набор его художественных средств и приемов письма. Большая часть этого жизненного материала коренится в особенностях биографии писателя: безоблачном счастье детских лет, изгнании на чужбину, муках и радостях творения, утрате или гибели отца, мрачных фантасмагориях полицейского государства, страсти к собиранию бабочек, преподавании. Эти эпизоды, преломляясь по-разному, наложили отпечаток на существование большинства персонажей Набокова. Со всею тяжестью ложатся они на плечи так называемых «авторских героев» — Себастьяна Найта и Федора Годунова-Чердынцева, однако восприемниками набоковских воспоминаний становятся и другие, включая Гумберта Гумберта. Трансформировать в художественную прозу собственную жизнь — вещь чрезвычайно трудная. Ее отнюдь не облегчает то обстоятельство, что делается это все время, хорошо ли, плохо ли, пристрастно или сентиментально, и что стараниями вульгарных интерпретаторов учения Фрейда к такого рода трансформации оказалась сведена едва ли не вся специфика творческого процесса в целом. Но для того, чтобы осуществить ее, не впав в ту или иную крайность, автору надлежит дистанцировать себя как творца от себя как действующего лица, отступить на необходимое расстояние, дабы разглядеть самого себя с подобающей перспективы, и перерезать пуповину — иными словами, заставить замолчать живущий в каждом из нас всегдашний инстинкт самооправдания. Набокова часто называют холодным. Полагаю, такое впечатление складывается именно в силу его дистанцированности. Разумеется, личному опыту, в котором волей-неволей ищешь аналогий и соответствий ситуациям и событиям, которые придумываешь, конструируешь, измышляешь, перенося на бумагу плод собственной фантазии, находится место в любом художественном произведении. Но когда этот опыт реально пережит и прочувствован, когда он неотделим от собственного духовного мира, его еще труднее отделить от субъективных (и потому ложных) эмоциональных ощущений. В том, как Набоков препарирует собственное прошлое, поражаешься не тому, что прошлое это подчас предстает холодным, но прямо противоположному — тому, что оно так часто пронизано неподдельной теплотой. В то же время в мимолетной сладости воскресающих — например, в душе Федора из «Дара» — воспоминаний нет и тени сентиментальности. В какой мере личностный опыт Владимира Набокова, пережившего резкий бросок из роскоши в нищету и расставание с родиной, предопределил творческий опыт Владимира Набокова — писателя? Вопрос не праздный, но, на мой взгляд, едва ли раскрывающий перед тем, кто им задается, широкие перспективы. Отрицать, что все происходящее с писателем так или иначе влияет на его творчество, нелепо, однако взаимосвязь эта подобна лабиринту; и разве не чревато неоправданным риском для понимания художественного своеобразия того или иного автора стремление выстроить прямые соответствия между первым и вторым? Можно, разумеется, предположить, что эмиграция, исторгнувшая Набокова из лона богатой и влиятельной семьи, помешала ему выйти по стопам отца, честного и бескорыстного государственного деятеля либеральной ориентации, на политическую арену. Естественное следствие: персонажи Набокова не столь активны, сколь пассивны; они — скорее объекты, нежели субъекты бытия. Но разве не таковы герои большинства современных романов, заслуживающих своего названия? А доводя эту гипотезу до логического завершения, остается только прийти к выводу, что все мы так или иначе отторгнуты от власти над окружающим. Однако стоит лишь поместить в этот общий ряд Набокова, как вопрос о том, в какой мере личностные обстоятельства предопределили специфику его творчества, утрачивает всякий смысл. Самое большее, что можно с определенностью постулировать, — это то, что специфический опыт человека, пережившего эмиграцию, побуждает его охотнее апеллировать к собственным переживаниям, нежели к более обширному набору социальных примет действительности, и одновременно, возможно, облегчает то необходимое «дистанцирование», посредством которого личностный опыт и претворяется в эстетический. Обшаривать же в поисках компаса к тайнам книг писателя закоулки его биографии — тупиковый путь, ошибочность которого заложена в исходной погрешности. Приверженцы подобного метода игнорируют главное — специфику творческого акта, исключительно благодаря которому из личного переживания и индивидуальной фантазии и рождается произведение искусства. Предмет анализа критики — всегда произведение, адресуемое аудитории, даже если это произведение — мемуары. В «Других берегах» Набоков являет пример классического произведения мемуарного жанра. Впрочем, сам он (точнее, тот молодой человек, чья жизнь описывается) не выбалтывает фамильных секретов, не пытается во что бы то ни стало склонить читателя на свою сторону, даже когда вполне недвусмысленно декларирует свою позицию. Он и его родители, кузены и кузины, гувернантки, домашние учителя, девушки и юные дамы, в которых он с младых ногтей влюбляется, — все они возникают на страницах книги, дабы воскресить перед нами канувший в небытие образ жизни, осколок золотого века размером в одно семейство. Теплая, доверительная интонация книги не вступает в противоречие с мастерством художественного обобщения. Наверное, то же было бы с «Вишневым садом», случись Чехову сделать себя одним из его действующих лиц. Проза Набокова полна миражей, словесных игр, ребусов и головоломок. Он обожает составлять шахматные этюды, тайная цель которых — отвлечь от сути дела, причем не профанов, а кое-что смыслящих в теории шахматистов. Аналогичным образом выстроены и его книги: они заманивают в ловушку разохотившегося читателя, который, с головой погружаясь в расшифровку ребуса, и не подозревает, что главное, ради чего книга писалась, лежит на поверхности. (И тут, стоит признать, исходное преимущество оказывается на стороне читателя-простака, сразу пришедшего к выводу, что ребусы — превыше его понимания.) Однако весь смысл этих этюдов в том, какой цели они служат и как срабатывают в замысле всей книги. Нередко общий итог, к которому призвана подвести та или иная книга, укладывается — пусть огрубленно — в одну незамысловатую сентенцию. Как замечает Филд, «Смех во тьме» — не что иное, как игровое воплощение поговорки «любовь слепа», а «Приглашение на казнь» — афоризма «жизнь есть сон». Выстраиваемая в повествовании фабула раскрывает и в то же время пародирует смысл выдвигаемого тезиса. С помощью пародийной огласовки создается второй план — перемежающий происходящее комментарий по ходу действия. Выдвигаемым тезисам ничто не препятствует быть высокоморальными. О плачевной участи Альбинуса, главного героя романа «Смех во тьме», нас ставят в известность на первой же странице, облекая факты в понятия, слишком однозначные даже для мыльной оперы. Богатый мужчина, обремененный женой и ребенком, Альбинус, втюрившись до бесчувствия в молоденькую своекорыстную шлюшку, бросает семью (его маленькая дочурка умирает от воспаления легких, а он и не думает появиться на похоронах) и в конце концов приходит к бесславному финалу: слепнет, вероломная избранница наставляет ему рога, короче — становится объектом всеобщего осмеяния. Решившись покончить с неверной любовницей, он по роковой случайности гибнет сам. «И слава тебе Господи», — впору с облегчением заявить в этот момент читателю-простаку — в тон отходящей в мир иной малютке Нелл. Но даже в этой, на редкость прямолинейной, книге мелодрама и ирония объединяют свои усилия, дабы поставить под вопрос и испытать на прочность фабульную однозначность явленной в повествовании драмы. В сентиментальную по всем статьям историю вторгаются чуждые тональности зловещей угрозы и нелепого фарса; в результате налет сентиментальности исчезает без следа, а предельно банальная жизненная ситуация обретает неожиданную свежесть. Оставленный в дураках злодей Альбинус превращается в вызывающего сочувствие персонажа — даже в большей мере, нежели Гумберт Гумберт, чьи пространные рассуждения о пропасти греха, в которую он столкнул крошку Лолиту, не являются, на мой взгляд, свидетельством хорошего вкуса. Иное дело — Альбинус: тот просто существует, действует по наитию, страдает. Он впечатан в книжную страницу, как загадочная фигура — в цветное стекло витража. Итак, дистанция между произведением и миром, между творчеством художника и его аудиторией, столь искусно создаваемая Набоковым при помощи этих остраняющих приемов, срабатывает еще в одном направлении: она как бы позволяет произведению завершить самому себя. Его книги иллюстрируют жизнь, оставаясь от нее в стороне. Романы Набокова — не абстрактные выжимки из реальности, а хитроумные конструкции, призванные эту реальность передразнивать и совершенствовать. В один прекрасный день Себастьяна Найта — единственного в арсенале Набокова героя-романиста — застают лежащим в комнате на полу. «—Да нет, Лесли. Я жив, — заявляет он вошедшему. — Я закончил сотворение мира, — это мой субботний отдых». Таким образом, делом романиста вовсе не является истолковывать существующий мир. Его задача — творить иной: тот, какой вовсе не имел бы ценности, будь он зеркальным отражением здешнего; тот, в каком не было бы смысла, не будь он лучше и совершеннее, нежели единственный, что нам знаком. Еще одним следствием этой загадочной стихии, правящей бал в творчестве Набокова, может быть ощущение, разделяемое им с Себастьяном Найтом: уверенность, что его книги существуют, еще не будучи написаны, — они просто ждут, чтобы их открыли. В интервью Аппелю писатель говорит об этом так: «Полагаю, в отношении меня как писателя вполне справедлива та истина, согласно которой вся книга, до того, как она написана, пребывает в идеально законченном виде в некоем ином, то прозрачном, то затуманивающемся, пространстве, и моя задача — взять из нее все, что можно, скопировать ее со всей точностью, на которую я только способен». Подобные галлюцинации посещали художников и раньше; и вряд ли будет ошибкой предположить, что между ними и процессом разгадывания ребусов и головоломок есть некая подспудная связь. Не случайно профессор Э.X. Гомбрич, анализируя этот феномен в позднейшей книге своих эссе «Норма и форма», пишет о «нашедшей выражение у Шиллера вере, что где-то в платоновских небесных сферах уже таятся ответы на вопросы, от века волнующие художника, — ответы, верность которых не подвержена флюктуациям времени и пространства… Когда требуется создать комбинацию из некоторого набора чисел, — продолжает он, — количество вариантов будет тем меньшим, чем более обширен этот набор чисел». Ясно, сколь «обширно» в этом смысле слова творчество Набокова: под одним фабульным пластом приоткрывается другой, за ним третий, и так — до некой критической точки, на какой только и становится возможен «единственно верный» способ истолкования. Отсюда-то и проясняется, что элемент шарады, ребуса, головоломки, неизменно присутствующий в любом романе и рассказе Набокова, — отнюдь не замысловатый орнамент, призванный повести читателя по ложному следу, но скорее путеводная нить, помогающая очертить контуры скрытой в нем главной тайны и исподволь подсказывающая способ ее раскрытия. Вернемся на миг к Себастьяну Найту, недвижно распростертому на полу. На этом примере отчетливо видно, как Набоков приводит в действие конвейер своих воспоминаний. В «Других берегах» он рассказывает о своем дяде по материнской линии, имевшем обыкновение растягиваться на полу в послеобеденный час. «Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, — с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги». После того как недуг эксцентричного дядюшки сведет в могилу молодого и одинокого Себастьяна, сердечный спазм положит начало книге, в которой означенный Себастьян появится на свет, ибо станет импульсом для младшего брата героя, В., одержимого стремлением написать биографию старшего, пуститься в поиск «истинной жизни Себастьяна Найта». Нелепо в то же время считать, что Себастьян каким бы то ни было образом связан с упомянутым дядюшкой (хотя, подозреваю, последний и всплывает в книгах Набокова в других воплощениях). Просто микроскопическая частица воспоминания послужила магнитом, что раз за разом притягивает к себе атомы разнородных житейских впечатлений, каким потом предстоит сложиться в законченное фабульно-характерологическое целое. В интервью Аппелю Набоков описывает этот механизм так: «Воображение — это форма памяти. Образ зависит от способности нанизывать ассоциации, а вызывает и подсказывает их память. В этом плане и память, и воображение суть отрицание времени». «Я, признаться, не верю в мимолетность времени», — замечает Набоков в «Других берегах». Однако на страницах той же книги он фиксирует впервые осенившее его в четырехлетнем возрасте озарение («…я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени…») и констатирует, что «в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени». Время, в глазах этого скептика, не то, что следует игнорировать; напротив, оно требует к себе активного отношения — вызова, спора, даже выворачивания наизнанку. Его новый роман, по свидетельству Филда, должен явиться прежде всего «художественным воплощением и исследованием точного смысла времени». Впрочем, как оговаривается тот же автор, «почти во всех произведениях Набокова в большом жанре теме Времени принадлежит важное место». Восприятие времени — не что иное, как способ структуризации мира, и он тесно связан с другими видами структуризации. Проводя эксперименты над группами детей, Жан Пиаже и Бруно Беттельгейм, каждый со своей стороны, пришли к выводу, что способность к предсказыванию будущего (здесь в дело вступает память, ибо предсказывать можно, лишь осознав порядок происходящего) предшествует пониманию их подопытными цепочки причинных связей. Без такого понимания немыслимо значащее действие; способность предсказывать, понимать, контролировать собственное окружение есть основа формирования личности. Приношу извинения за столь неприлично упрощенное изложение сложной теории, ставшей итогом долговременного наблюдения; но эти мотивы пронизывают суть набоковского творчества. Нельзя упускать из вида, что как художник он имеет дело с тем комплексом жизненных явлений, каковые в принципиально ином контексте демонстрируют свою связь и играют центральную роль в процессе развития индивидуального самосознания. Это — память и ее связь со способностью предсказывать, понимание, открывающее дорогу действию и контролю над окружающим. Утратив эти опоры, дети находят прибежище в насилии, шизофрении и аутизме, в фантазиях, бессознательных повторах, машинальных действиях и уходе в себя. Безумцам есть что поведать здравомыслящей части человечества о том, как устроен мир. Понимание времени Набоковым заметно ближе к этим психологическим опытам, нежели к прустовским поискам утраченного времени. В каком-то смысле более механистичное (равно как и более объективное, чем у его французского собрата по перу, использование Набоковым личного опыта в творчестве), оно, наряду с этим, более сложно и изобретательно, нежели прустовское. Дабы убедиться в том, как разрабатывает писатель данный круг тем, достаточно бросить беглый взгляд на «Бледный огонь» — роман-ловушку, роман-головоломку по определению. Как и все произведения Набокова, «Бледный огонь» — замысловатая конструкция, однако, в противоположность другим, в ней отсутствует бытовое правдоподобие. Здесь нет повествования в традиционном смысле слова, нет кажущегося реальным героя, нет фабулы. Налицо лишь безумец и поэт да плоды фантазии обоих — сочиненная последним автобиографическая поэма «Бледный огонь» и приложенный к ней комментарий первого, очевидно не имеющий с нею ничего общего. Немало критических копий сломано по поводу того, каково в действительности соотношение этих двух компонентов романа: в каждом из них слышатся чуждые отзвуки и отголоски, проступают призрачные образы, обманчиво бликуют зеркала, а стихи, вычеркнутые поэтом Джоном Шейдом из окончательного текста, оказываются ближе к комментарию д-ра Кинбота, нежели те, что составили ее окончательную версию. Рискну, впрочем, отвлечься от этого захватывающего занятия — так сказать, попытаюсь «дистанцироваться» от книги, чтобы уяснить, какой предстанет данная конструкция, если взглянуть на нее под верным углом зрения. Или, другими словами, попытаться расслышать, каким эхом она отзовется, коль скоро обратить к ней правильно сформулированный вопрос. Точнее, один из правильно сформулированных вопросов. Ибо не исключаю, что их целый ряд. Вопрос, который мог бы помочь делу (по сути, правильно сформулированный вопрос), звучит так: кто Черный Король? Кто кого видит во сне? Шейд измыслил Кинбота или, напротив, Кинбот Шейда? Короче говоря, попробуем приблизиться к «Бледному огню» сквозь зеркало. Я тень, я свиристель, убитый влет Так начинается поэма Джона Шейда. Оконное стекло стало зеркалом, запечатлевшим птицу, разбившуюся при столкновении. Задремав у окна, Алиса увидела, как висящее над камином зеркало разомкнулось, превратившись в окно, через которое она смогла шагнуть в иной мир, параллельный нашему и его передразнивающий. Сделав шаг по ту сторону, обнаружила, что приземлилась на шахматной доске и нежданно-негаданно стала фигурой, участвующей в игре. Все это, конечно, знакомые набоковские образы-символы. Равно как и персонажи, которых встречает Алиса: двое (разного обаяния) лунатиков — Белый Рыцарь и Болванщик, преобразившийся в англосаксонского гонца Болвансчика, близнецы-двойники, ведущие мнимый бой, Траляля и Труляля, Шалтай-Болтай, чьи слова значат ровно то, что ему заблагорассудится, Белая Королева, живущая задом наперед, ибо она ухитрилась повернуть время вспять. И наконец уже упоминавшийся Черный Король, похрапывающий во сне; он, по уверениям Траляля, не только видит сон, но видит во сне… Алису: «Знаешь, перестань он только видеть тебя во сне, и ты… исчезнешь. Ты просто снишься ему во сне». К чему безотлагательно присоединяется Труляля: «Если этот вот Король вдруг проснется, ты сразу же — фьють! — потухнешь как свеча!» В перечне литературной поденщины, какой перебивался в Берлине молодой эмигрант Набоков, значится и перевод на русский язык «Алисы в стране чудес». Быть может, очередному интервьюеру придет в голову спросить писателя, не доводилось ли ему перевести и продолжение сказки — «Алису в Зазеркалье». Впрочем, это несущественно. Существеннее, что не найдется человека, который взялся бы переводить первую часть «Алисы», не будучи осведомлен о содержании второй. В семействе Набоковых сказку об Алисе на рубеже веков наверняка рассказывали детям: ведь англофильство было у них в крови. К слову, когда интервьюировавший Набокова Аппель в другой связи назвал имя Льюиса Кэрролла, писатель живо отозвался: «Как и многие другие английские дети (я ведь был английским ребенком), я всегда любил Кэрролла». Впрочем, любой, кто знакомится с ними в ранние годы, подтвердит: книги Льюиса Кэрролла становятся верными спутниками на всю жизнь. Не так давно, выходя из театра с премьеры драмы Пинтера, я чуть ли не вслух спросила себя: «Так кто же Черный Король?» К тому же вопросу с другой стороны подходит Эндрю Филд, дающий очень интересный, хотя и неисчерпывающий, анализ «Бледного огня». По его убеждению, не Шейд — творение Кинбота, а Кинбот — плод фантазии Шейда. Не потерявшему рассудка поэту, аргументирует он, по силам сотворить безумца, но не наоборот; и с логикой исследователя трудно не согласиться. Есть еще один пункт, в котором я склонна солидаризироваться с Филдом, хотя и по другим мотивам. Он заключается в том, что главным действующим лицом романа следует считать Шейда, который в определенном смысле слова создает Кинбота; Кинбот же, в свою очередь, создает третьего персонажа — убийцу Градуса. (Правда, Филд полагает, что третий член триумвирата — сам Набоков, ибо именно он — творец всех своих героев. С моей же точки зрения, согласно композиции книги этим третьим следует считать Градуса.) Итак, повторим: Шейд творит Кинбота, который творит Градуса, который убивает Шейда. Круг замыкается и… становится порочным. Ибо каким образом невинно убиенный Шейд может сотворить Кинбота, который сядет писать комментарий к его поэме, обнаруженной лишь после того, как Шейда лишит жизни презренный Градус, впервые возникающий на страницах комментария? Ответить на этот вопрос невозможно. Но, как вправе напомнить нам старая знакомая из «Алисы в Зазеркалье» — Белая Королева, имевшая обыкновение до завтрака верить в невероятное, — невозможность ответить на вопрос — еще не резон для того, чтобы от него отмахнуться. Очевидно тупиковая ситуация лишь свидетельствует об аберрации или поверхностности нашего видения предмета. Еще раз «дистанцировав» по видимости неразрешимую проблему, мы все же можем отыскать ответ, причем лежащий в русле набоковских экспериментов со временем. Ибо невозможное в действительности становится невозможным, когда оно извлечено из царства времени и помещено в мир искусства; и сама невозможность реального осуществления чего-либо обязывает к такого рода трансформации. И тогда порочный круг… но лучше предоставим слово самому Набокову: «Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии». Искусство — обитель невозможного, под ее сводами время останавливает свой ход. В реальном мире (мире, отсутствующем в «Бледном огне») разгуливающий на свободе сумасшедший, который стреляет в Шейда, — трагическая случайность. Он принимает Шейда за судью, вынесшего ему приговор. Но в искусстве случайностей не бывает. Вынесите время за скобки — и в мире, управляемом не силой пророчеств, а причинно-следственной связью, маньяк-убийца примет обличье бестрепетного преследователя, идущего по пятам изгнанного короля Земблы, безумного Кинбота. Так сталкиваются лицом к лицу искусство и реальность — зеркальные подобия и двойники друг друга, своими различиями высвечивающие взаимное сходство. Книга подобна церковной маковке: приведенная в движение пулей из «реального» времени, она бешеным вихрем колышет метафизическое пространство. Зачем это нужно Набокову? Или иначе: о чем эта книга? Филд утверждает (а Филд не только добросовестен, он проницателен): она — о смерти; и впрямь здесь не меньше смертей, нежели в «Гамлете». Однако у смерти в произведениях Набокова странный оттенок неокончательности. В самом ли деле умирают Смуров в «Соглядатае», Цинциннат в «Приглашении на казнь»? Если и так, они продолжают существовать в каком-то другом временном измерении. В «Даре» отцу встречается призрак его сына, сын же ощущает живое присутствие ушедшего в небытие отца. Себастьяна Найта брат пытается воскресить своей биографической книгой. В «Бледном огне» дочь Шейда Гэзель на равных беседует с тенями, а самому поэту выпадает пережить, как он убежден, собственную кончину, потустороннее озарение и немедленное воскресение. Таким образом, «Бледный огонь» — столь же о выживании, сколь и об умирании. Тень свиристеля, гибнущего на первой строке поэмы, порхает «в отраженных небесах». Мальчиком Шейд недоумевал, как …можно жить, не зная впрок о том, И вот подходит время выбора: И наконец, была бессонна ночь, Но если жить, задается он мыслью, то как? Что, если вам швырнут в бездонную юдоль Пережитый опыт гибели и воскресения убеждает его: есть что-то неподвластное тлению, но только «смысл этой цены / Не нашим смыслом был». И неудивительно: каким, как не безумным, может предстать нашему бодрствующему, здешнему «я» наш собственный призрак? Стрелки указывают в одном направлении. Кинбот — не кто иной, как обезумевший призрак Шейда, своим комментарием делающий попытку завершить неоконченный труд: дописать к поэме последнюю строку, запечатлеть неизъяснимую простоту ее начала («Я тень, я свиристель, убитый влет…») на страницах своей гротескной автобиографии. Такое впечатление лишь усиливается, когда узнаешь, что в теле дочери главного героя Гэзель нашла, может статься, очередное воплощение душа тетушки Мод, воспитавшей некогда Шейда. Гэзель дика, не приспособлена к окружающему — быть может, как раз в силу того, что так близка призрачному миру, отмеченному «не нашим смыслом» бытия. Строго говоря, клубок начинает разматываться, как только успеваешь осознать, что, по романной логике, подлинные межчеловеческие отношения мыслимы лишь за рамками обычного времени, по сути — вопреки его течению. Вот почему в конечном счете нет в «Бледном огне» и следов того, что называют «настоящей фабулой»: перед нами — произведение искусства, существующее и могущее быть воспринятым лишь по ту сторону нашей, детерминированной ходом времени реальности. Под обложкой этюда о смерти и бессмертии таится экскурс в становление личностного самосознания. Кто мы? Какова природа человеческого «я», способного, как нам кажется, восторжествовать над ходом времени и обусловленными им переменами? Эти вопросы на протяжении всей жизни не перестают волновать не только Шейда, но и Набокова. «Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! — пишет он в „Других берегах“. — Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь». Но, добавляет он, «в начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость». В своих книгах — вот где Набокову удается пробиться сквозь крепостные стены. Ибо, вопреки утверждению Стегнера, его искусство — не способ «бегства в эстетику». Оно — ключ к проникновению в реальность, невероятно чувствительный прибор, призванный определить толщину стен тюрьмы, в которую все мы заключены, хирургический скальпель, помогающий вскрыть тайники души заключенного, разбивающего в кровь кулаки, барабаня в эти стены. Иллюзионистские приемы его писательского мастерства — не свидетельство бегства от жизни, но, напротив: путь проникновения в жизнь посредством хитроумной ее имитации. Как отмечает Филд, осенью 1939 года в Париже Набоков написал рассказ, которому суждено было стать прототипом и первым подступом к роману «Лолита». Написанный на русском языке, он называется «Волшебник». «The Conjuror»[258] — так переводит Филд его название на английский; и действительно, невезучий мужчина средних лет, влюбляющийся в двенадцатилетнюю нимфетку, фокусник по роду занятий. Стоит, однако, иметь в виду, что исходное значение слова «волшебник» ближе к таким понятиям, как «магия» или «чародейство»; иными словами, волшебство универсально и может в один прекрасный день быть претворено в реальность. Этот оттенок положенного в название рассказа русского слова, не замеченный Филдом, кажется мне симптоматичным. Владимир Набоков — маг; время от времени предпочитая именовать себя фокусником, он просто вводит публику в заблуждение. Ведь его чары неизменно срабатывают, а цель его чародейства — с помощью вдохновенного творчества постичь реальность. Elizabeth Janeway. Nabokov the Magician // Atlantic. 1967. Vol. 220. № 1 (July). P. 66–71 (перевод Н. Пальцева). Энтони Бёрджесс Поэт и педант Первая станция после Танбридж-Уэллс по пути в Гастингс называется Франт. Я никогда не интересовался этимологией этого названия. Знаю только, что, пожелай Владимир Набоков сменить разреженный швейцарский воздух и поселиться в Англии, Франт был бы единственным подходящим для него местом. Что бы это слово ни означало по-английски, по-русски оно значит «денди». Набоков — последний (за исключением, быть может, Раймона Кено{225}) денди в литературе. То, что в «Бледном огне» казалось модным авангардизмом — нарочитая отрывочность формы, отвечающая новым эстетическим представлениям, — теперь сильно устарело: сюжет буржуазно вульгарен, как и сама вещь; единственное, что тут важно, — слово, mot juste[259], сидящее, как модный галстук, обороты, сверкающие, как кольца, игра слов, мерцающая, как антикварные вещицы Фаберже. Мне известно, что набоковскую прихотливость принято называть педантизмом, но педантизм отличается от дендизма не больше, чем романтика от грамматики (совпадающие в последнем слоге), и если читателей отталкивает педантизм, им следует восхититься аристократическим шиком. Набоков — один из немногих ныне живущих писателей, которого я обожаю и кому хотел бы, будь у меня такая возможность, подражать. Но с английским языком он обращается как иностранец: он играет не в крикет, а в шахматы и не принимает ни одного негласного правила, относящегося к риторике и умолчанию. Его обуревает рассудочная страсть, что, в общем-то, неприлично. И все же Набоков — еще один печальный пример того, что в XX в. литературный английский язык больше всего обязан неангличанам (прежде всего ирландцам и американцам). Англоязычный славянин поставил перед собой особую задачу — напомнить нам о великолепии нашего языка, сильно обедневшего благодаря стараниям пуритан и прагматиков. Вероятно, Набокова можно поставить в один ряд с Конрадом. Но если Конрад — английский писатель по призванию, то Набоков стал автором «Лолиты» в силу исторической случайности. Эта случайность легла в основу недавно переизданной и исправленной автобиографии Набокова «Память, говори». Книга вышла в 1951 г. и вызвала не слишком большой интерес. По иронии судьбы «Лолита» принесла Набокову — утонченнейшему из ныне живущих писателей — громадную, быть может, чересчур громкую славу. С другой стороны, его слава (разве не безумие эти чрезмерно изысканные обложки «Бледного огня» в привокзальных книжных киосках?) — своего рода историческая справедливость. Новая Россия изгнала Набоковых, но даже самый невежественный западный читатель знает имя Владимира Набокова, не имея ни малейшего понятия о сотнях советских писателей. В книге «Память, говори» (которую Набоков хотел назвать «Говори, Мнемозина») рассказано о его судьбе после революции, но без малейшей жалости к себе, с таким аристократическим высокомерием и выдержкой, которые не позволяют читателю даже на миг заподозрить его в том, что он сожалеет или когда-нибудь сожалел о потере огромного имения и состояния в два миллиона долларов. Набоковское зрение острее лезвия, а мужество кажется сверхчеловеческим — настолько, что даже не вызывает восторга, как и владение чужим языком. Блистательная оркестровка слов призвана оживить былую идиллию, способную превратить самого реакционного читателя в якобинца. Перед нами большая состоятельная семья, близкая ко двору, дед Владимира, занимающий пост министра юстиции, бесчисленные слуги, английская гувернантка, новинки с Бонд-стрит, собранные в особняке, где французский или английский язык звучит куда чаще русского. Владимир охотился за бабочками по всей Европе, Санкт-Петербург был для него окраиной Парижа или Лондона, Канн или Биаррица. Бабочек придется бросить, их должен смести великий исторический вихрь — но о чем можно сожалеть в такую минуту? Разве что о гибели либерализма, который все равно не прижился бы ни в царской, ни в советской России. Отец Набокова — один из крупных демократов — возглавлял фракцию, которая пыталась встать между царем и большевиками. Он побывал в тюрьме при обоих режимах, а в эмиграции был убит. Он сочетал великодушие со стоической (иначе не скажешь) выдержкой, и в отточенной прозе его сына просвечивает благоговейное восхищение отцом. Молодой Набоков увез с собой в эмиграцию отцовскую стойкость и теперь должен был выковать собственный новый стиль. Но сначала нужно было воздвигнуть барьер из язвительной гордости и проникнуться беспощадным презрением. Одно из неприятнейших свойств набоковской прозы — стремление вынести скорый приговор тому или иному человеку, скажем Достоевскому или Бальзаку, и даже не стилю писателя, а его душе. Пушкин, которому Набоков воздвиг огромный и прекрасный памятник в виде четырехтомного перевода и комментария к «Евгению Онегину», превознесен до небес, но орнаментальность и витиеватость скульптурных форм этого четырехтомника сродни аристократической ловле бабочек, душа же этой книги груба и серьезна. Но стоит кому-нибудь прибегнуть к психоанализу, как Набоков тотчас же зачисляет его в шарлатаны. Тут он, пожалуй, перебарщивает. Его жизнь в эмиграции может показаться безрадостной и скучной, но будем же милосердны, даже если сам Набоков не таков (да и не просит о милосердии). Из Кембриджа он не вынес ничего, кроме ученой степени (по его словам, на экзаменах ему помогала лишь беспечность), более глубоких познаний о бабочках и репутации превосходного вратаря. На континенте он написал девять романов по-русски для таких же, как он, эмигрантов и женился, еще глубже погрузившись в свой прежний мир. Но затем Набоков переехал в Америку, где, как он обычно рассказывает, вынужден был отказаться от своего инструментария и полностью обновить его. Кто мог предвидеть, что столь утонченный и образованный мастер станет величайшей гордостью и славой Америки? Теперь же это кажется абсолютно справедливым и неизбежным. «Лолита» — это исследование мании, история того, как европейская чувствительность, граничащая с онегинщиной, польстилась на фальшивую американскую невинность. Впервые в литературе Америка предстала как она есть. Генри Джеймс совершил il gran rifiuto[260] (как говорит моэмовский герой), отвернувшись от важнейшего процесса эпохи — создания новой цивилизации. Набоков восстановил равновесие, унаследовав всю утонченность Джеймса в его восприятии Америки, но, к счастью, без его ханжеской щепетильности и привычки к изворотливым оговоркам. Скажем иначе: американские писатели могут производить громоздкие артефакты, наподобие брукнеровских или малеровских симфоний, но редко способны создать концерт в стиле рококо: им недостает изысканности, они умеют строить из себя магнатов, но не денди. Книги Набокова захлебываются каденциями. Самый запоминающийся отрывок в главе о Кембридже из его автобиографии совершенно не связан с повествованием: «В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий закат сквозь лишаи бора; — и, подкинув еще угля, я устраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского „Таймса“. Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, и прекрасной, как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там и в могучий рев, оранжево-темное пятно появлялось посредине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице». Это типичный Набоков. Жизнь вовсе не путь души; международная политика годится лишь на то, чтобы разжечь огонь в камине. Задача литературы — пристально наблюдать за отдельными мгновениями жизни и уметь передать их в форме каденций. Но можно ли так создать книгу или любую словесную форму длиннее лирического вздоха? Можно, если сначала изучить внутреннее строение навязчивой идеи. Бабочек можно ловить, собирать, классифицировать, подробно описывать. Страсть к нимфетке соберет воедино все краткие дневниковые записи об Америке, достигающие остроты бреда. Поэму Джона Шейда из 999 строк можно снабдить запутанным педантичным комментарием, содержащим самопародию. А еще есть две родственные игры на черных и белых квадратах — шахматы и «крестословицы». Набоков придумал первый русский кроссворд, и многие его страницы повествуют о страсти автора к шахматным задачам («Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу»). Франтоватая литература построена как шахматная партия и отличается словесной замысловатостью кроссворда. А что же душа? Этот товар нельзя было вывезти из России. А возможно, курс души всегда был завышен. Так лучше уж захватить с собой любовь, ум, эрудицию, изящество и гордость. Anthony Burgess. Poet and pedant // Spectator. 1967. Vol. 218. № 7239 (24 March). P 336 (перевод А. Курта). Джон Апдайк Дань уважения Ваше приглашение отпраздновать день рождения Владимира Набокова застало меня в Англии, и именно в Англии, в Оксфорде, почти пятнадцать лет назад я впервые прочел этого великого писателя: в журнале «Нью-Йоркер», где в романе «Пнин» точилка для карандашей твердит: «Тикондерога, тикондерога», а Пнин обливается слезами, когда смотрит мерцающий русский фильм в кинотеатре. Я увидел иную литературную вселенную, или, по меньшей мере, поразительное усиление обычной вселенной, и в последующие пятнадцать лет я постоянно, с удовольствием наверстывал написанное Набоковым и уже переведенное к тому времени на английский язык, поглощая мощные срезы заново воссозданных русских романов и новорожденных американских публикаций, неряшливо разбросанных по различным изданиям, начиная с элегантных томиков «Болинген-пресс» и кончая жалкими творениями переплетной мастерской, которая, кажется, называлась «Федра»[261]. Я хоть и клевал частенько носом над двумя томами примечаний к «Евгению Онегину», однако не пропустил ни одной из его работ, если слышал о ней; Набокова нигде нельзя обвинить в лености, он всегда щедро расточает драгоценности и шелка своих работ, которые столь величественны, что открывают интереснейшие виды даже в шкафах и темных коридорах. Я уже высказывал в печати свое мнение о том, что это новый американский писатель и лучший среди ныне живущих; я также высказывал свое сомнение в том, что его эстетические модели — шахматные задачи и защитная окраска чешуекрылых — могут стать для всех нас превосходными идеалами. Я считаю его важным писателем потому, что в наш век, когда слова «художественная целостность» выглядят парадоксальными, если не реакционными, он высоко держит твердокаменный образ собственной самодостаточности: он может казаться извращенным, но никогда отвратительным, игривым, но не торопливым, стерильно чистым, но не бессильным. Даже наименее приятные стороны его облика — неумолимая ненависть, рефлекторное презрение — свидетельствуют, как стены крепости, о реальности той осады, которую наш век ведет против его личных качеств и гордости. Как читатель я хочу отметить, что, по моему впечатлению (сколько бы об этом ни говорили Филип Тойнби и другие критики), Набоков вовсе не лишен души. «Память, говори» и «Лолита» просто лопаются от душевности, и даже менее приветливые работы, вроде романа «Король, дама, валет», демонстрируют в пространстве между сплетениями строгих конструкций богатство человеческого понимания. Его способность оживлять в памяти мелких, неприятных персонажей выдает нечто подобное любви. Маленькая проститутка, которая, как запомнилось Гумберту Гумберту, так быстро разделась, фатально домашняя дочь Джона Шейда, та невыносимо заносчивая и распущенная женщина, любовь к которой вечно живет в сознании Пнина, образы людей с немецких улиц в «Даре», на мгновение появляющиеся эпизодические герои американских романов — все они врезаются в память. Даже те герои, которых сам Набоков явно не любил, вроде жабообразной женщины из романа «Король, дама, валет»{226}, остаются в сознании живыми, словно выгравированные в воздухе тома того судебного расследования, что будет вестись против них в Судный день; как полно мы ощущаем состояние набоковской героини, когда она в конце книги погружается в лихорадку. Только поистине исполненный чувств писатель может заставить нас ненавидеть так, как мы ненавидим Акселя Рекса из «Смеха во тьме»{227}. И если мы постоянно чувствуем, что Набоков, несмотря на щедрые траты словесной разменной монеты, оставляет про запас свои сокровища, так это потому, что он уже открыл нам огромные богатства. Нет, он не холоден, ему открыты обширные подземные хранилища чувствований Европы, закрытые для американцев; если его сознание пирует подобно блудному сыну, оно пирует потому, что уверено в отцовском наследстве. John Updike. A Tribute // Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes. L.: Weidenfeld and Nicolson., 1971. P. 342–344 (перевод А. Патрикеева). Джек Людвиг{228} Обычное тоже существует I. Преимущества неамериканского происхождения сейчас, в 1969 г., столь многочисленны, столь новы, столь волнующи, что может появиться иллюзия, будто тридцать лет назад, когда Владимир Набоков приехал в Соединенные Штаты, никаких преимуществ не было. Однако даже краткое перечисление нескольких чисто отрицательных свойств американского происхождения развеет любую возможность непонимания: Набоков, например, родом с планеты Европа, он свободен от шахт Норриса{229} или типографских причуд Дос Пассоса, у него иммунитет к чувству вины или предательства по поводу своей свободы. Как, скажем, римлянин, приехав в Техас и услышав вопрос из уст миллионера, что он думает по поводу его парка с классическими статуями, так и Набоков, улыбнется, пожмет плечами и промолчит по поводу монумента Драйзеру из несокрушимого американского гранита или суровой статуи Хемингуэя из бронзы с тщательно выгравированными, будто на средневековых латах, лучшими цитатами из его произведений. Джентльмену, защищенному прозрачной броней европейских манер и образа мыслей, простят провинциальные реплики, брошенные даже такому уважаемому рассказчику американских историй, как Фитцджеральд, если в ответ он позволит себе поинтересоваться: «А что они вообще делали в Париже в то время?» или: «Кто, надо бы спросить, вызвал их кризис?» На вопрос Фолкнера: «Почему вы ненавидите Юг?» — никто в бессовестно одноязычной Америке не может ожидать серьезного ответа от человека, говорящего на множестве языков. Имея эти преимущества и тысячу других, Набоков получил полную свободу писать романы или ловить бабочек, не думая присоединяться к ужасной погоне за туземной бескрылой тварью Америки — за Реальностью. Когда городские ребятишки, сосредоточенно насупив брови, проносились мимо, размахивая сачками, Набоков изящно и бесшумно накрывал ее «Пниным» и никого не спрашивал, за кем это они охотятся. И под хартией «Идеологии Реальности» Набоков не стал подписываться и принимать ее статьи о вере в то, что американское человечество спасет не Мессия, а Романист. Так же как американцы, воспитанные на карикатурах Херста{230}, считают каждого интеллектуала чокнутым профессором энтомологии с сачком в руках, так и Набоков, едва отрывавший глаза от своих работ на двух языках, вполне мог составить неправильное представление о правоверных американцах. Ломать голову над природой и значением реальности — самая давняя и глубинная причуда Америки, уходящая корнями в реальности американской повседневной жизни. Человек, лишенный такой причуды и имеющий вместо нее богатое чувство прошлого, вкус к иронии языка и положений, различным нюансам, скрытым шуткам, тайным посланиям, загадкам, будет именно тем человеком, который посмотрит на рождающийся Диснейленд и увидит за его фасадом простую обыденность. На это, разумеется, хватило бы Во или Хаксли — гений Набокова повел его дальше, очеловечивая то, что скрывалось под поверхностью. Восприятие и воображение Набокова пробились сквозь мозолистую привычку ожидания — его образы заменили поверхностное изображение некоторых призваний и положений. Его «Лолита» легла новым слоем на двухмерную картинку-мультяшку Диснейленда (и ее общепринятые правды и шаблоны), изменив понимание того, что представляют собой в действительности дети, что они чувствуют, чем занимаются. Охотник за бабочками, как и созерцатель неба у Китса, пристально и долго смотрит на обыденность, понимая, что новое пятнышко или оттенок цвета могут возвестить о необычайном — подлинной награде для верного своему призванию наблюдателя. Однако охотник за бабочками, как я понимаю, редко глядит на комаров и мошек. Вкус, сознательный выбор, воспитание давно заставили Набокова объявить себя сторонником бабочек — это, положительно, преимущество, но, возможно, и недостаток. Потому что, если Красота вообще существует, весьма вероятно, что это мошка, а не бабочка. II. В «Лолите» Набоков утвердился как гений кажущейся обыденности. Что он никогда не был в состоянии понять об Америке, так это ужасающую вездесущность действительной обыденности, которая, когда на нее смотрят, только заявляет о себе снова и снова. Техника раскрытия прозрачного мира Гумберта Гумберта не подойдет для тесного мирка Джека Портного{231}. Теперь, в 1969-м, мы только зеваем, когда Во, скучая, приподнимает котелок и называет Голливуд высшим выражением Америки, подразумевая сравнение с превосходящей (хотя и обрюзгшей) цивилизацией и ее благородным (хотя и слабеющим) вкусом. Нам, недостойным с исторической точки зрения, снова говорят, что мы не по праву унаследовали землю от Европы, которая изобрела стиль, утонченность, вкус, мощь. Это немного шокирует, когда именно Владимир Набоков, устраивая свои дела в этом самом Голливуде сейчас, в 1969-м, прибивает к позорному столбу в журнале «Тайм» Мейлера и Рота за безвкусицу и фарс.{232} Это шокирует, пока не начинаешь понимать, что Мейлер и Рот писали именно в действительной обыденности Америки, в том самом американском комарином болоте, в которое Набоков не верит и которое сознательно отвергает. Ошибка в отношении комариного болота означает полное непонимание сути Америки, что теперь, в 1969-м, значит игнорировать настоящее и становиться неисторичным, ненужным, удобно устраиваясь современником Т.С. Элиота, Джойса, Льва Толстого. Старые игры с язвительными ответами противникам тоже не соответствуют времени: испытывать к туземному населению Америки только любопытство или отвращение — такое же мошенничество, пусть даже несознательное, как миссионерство, как Во, как Хаксли, как Швейцария. Разумеется, через пятьдесят лет все это не будет иметь значения: через пятьдесят лет будут помнить, что современником Набокова был Элиот, а не Рот; история все поставит на свои места в соответствии с чувством, а не с хронологией. III. Отстранение от непосредственного, от насущного, этих источников раздражения, которые заставляют Мейлера и Лоуэлла отправляться в путь{233} (и, с точки зрения Набокова, заставляют их отрекаться от своих ролей и обязанностей в литературе), составляет великую силу Набокова, но кое-что он теряет: только человек с врожденными преимуществами Набокова смог бы овладеть действительной обыденностью, то есть человек поистине лишенный родных для Америки отправных точек. Однако теперь Америка требует снятия всех ограничений, и это уничтожает тормозящие факторы вкуса и традиции. Теперь американская литература передает все, включая запор Джека Портного (который Набоков ошибочно сбрасывает со счетов как фарс). «Ада» демонстрирует громадное расстояние, разделяющее Набокова и Америку 1969 года. Вой Александра Портного и декламации и акции Мейлера принадлежат наивной точке зрения, в которой есть надежда, ожидание, громогласное требование того, чтобы настоящее отдало людям все свои возможности. В «Аде» Набоков пишет из другого, более печального мира, уже отказавшегося от борьбы за настоящее. Ностальгия представляет собой значительную часть измерения такого искусства, как язык и магическая среда, содержащая все от лирических красот до откровенной игры. Мнения Набокова и Рота (или Мейлера) относительно того, что Конрад называл «спасательными работами», в корне различаются. Для Рота необходимо рассказать даже о запоре Джека Портного и мастурбации Александра Портного, спасая их тем самым от возможности быть погребенными заживо в действительной обыденности. Для Набокова «спасательные работы» — это не просто вспоминание прошедшего. Они заставляют прошлое восстанавливать себя в настоящем и с помощью искусства делать вид (или верить), что можно вынудить настоящее быть скорее бабочкой, чем мошкой. Для Набокова Мейлер и Рот всего лишь персонажи в безумной американской сказке, которые утверждают, что небо рушится на землю. И они в свою очередь способны только показать ему пальцем на это небо. Jack Ludwig. The ordinary is too // Nabokov. Critisism, reminiscences, translations and tributes. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 346–349 (перевод А. Патрикеева). Альфред Кейзин Дань уважения Наконец-то пробил час триумфа Набокова. Теперь он — воистину король того презренного массового общества, которое почему-то именуется современной литературой. И королевский триумф состоялся не только благодаря «Аде» — поистине королевскому наслаждению! — но и потому, что Набоков не принадлежит никому и ничему, кроме себя самого. Вольно нам называть его королем — для него не существовало политики, и в тех эфемерных отношениях с миром, в которые приходилось вступать его гению, он не видел никакого смысла. В наше время, когда надо всем довлеет политика вкупе с так называемой «исторической необходимостью», когда куда ни кинь — сплошные конфликты на расовой и социальной основе, Набоков стоит выше всего этого, у него нет иной родины, нежели выпестованный им самим внутренний мир. Он, пожалуй, единственный в своем роде — беженец, сумевший обратить утрату отечества себе во благо. Приехав в 1919 году в Крым неимущим, он, по-своему безоговорочно и бескомпромиссно, стал абсолютным монархом целого мира. Мучения многих достойных и талантливых писателей в аду тотальной покорности, насаждаемой Советами, представляют собой разительный контраст — ирония судьбы! — с внутренней свободой нашего барина — последнего из аристократов, благодаря таланту которых русская литература получила международное признание. Воображаемое королевство Набокова заставляет его читателей краснеть от стыда за собственную не-свободу, за тяготение к оковам государственности и суровым политическим абстракциям. Не кроется ли подлинная свобода в одном чистом вымысле? Чья жизнь более надуманна: рабов политической «реальности» или отверженных изгнанников, черпающих блаженство в мире своих фантазий? И где мы, пребывающие в еще более безжалостной мясорубке «прогресса», можем найти тепло, уют, внутреннюю гармонию, иначе как прячась от тирании окружающих нас тягостных фикций в спасительном царстве Вымысла? Трагедия нашего поколения в том, что мы в идеале стремимся сеять доброе и вечное, но этот, по сути, религиозный порыв безжалостно задушен политическими выскочками и их агрессивной лексикой. Быть может, нам, послушно прозябающим в окружении таковых реалий, следует склонить голову перед Набоковым, презирающим их по праву гения, и отсалютовать ему за то, что он сумел быть свободным. В эпоху тотальной пропаганды в тоталитарном государстве, когда власть одобряет насилие, для понимания которого требуется какой-то иной гений (может быть, гений зла), в эпоху беспредельного господства Общества как такового, в котором единственно возможным героем является Существо, Смирное до Беспредельности, русский американец Набоков живет себе в Швейцарии, творит в своем волшебном мировремени, в полной мере вкушая от нашего изумленного восхищения, затмившего даже уважение к мастеру. Alfred Kazin. A Tribute // Nabokov. Critisism, reminiscences, translations and tributes. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 364–365 (перевод Н. Казаковой) Джойс Кэрол Оутс{234} Субъективный взгляд на Набокова Мир искусства являет нам ошеломляющее богатство художнических индивидуальностей, самораскрывающихся в необозримом множестве стилей. Одни творческие индивидуальности так прочно укоренены в конкретном месте и времени, что их воплощаемое в искусстве «я» не мыслится иначе, нежели проекция эпохи, в которую они живут и творят; другие, напротив, с не меньшей решительностью дистанцируются от того или иного момента во времени и пространстве. На одном из полюсов высится чисто американская индивидуальность Уолта Уитмена, чья «Песнь о себе» менее всего похожа на песнь о нем самом; на противоположном — фигура Сэмюэла Беккета, чьи романы-монологи, бесспорно, воплощают в себе некое конкретное «я», но «я», почти лишенное опознаваемых черт и при этом погруженное в реальность, предельно остраненную от «мира», какой мы привычно видим вокруг себя. Набоков, разумеется, стоит ближе к Беккету, однако гений его обладает несравненно большей завораживающей силой. Ибо гению Набокова свойственна способность неутомимо — подчас озадачивая читателя — вторгаться в мир в поисках красивых видов, впечатляющих звуков, слов, знаков, беззастенчиво использовать этот мир в целях, ведомых ему одному, буквально перетряхивать его, стремясь освободить от мельчайшего налета того, что сам Набоков презрительно назвал бы «банальной», несубъективной реальностью. «Лолита» — один из самых блестящих американских романов, триумф стиля и воображения, лучшее (пусть и не самое характерное) из набоковских творений, причудливый симбиоз по-свифтовски неистовой сатиры с той трепетной, любовной неспешностью, какая отличает человека, неподдельно влюбленного в зримые тайны этого мира. И в то же время мы чувствуем себя разочарованными, стоит самому автору заговорить о своем творении. И неудивительно: ибо в сердцевине его художнической натуры пульсирует некое высокомерие, грозящее порой заслонить от нас подлинные его достоинства. «Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности», — декларирует он, комментируя выбор для своего произведения «некоторого количества североамериканских декораций». И оказывается по-своему прав: не будь этого стимула, не будь этой «вдохновительной среды», и роман никогда не появился бы на свет. Маркс видел историю как текущий процесс, в ходе которого неисчислимое множество людей борются за решение своих задач. Пожалуй, и литературу можно рассматривать как процесс, в ходе которого неисчислимое множество индивидуумов озабочено тем, чтобы зримо воплотить «образы» самих себя и своего времени; так и происходит: любое произведение искусства запечатлевает натуру своего творца в момент творения. И в то же время нельзя упускать из вида, сколь невероятно различны мы все, живущие на земле; сколь взаимно несопоставимы наши взгляды на реальность. Итогам такого положения дел оказывается то, что реальность как таковая, словно повинуясь логике некоего невообразимого эйнштейновского парадокса, бесконечно умножается в мыслительных аппаратах наших голов, превращаясь в не поддающееся подсчету множество осколков, каждый из которых равновелик любому другому. Всю существующую литературу, несколько огрубляя, можно дифференцировать на творчество писателей, с энтузиазмом разделяющих такое видение реальности — иными словами, провидящих божественное начало во всем сущем (американские трансценденталисты, Достоевский, мистики), и, с другой стороны, на произведения литераторов, начисто такой взгляд отвергающих; последние истово веруют в то, что они сами, как отдельно взятые индивидуумы, вполне наделены всем, что свято или по меньшей мере значимо; ощущение родства или общности с другими людьми у них тотально отсутствует. Более того: писателям данной ориентации подобное ощущение родства или общности, по сути, недоступно, ибо они попросту не верят — или не вполне верят, — что другие люди действительно существуют. Набоков некогда констатировал, что банальная реальность, коль скоро на нее не накладывается субъективное видение, тотчас вянет и скукоживается. Из этого, разумеется, следует, что обычные люди — не столь завораживающие, как Лолита или прочие объекты мощного, чувственного набоковского воображения, — тоже обречены на этот жалкий удел, если только их не наделит непреходящей ценностью некто извне. Источником этой «ценности» не могут быть они сами и уж никак не природа; таковая может быть сообщена им, привнесена, вдунута мощной, уверенной, магической индивидуальностью. Но что же это за индивидуальность, что за богоподобное создание? Кому из читателей, знакомых с самыми характерными, самыми прозрачными набоковскими творениями (такими, как «Другие берега» или «Ада»), придет в голову усомниться, что это — сам Набоков и никто другой? Анализируя творчество Набокова, оказываешься перед необходимостью подвергнуть анализу собственное отношение к нему. Полагаю, что как художник, сознающий себя таковым (что порою ставит его на грань одержимости), он непревзойден. Есть критики вроде Мэри Маккарти, кто, пресытясь избыточностью «Ады», подумывают о том, что в свое время, возможно, переоценили его ранние произведения — такие, как «Бледный огонь». Что касается меня, я считаю неправомерным и едва ли справедливым придавать чрезмерное значение слабейшим книгам того или иного писателя. В конце концов, все мы хотим, чтобы о нас судили по нашим высочайшим свершениям; логично не отступать от этого великодушного принципа и по отношению к другим. Итак, сегодня перед нами — неповторимо своеобразные, завораживающие, филигранно выточенные изделия Набокова-художника, воплотившиеся в стройные ряды букв на книжной странице этюды зрелого литературного мастерства, безошибочно приводящие на память шахматные композиции. Да останься он автором только «Лолиты», «Пнина» и «Других берегов», и то он не перестал бы быть тем эксцентричным и блистательным НАБОКОВЫМ, какого мы знаем сегодня. Все мы воздаем должное Набокову-художнику. Однако где-то в глубине моей души затаилось совсем иное и, признаюсь, чисто личностное отношение к Набокову. Мне он представляется фигурой в своем роде трагической: в чем-то героической в своем добровольном одиночестве, но в такой же мере и одержимой манией величия, бесплодной, оказывающей даже мертвящее воздействие на воображение. Это фигура, способная ввести в гораздо более глубокую депрессию, нежели Кафка, веривший, что божество живет повсюду, только не в нем самом, взыскующий его со всей страстностью и втайне полагавший, что когда-нибудь, на каком-то отдаленном изломе его жизненного пути искомый прорыв к божественному все-таки произойдет. Набоков же очищает вселенную от всего, что не является Набоковым. А затем наделяет значением и смыслом (которые могут показаться преувеличенными и даже смехотворными, как в «Аде») существование избранных индивидуумов, фокусируя мощную энергию своего воображения на этих немногих счастливцах, а на долю огромного большинства остальных оставляя язвительные стрелы своего презрения и сочного юмора. Набоков демонстрирует едва ли не самую обескураживающую склонность к высокомерному презрению, какую можно встретить в сфере серьезной литературы, тот специфический дар обесчеловечивать, какой мне представляется более страшным, нежели аналогичный дар Селина или даже Свифта, ибо этот дар более рационален. Отшатываясь от бездн свифтовской мизантропии, сопровождавшей писателя на протяжении всей его жизни, можно на худой конец утешить себя мыслью, что возможно — возможно! — то необычайное постоянство, с каким он обрушивался на людей, кажущихся нам безвредными или даже симпатичными, исподволь диктовалось политическими мотивами. А видя, как проклятья, посылаемые миру Селином, оформляются в знакомую истории политическую философию по имени фашизм, можем вовсе сбросить ее со счетов или по меньшей мере отнести на счет временного помешательства, являющегося плодом той эпохи, в которую писатель жил. Но Набоков — какие аргументы можем мы привести в его оправдание? Разве только то обстоятельство, что ранний этап его биографии сложился и впрямь трагически, что на его долю выпало потерять отца, родину, весь привычно сложившийся жизненный уклад, потерять его богатый, нескованный и несказанно родной русский язык? Да еще тот факт, что по крови он не американец и что, следовательно, заложенное в его натуре презрение к демократическому идеалу столь же глубоко, столь же естественно, как его несравненный дар играть словами, изобретать шахматные задачи и ловить бабочек? И все же, отдавая себе отчет в том, какая непреодолимая пропасть лежит между Набоковым, изгнанником из России, и нами, американцами, нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что и русским писателем он, по сути, не является. Помимо и поверх всего прочего он — это он, и никто больше. Потому нетрудно понять, что он с таким презрением относится к таким «заурядностям», как Стендаль, Бальзак, Золя, Достоевский, Манн; суть этого авторского отношения определяется не тем, сколь они в действительности заурядны, а тем, что ни один из них не является Набоковым. Особенно достается от него Достоевскому, чьей всепроникающей любовью бывали объяты буквально все: проститутки, пьяницы, дебоширы, святые, помешанные и убогие, даже те, кто обещал стать прекрасным объектом для сатиры. В итоге, выплескиваясь за пределы конкретного «я» героя, любовь эта обеспечивала возможность создания такого шедевра, как «Братья Карамазовы» — романа, где «я» ширится до бесконечности, вмещая целый мир, объемля всех и каждого. Но, разумеется, одержимый постоянной заботой о художественной форме и экспрессии слова Набоков не только не мог солидаризироваться с подобным романным замыслом; ему не дано было даже постичь всю грандиозность того, что довелось осуществить Достоевскому. Joyce Carol Oates. A Personal View of Nabokov // Saturday Review of the Arts. 1973. № LP. 36–37 Постскриптум к «Субъективному взгляду на Набокова»Перечитывая этот «субъективный взгляд» почти десятилетие спустя, испытываешь непростое чувство. С одной стороны, утверждаешься в мысли, что многое из высказанного в нем могла бы повторить и сегодня; с другой — все более сомневаешься в безупречности импульса, побудившего в те дни придать этот взгляд огласке. Убеждаешься и в том, что в нем оказалось запечатлено присущее большинству из нас заблуждение; суть его — в отсутствии дистанции между личным мнением и литературным анализом. Сегодня попросту непостижимо, что побудило меня тогда противопоставлять столь своеобразную и бесспорно блистательную художническую индивидуальность, как Владимир Набоков, таким писателям, как Достоевский, или Манн, или, что уж вовсе нелепо, себе самой. Ведь уже в то время было ясно, что Набоков выполнил ту работу, какая была ему предназначена, иными словами, как предпочитают выражаться наиболее сентиментальные из наших современников, следовал своему жребию. Но именно для того, чтобы создать то, что было им создано, что надлежало оставаться тем человеком, которым он был, вести тот образ жизни, какой он вел, воспарять ввысь или погружаться в бездны, ведомые ему одному. А потому неуместно да и бесплодно сетовать на то, что он не стал Достоевским, или Манном, или еще кем-нибудь. За время, протекшее с января 1973 года, я стала или терпимее, или набоковообразнее в своих литературных пристрастиях (понимаю, что оба варианта — взаимоисключающие, однако они одинаково притягательны). И под таким углом зрения я отнюдь не склонна столь категорично и однозначно, как прежде, оценивать «пренебрежение», с каковым Набоков относился к огромному множеству созданных его фантазией персонажей; ведь что, как не это пренебрежение, явилось эмоциональным и психологическим двигателем его произведений? Взять хотя бы его шедевр «Бледный огонь» — прекрасное, многогранное творение, в сокровенной глубине которого, как под украшенным прихотливым узором панцирем некоторых разновидностей черепах, пульсирует нежное и крайне ранимое сердце; не в нем ли и секрет необыкновенной тщательности, той филигранной отделки, что отличает этот роман? Конечно, пренебрежение, презрительность, забавная мания величия, склонность к самобичеванию или даже насилию легче различимы в художественном произведении, нежели такое тайное пульсирующее сердце; однако последнее никак не менее значимо. Не мне судить, достиг ли Набоков тех пределов творческого мастерства, каковые он обозначил сам для себя. Но он безусловно преуспел в одном: в том, чтобы стать Владимиром Набоковым. А это многого стоит. Joyce Carol Oates. Postscript to a Personal View of Nabokov // Critical Essays on Vladimir Nabokov, Boston: G.K. Hall, 1984. P. 108–109. (перевод Н. Пальцева). 3. Некрологи  Владимир Набоков (рисунок Дэвида Скора) Владимир Набоков (рисунок Дэвида Скора) У.Л. Уэбб Набоков: последний из могикан Первый же вопрос, который возникает у автора некролога является одновременно и последним. Кто же такой Владимир Набоков? Неуклонно заявляющая о себе чуть ли не во всех его произведениях — начиная с «Машеньки», первого романа на русском языке (1926), и заканчивая последним, написанным по-английски «Смотри на арлекинов!», — его мощная индивидуальность исчезает, как только пытаешься разглядеть ее сквозь мириады призм его прихотливого искусства. (Отложим на минуту в сторону «Память, говори» — его автобиографию, путешествие к духовной отчизне, оберегающее сознание, подобно «Интуристу».) Перефразируя афоризм Брехта о Карле Краусе и его эпохе, о Набокове можно сказать: «Когда роман заносит над собой нож, дабы прекратить свое существование, этим ножом является сам автор». Набоков наверняка был бы не в восторге от такого сравнения, однако в каком-то смысле оно ему подходит. Если посмотреть, как он работал над формой, убеждаешься, что любого, кто захотел бы продолжить путь вслед за Стерном и Джойсом, после «Бледного огня» и «Ады», подстерегает тупик; в то же время его великие русскоязычные романы кладут конец центральной линии русского модернизма. В самом деле, много ли романов, написанных по обе стороны Атлантики, проникли столь глубоко в сознание современного американца, как «Лолита»? Окидывая единым взором весь его творческий путь, невольно чувствуешь головокружение: девять романов на русском, восемь на английском, несколько сборников рассказов и стихов, ряд пьес (написанных между 1922 и 1938 гг.), о которых мы почти ничего не знаем; внушительное четырехтомное издание «Евгения Онегина» — 10 процентов текста, 90 — комментариев, демонстрирующих ошеломляющую эрудицию; «Слово о полку Игореве» и другие переводы, очень любопытная и очень личная книга о Гоголе; не говоря уже о — помните? — «Nearctic Members of the Genus Leucaeides» и других работах о мотыльках и бабочках, которых он чисто по-свифтовски превозносил над всеми иными особями. Даже по объему и разнообразию это оставляет позади большинство прославленных писателей викторианской эпохи. Что до качества, то… «Я люблю сочинять загадки с изящными решениями». Или, как пишет повествователь в «Аде», «Apres son grand Joyce on fait son petit Proust»[262], не говоря уже о Кафке (воистину великом), или маленьком Чехове, или Гоголе. Оценивая его писательскую репутацию, теперешнее отношение к нему, как-то странно вспоминать, что впервые он предстал перед англосаксонскими любителями романов как субъект свежего литературного скандала: автор книжки, вышедшей у самого придирчивого литературного порнократа Мориса Жиродиа (Это издание «Лолиты» в «Олимпии-пресс» Набоков впоследствии исключил из статьи о себе в справочнике Who's Who). Эта репутация явилась источником невероятного соблазна в глазах правоверных приверженцев Ф.Р. Ливиса в 50-е годы, да и позднее «критиканы» (как называл их писатель) до конца так и не отрешились от некоего чувства подозрительности по отношению к нему. Какова природа невероятных жестокостей и надругательств над телами и душами, столь явственно искажающих пленительную тонкость и глубину иных его романов? Вопрос до сих пор остается открытым (и, применительно к «Лолите», может быть найден один ответ, применительно к роману «Под знаком незаконнорожденных» — другой). Во многих предисловиях он в пух и прах разнес учение доктора Фрейда, венского шарлатана и знахаря, вместе со всеми прозрениями и озарениями последнего. Как бы то ни было, эти скрытые стороны его натуры и творческого мира восходят — по крайней мере, он позволяет это предположить — к тому, что кто-то из исследователей назвал «украденной Россией», к тому разрыву с родиной, который привел в 1919 году к отъезду Набокова на чужбину и пожизненному отлучению от окружения и культуры его юности. (Необходимо помнить, что Набоков был не просто очередным русским аристократом, у которого отняли родовое гнездо и богатство, но выходцем из высших кругов либеральной интеллигенции — иными словами, русским Тревельяном{235} или Бакстоном, по определению Ребекки Уэст.) Но то, что у него был отнят родной язык, приобрело символический смысл много позже, — когда из Москвы донеслась весть, что русский перевод «Лолиты» (предпринятый писателем по большей части для распространения в «самиздате») показался тамошним читателям неудобочитаемым и архаичным. Думаю, уже сегодня можно предсказать, что будущих читателей Набокова в наибольшей степени привлекут к себе те его русскоязычные романы, которые он создавал еще юношей в первые годы своего изгнания в Берлине. Но если уж вы хотите познакомиться с ним сейчас, когда его жизненный путь едва завершился, начинайте с «Подвига», «Защиты Лужина» (шахматного романа), «Дара», даже изящной коротенькой «Машеньки»; а затем, когда выйдет новое издание его автобиографии, обратитесь к ней: ведь при всей авторской предвзятости в ней нашел любопытное воплощение позднейший этап классической русской литературы, заключавшей в себе целый мир. Тот самый мир, который утратил Набоков. W. L. Webb. Nabokov: last of a line // The Guardian. 1977. July 5. P. 10 (перевод Н. Казаковой). Мартин Эмис Черный смех Ворчливо брюзжа по поводу «Ады» (1969), Джон Апдайк не без оснований предполагал, что надменный автор, мудрец из мудрецов, наверняка предвидел бесчисленные придирки и упреки в свой адрес и заранее презрительно отмахнулся от них. Подобная осмотрительность не случайна и легко объяснима. Немногие писатели могут позволить себе — в отличие от Набокова — столь вызывающее равнодушие к оценке своего творчества. И действительно, читая его, зачастую приходишь к выводу, что эти oeuvres[263] созданы именно для того, чтобы сначала оттолкнуть, осложнить и свести на нет робкие читательские попытки проникнуть в суть произведения… «Я горжусь тем, — говорил он в своем интервью в 1962 году, — что не рвусь к признанию публики. Я ни разу не напился. Я прекрасно обходился без пакостных словечек школьного репертуара. Я не был ни чиновником, ни шахтером. Я никогда не состоял ни в каких клубах или обществах. На меня совершенно не влияли какие-либо школы или группировки». Может быть, в этой смеси строгости и заносчивости (наиболее ярко проявлявшихся в его предисловиях и интервью, где в своей барственности он доходил порой до смешного) кроется причина, по которой он многим кажется весьма уязвимым. Сегодня никому не придет в голову оспаривать его величие, однако прицепиться к чему-нибудь — при желании — можно всегда. По мнению некоторых критиков, в частности Апдайка, неправдоподобно здоровый образ жизни Набокова лишил его способности маяться дурными предчувствиями, столь высоко ценившейся у критиков XX века. Набокову неинтересно копаться в «социально-психологических» тонкостях, гуманистический аспект в его книгах словно намеренно «недовыражен». Другие литературоведы опасаются Набокова из соображений моральной чистоплотности — им претит его трепетно сочувственное отношение к похотливому любителю маленьких девочек Гумберту («Лолита»), изворотливому персонажу из «Бледного огня», хитроумному убийце из «Отчаяния». А еще чаще критики и читатели дружно возмущаются тем, как Набоков играет словами и с нескрываемым чувством превосходства длинно и пространно излагает вещи, по сути, простые и очевидные. Подобные нападки Набоков отражал двумя способами. Излюбленный — огрызаться на критиков — доставлял ему удовольствие, сравнимое разве что с изучением бабочек. Набоковские высказывания о собственном творчестве были, как и предисловие к «Дориану Грею», сокрушительно вызывающими. «Мои книги не нуждаются в комментариях… Более всего мне противна литература с социальным подтекстом… В результате светлые и чистые идеи в романах, раздуваясь, превращаются в расфранченные банальности и — лопаются. Я не выдумываю, что писать, я просто сажусь и пишу». Связываться с Набоковым не осмеливались даже его ярые противники — в противном случае критикам и рецензентам срочно пришлось бы переквалифицироваться и заняться изучением разнообразных дисциплин, в которых писатель слыл докой. «От червоточин и разъедающей ржавчины литературу охраняет отнюдь не ее социальная направленность, но лишь само искусство, только искусство». Какое же оно, искусство Набокова? Он стремился в прозе воссоздать такой стиль, в котором бы воплотились утонченность и полнокровность его восприятия. Но «звукоряд» его романов настолько перенасыщен образами, что среди них совершенно не слышны извечные мотивы о морали и нравственности, добре и зле. Martin Amis, Dark Laughter // New Statesman. 1977. July 8. P. 55–56 (перевод Н. Казаковой). Фредерик Рафаэль{236} Изгнание: боль и гордыня На современников Набоков наводил ужас. Простая встреча с ним оборачивалась экзаменом. При звуке его имени люди трепетали: читая лекции в Корнелле, он выгонял с занятий студентов, которые неправильно произносили его имя. Вла-ди-мир-На-бо-ков — и вы уже никогда не забудете… Лишь достигнув 60 лет, он смог позволить себе — благодаря «Лолите» — бросить преподавание и засесть за свои романы, перевод и редакцию «Евгения Онегина». В 1956 году его пригласили возглавить кафедру английского языка одного крупного университета, но затем передумали. «Джентльмены, — заявил один из профессоров, — мало ли кто может возомнить себя великим писателем. Не станем же мы приглашать слона занять кресло профессора зоологии?» Его мир был миром одиночки. Эмигрант, достигший высот дипломатического высокомерия: он отказывался признавать Советы яростнее, нежели они его. Любитель шарад и ребусов, он мастерски составлял шахматные задачи, его литературному творчеству была присуща изощренная изобретательность. Критики столкнулись с оппонентом более чем искушенным в умении наносить скрытые удары. Ученые мужи приходили в ярость, увязая в его каламбурах. С завидным упорством и ехидством он боролся против малейшего принижения его гения. Но был ли он гением на самом деле? Его исключительная работоспособность не подлежит сомнению. Его Пушкин — лучшее тому подтверждение. Сей высочайший акт литературного прилежания (около полутора тысяч страниц перевода с комментариями) повлек за собой жаркую полемику автора с Эдмундом Уилсоном. Поначалу казалось, что Набоков терпит сокрушительное фиаско, однако в итоге Уилсону самому пришлось изворачиваться, как ужу на сковородке. На Рождество Набокову пришел конверт от Уилсона, из которого выпорхнула огромная черная бумажная бабочка: дань уважения великому полемисту и энтомологу. Письмо, приложенное здесь же, гласило, что никогда прежде литературная баталия не приносила Уилсону столь глубокого наслаждения. Сам же Набоков утверждал, что ему лично этот спор не доставил никакого удовольствия, а его утонченная церемонность была не более чем вежливой маской. Но кому еще удалось столь полно и пронзительно передать боль по ушедшей любви и другим утратам. Наибольшей потерей для него была Россия поры счастливого детства. Для Набокова кровь и грязь исторических катаклизмов не существовали, поскольку он отказывал им в самом праве на существование. Время для него было подобно приливу Canute, воды которого можно повернуть вспять. Свой литературный трон он воздвиг на краю этого прилива, вновь и вновь бросая вызов, казалось бы, раз и навсегда установленному и бесспорному порядку. Он дерзнул оспорить самого Ливиса, поставив Герберта Уэллса выше Конрада — еще одного английского писателя не английского происхождения, продемонстрировавшего нам искусство письма. Его вздорная самоуверенность могла сравниться разве что с его величием. В 1959 году Кингсли Эмис посвятил только что вышедшей «Лолите» разгромную статью — мол, «что он, черт подери, себе позволяет!» (Крестным отцом «Лолиты» был Грэм Грин.) Спустя годы Набоков упрекнул друга, передавшего Эмису запальчивые слова о том, что Эмис — третьесортный литератор. «Я сказал „второсортный“», — мягко поправил он. Нет, его оценки далеко не всегда отличались беспристрастностью — достаточно вспомнить хотя бы его уничижительные отзывы о Борхесе.{237} И тем не менее его безграничная преданность литературе достойна всяческого восхищения: ни политические, ни личные мотивы не могут заставить писателя отступить от требований высшего порядка, а именно литературных. Для Набокова, как и для Флобера, писательство было une maniere speciale de vivre[264]. Лично мне из его работ ближе «Бледный огонь», «Король, дама, валет», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Смех во тьме» и «Память, говори». И разве можно усомниться в таланте автора, во втором ряду созданий которого «Лолита», «Пнин», «Приглашение на казнь», «Ада», «Дар», «Защита Лужина»? Высокомерного, порой до безрассудства, своего рода благоухающего Филоктета, изящного Дон-Кихота, без устали выпускавшего на волю бабочек-химер своего необыкновенного ума, на фоне которых большинство его пишущих современников казались не более чем убогими гусеницами. Frederic Raphael. The pain and pride of exile // Sunday Times. 1977. July 10 (перевод Н. Казаковой). Альфред Кейзин Мудрость, обретенная в изгнании Смерть 78-летнего Набокова грянула как гром среди ясного неба. Он, похоже, не допускал мысли о бренности своего гения, о бренности Набокова-русского, Набокова-американца, Набокова — романиста, переводчика, ученого, энтомолога, спортсмена, скептика в политике. В самом факте существования Владимира Набокова он черпал столько веселья, столько гордости, что я его себе представляю таким же, как и его бесшабашный олимпиец-двойник из «Ады», — живым, влюбленным, готовым к приключениям, столетним старцем и гением, излучающим токи насмешливой власти. Набоков был необыкновенной личностью. Он обладал неиссякаемой энергией, за что бы он ни брался, у него все получалось, можно подумать, что он родился в рубашке. Он был невероятно, безумно, вызывающе талантлив; наконец, он был просто красивым мужчиной; его мысль была одновременно порывиста и педантична, юмор и фантазия прекрасно уживались с дотошностью и скрупулезностью, разум искал новых и новых открытий. Даже история его семьи овеяна легендами. Набоков рос любимым первенцем в петербургской семье (Санкт-Петербург славился тем, что в нем говорили на чистейшем русском языке), принадлежавшей к дворянскому роду, хотя и не особо знатному. Из таких семей вышли многие яркие личности, крупные государственные и политические деятели, традиционно стоявшие в оппозиции царскому самодержавию, его обскурантизму и расовой ненависти. Отец Набокова, Владимир Дмитриевич, юрист и издатель либеральной газеты, питал нежную любовь к английской литературе и демократическим принципам. Его даже арестовывали, правда ненадолго, за несогласие с монаршим решением о разгоне Думы. Свое презрение к властям он выразил, выставив на продажу свой парадный мундир. Деятельность отца в поддержку российских евреев помогла сыну и его жене-еврейке бежать в 1940 году из гитлеровской Европы — памятуя заслуги Набокова-старшего, в их спасение вмешалась еврейская благотворительная организация. В 1922 году, закрыв собой либерала Милюкова, В.Д. Набоков был застрелен русскими фашиствующими молодчиками. Эта жертва лишь укрепила Владимира Набокова, новоявленного русского писателя-эмигранта, в решимости стать продолжателем славной и благородной семейной традиции; независимо от того, на каком языке он будет писать свои произведения, он навсегда останется ученым, преподавателем и безжалостным критиком тоталитарного мышления и тоталитарной государственной практики нашего столетия, отмеченных влиянием Ленина. Нравственное наследие прошлого и твердость убеждений вкупе с трогательной привязанностью друг к другу членов семьи Набоковых на первый взгляд противоречат устоявшейся репутации писателя как странного и капризного эксцентрика, проповедующего идеи туманные и невразумительные. Его самая известная и самая скандальная книга — «Лолита» — была впервые публикована в «Олимпии-пресс» — парижском издательстве, специализирующемся на выпуске эротической литературы. Романы, которые Набоков написал по-русски и впоследствии перевел на английский (вместе с сыном Дмитрием), — «Машенька», «Король, дама, валет», «Дар», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь»; после «Истинной жизни Себастьяна Найта» он писал только по-английски: «Под знаком незаконнорожденных», «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Ада» — по сей день будоражат и изумляют читателей, хотя многие считают их порочными по содержанию и язвительными по форме. Однако в глубине души этот последний из великих модернистов XX века{238} был, так же как, например, Пруст, Джойс, Фолкнер, Элиот, ярым приверженцем традиционализма. Модернизм, как мы теперь задним числом осознаем, был экспериментален по стилю и приемам; по сути же он был протестом против массового общества и присущего ему конформизма, вызовом гениев-одиночек жизни, лишенной нравственных принципов. Еще до 1917 года в России находились писатели, чьи творческие эксперименты и дерзость противостояли стандартам массового общества и интеллектуальной двуличности, являвшейся следствием политического авторитаризма, воцарившегося во всех сферах российского общества. Изгнание оказалось наиболее благодатной почвой для расцвета модернизма. Но никто из мэтров модернизма не переживал столь мучительно отрыв от родных корней. Куда бы ни забрасывала Набокова судьба — в Германию, Англию, Францию, Америку, под конец в Швейцарию, — начиная с двадцати лет, он неустанно развивал славные традиции высокого искусства и свободы выражения. На протяжении следующих двух десятилетий за какие только занятия он не брался, подрабатывая то преподавателем, то учителем русского языка, то инструктором по теннису, то переводчиком, — лишь бы обеспечить семью. И в то же время вдохновенно корпел над романами, которые впоследствии прославили его на весь мир — для русской аудитории под именем Сирина. Набоков ненавидел штампы — своих заклятых врагов, рождавшихся от слияния культуры с политикой. Он неустанно повторял, что большая часть русских интеллигентов оказалась в изгнании потому, что они верили не в монархию, а в демократию. Всеми фибрами души Набоков ненавидел посредственность (еще одно любимое бранное словцо), самоуспокоенность и готовность довольствоваться дешевыми подделками, т. е. всем тем, что наводнило американскую культуру и образование. Герой «Ады», супермен-весельчак Ван говорит: «…Слово писателя существует исключительно в своей умозрительной чистоте, в своей неповторимой притягательности, для равно абстрактного склада ума. Оно принадлежит только своему создателю и не может быть произносимо или воплощаемо мимически <…>, потому что чужой ум нанесет смертельный удар художнику прямо на ложе его искусства». «Пагубное вторжение чужого ума» есть квинтэссенция всего, что было невыносимо для нашего русского барина. Он не столь отрицал, сколь, как ему казалось, делал вид, что не существует ни Фрейда, ни Фолкнера, ни Конрада, ни Камю, ни Пастернака, ни Солженицына. Сюда же по большей части зачислялся и Достоевский! В своем тщеславии Набоков замахнулся на самого Эйнштейна — причем именно на Эйнштейна-физика, а не сентиментального пацифиста. Набоковские нападки на других писателей кажутся смешными и слишком русскими. Он восхищался «Улиссом» Джойса и в то же время не признавал других, куда более интересных романов, вышедших из лона той же традиции (например, «Шум и ярость»). Он обладал сверхъестественным даром убеждать; неуемный в своем желчном, насмешливом, кипучем упорстве, достойном лучшего применения, он был одержим маниакальной жаждой обскакать современников. Он считал всех лжецами и мошенниками или — что еще хуже! — просто ничтожествами. Нередко он оказывался прав. И вообще, кто сказал, что гении должны быть паиньками, этакими агнцами, особенно те, чья жизнь прошла вдали от родины, те, кто был вынужден в одиночку противостоять въевшимся в массовое сознание расхожим стереотипам? Величайшее заблуждение, не уставал напоминать Набоков, заключается в том, что догматика и террор, на которых зиждется советское общество, таят в себе нечто более глубокое, нежели примитивное право сильного, господствующее в обычной воровской шайке. Каждая клеточка его существа, его недюжинного ума и упрямой совести кричала о том, что художник должен бороться не только за свое признание, но и против политических предрассудков. Человек невероятной духовной мощи, он являлся парией в глазах тех, кто жил прописными штампами. Он считал, что от этих штампов несет мертвечиной. С истовостью старовера он полагал, что предназначение искусства в том, чтобы оживлять умы, очищать воздух, исцелять человечество от интеллектуальной немощи. Не берусь судить, насколько он преуспел в этом, создавая свои романы. В погоне за прекрасным, недостижимым идеалом, который был неразрывно связан для него с тоской по родине, Набоков с присущим ему азартом и страстью к неожиданным эффектам, пародиям заставлял читателя восхищаться не столько тем, о чем он писал, сколько его невероятной филологической виртуозностью. Его наиболее очевидный порок заключался в интеллектуальном позерстве и откровенном самолюбовании (особенно ярко проявляющемся в произведениях, написанных по-английски), неминуемо заставлявших читателей ассоциировать Автора с его героями. Но гений Набокова в том, что перед его магнетизмом не могли устоять ни сторонники, ни противники. Колдовская техника хитросплетения слов, спору нет, — суть модернизма, однако у Набокова она превратилась в самоцель, в источник беспримерной гордыни, и в результате «Ада» получилась феерической скучищей. А ведь он претендовал быть волшебником, ни больше ни меньше. Он написал несколько прекрасных книг, но его магия сродни скорее дару виртуоза, нежели дару волшебника. Его талант не знает себе равных. Набоков, как никто другой, силой воображения мог проникать во внутреннюю суть предметов. То, что для большинства русских писателей-эмигрантов оставалось недостижимой мечтой, для Набокова было естественным правом и драгоценным даром. Долгое изгнание, безусловно, пошло ему на пользу. Свобода, сказал он однажды, стоит русским писателям отказа от родины. Alfred Kazin. Wisdom in Exile // New Republic. 1977. July 23. P. 12–14 (перевод Н. казаковой). Юрий Иваск В.В. Набоков 2 июля, после долгой болезни, скончался Владимир Владимирович Набоков. Ему было 78 лет. Кажется, Набоков единственный в мировой литературе писатель, который вырастил свой собственный литературный почерк на двух языках. Один из французов — друзей Тургенева — уговаривал его писать по-французски. Тургенев ответил: «Могу, но не хочу». А Набоков и мог и хотел и стал большим английским писателем. Весь англосаксонский мир его признал. Джон Леонард в «Нью-Йорк таймс» писал: «Набоков единственный еще здравствующий литературный гений». И не только он так думает. Но не знаю ни одного русского критика или читателя, который назвал бы Набокова гением, хотя его изумительный дар был оценен еще в начале 30-хгг. после опубликования «Защиты Лужина» в «Современных записках». Георгий Иванов Набокова высмеивал. Отзывы Георгия Адамовича были отрицательные. Снисходительнее был Владислав Ходасевич. Более высокую и проницательную оценку дали М.Л. Слоним, В.С. Варшавский, Н.Е. Андреев, Г.П. Струве, Герман Хохлов и некоторые другие. Многие зачитываются им в Сов. России. А.И. Солженицын назвал его диковинным писателем. Англичане и американцы писали о нем книги — это, например, «Ключ к Лолите» Карла Проффера или монография Эндрю Филда. А по-русски были только статьи. Не сомневаюсь: будут написаны о нем русские фолианты. Может быть, поставят ему и памятник, им самим описанный (не без иронии): Но как забавно, что в конце абзаца, Набоков — это, прежде всего (но не исключительно) игра слов, звуков — по-ученому, по-гречески, парономасия. Или каламбур — и на самом высоком уровне искусства. Он вовлекает в свою изумительную словесную игру русские и английские слова — забавные даже в тех случаях, когда развертывается трагическая ситуация, как в «Приглашении на казнь». Читатель может пожалеть «приглашенного на казнь» Цинцинната Ц. или русского швейцарца Эдельвейса, готовящегося совершить «Подвиг» (может быть, он намеревался убить Сталина…). Но не улыбнулся ли бы тут Владимир Владимирович? Может быть, «вызывание» жалости было для него только одним из литературных приемов. Веселый бес иронии почти никогда не покидал его. Комика Набокова восходит к английским «детским рифмам» или к полуабсурдным лимерикам, изобретенным британским гением. Один из них он перефразировал по-русски: Есть странная дама из Кракова: (Впрочем, и мы когда-то твердили чепуху: Пляшет дьякон в лихорадке, / Просит жареного льду / Положить ему на пятки…) Чем-то Набоков обязан Льюису Кэрроллу, и его книгу «Алиса в стране чудес» он перевел на русский язык за 5 долларов… Но не более ли всего обыграна им, и не только в русских, но и английских книгах, русская литература (и по существу, он был только русский, а не кто-либо другой). Родственны ему и нелепости Ноздрева (субтильное суперфлю{241}) и Лебядкина (Краса красот сломала член{242}), кошмары Сологуба (Недотыкомка серая) и Белого (господин Шишнарфнэ), словечки Бунина (Петухи опевают ночь{243}) или абсурд, врывающийся в интеллигентский быт Чехова (Тарарабумбия, сижу на тумбе я). Всех этих «штучек» у Набокова нет, но имеются их эквиваленты. Это не подражание, а косвенное воздействие. К тому же игра слов у Набокова едче-метче, чем у многих его литературных родственников. Сколько у него поразительных словосочетаний. Этим комбинациям нет числа, как ходам на шахматной доске или узорам на крылах бабочек (и он, напомним, был замечательный шахматист и лепидоптеролог). Словесные игрища Набокова забавляют, радуют. Но в них или за ними нет настоящего бытия. Всюду, как утверждал экзистенциалист Мартин Хайдеггер, ничего ничевочит (Das Nichts Nichtet). Но есть бытие в его лирике (преимущественно в прозе), в его автобиографиях: и об этом речь ниже. Ничевочанье или ничевоканье виртуозно изображено им в его недавней английской повести «Прозрачные предметы». Перевожу оттуда (едва ли удачно) эпилог. Главный герой Парсон — американский редактор, в припадке безумия задушивший свою жену (она русского происхождения). Он сгорает в швейцарском отеле: «Разноцветные расплывающиеся круги, маячившие около него, напомнили ему детскую картинку в жуткой книжке, где около мальчика в ночной рубашке все быстрее и быстрее вертелись торжествующие овощи. Он в отчаянии и хочет избавиться от этого яркого головокружительного бреда. Напоследок ему привиделась раскаленная книга или коробка — совсем прозрачная и пустая. Это и было оно: не кричащий страх смерти, а ни с чем не сравнимая боль, которая необходима для перехода из одного состояния бытия в другое. Это, знаешь, легче делается, сынок». Ужасна огненная смерть. Может быть, еще ужаснее то, что сгорел человек, который только притворялся живым на полутораста набоковских страницах. Сгорело ничего, которому все же очень больно. Не подтверждает ли Набоков шпенглеровский «Закат Запада», включающий и Восток — дореволюционную Россию, блестящий упадок — без веры в Бога и доверия к человеку. Но такая философия истории вызвала бы у Владимира Владимировича ироническую улыбку. Он мог бы сказать: Шпенглер — претенциозный немец… Самая эпохальная (как выразился бы Белый) книга Набокова — уже упоминавшееся «Приглашение на казнь». Эта отрицательная утопия, как мне кажется, художественно превосходит все другие: Достоевского (Хрустальный дворец), Валерия Брюсова («Республика Южного Креста»), Замятина («Мы»), Чапека («Р.У.Р.»), Хаксли («Прекрасный новый мир») и Оруэлла («1984»). Набокову привиделся не тоталитарный коммунизм в сверхиндустриальном будущем, а более жуткое торжество жестокой пошлости на руинах индустриализации (где-то на задворках ржавеет самолет, и люди опять обратились к конной тяге). Обитатели этого захолустного мирка — неопределенной национальности. Тюремный сторож — русейший Родион, палач — Пьер, главного героя Набоков наградил римским именем. Его жена блудливая Марфинька… Граждане утопии — самодовольные полуидиоты, которые приглашают Цинцинната на казнь оттого, что он другой — зрячий, видит красоту, способен любить. Гротескна подстроенная этими людьми будущего «трогательная дружба» палача и его жертвы. Весь этот тихий ужас (пошлости с примесью сентиментальности) страшнее фантазий других «отрицательных» утопистов. Уже на плахе Цинциннат догадывается: это все подделка, и вот на его глазах начинают распадаться и эшафот, и людишки. Его осенила та же счастливая догадка, что и девочку Алису (Льюиса Кэрролла), окруженную злыми силами. Она крикнула им: «Вы только колода карт!» И карточный ломик зла рассыпался. Самый живой человек в повестях Набокова он сам — в автобиографическом «Даре» и в воспоминаниях: русских («Другие берега»,) или английских («Память, говори»). Здесь главная тема: становление художника, который на самом деле жил, страдал, радовался, трудился. О нем не скажешь: уж не пародия ли он? Нет пародийности и в «лирических пассажах» Набокова, например, в рассказе о старой гувернантке, швейцарской француженке. В юности его восхищал ее «соловьиный голос, исходящий из слоновьего тела», и ей посвящена эта хвалебная и архаизированная фраза: «Сколь возбудительно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописывались для очищения крови». А последняя-вечная память о ней связывается для Набокова с виденным им на Женевском озере старым лебедем, который в непогоду старался забраться в шлюпку, и вот перед ним возникает тройственный образ: «лодка, лебедь, волна» («Другие берега»). Это, конечно, не пародия, а скорее стилизация элегии: не Ламартина ли, любимого поэта лозаннской старушки? Тот же элегизм есть и в одном из лучших коротких рассказов Набокова «Озеро, облако, башня», где он до блеска, до сияния отполировал, казалось бы, давно потускневшие «красивые слова» этой триады. Немало «ничевочащего» небытия в мире Набокова. А истинное бытие дышит, переливается не в набоковских героях, а в нем самом, в его искусстве, в его памяти, созидающей «вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства». Радостно, понятно — испытываемое им и не поддающееся определению блаженство жизнелюба-художника. «Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется все, что я люблю в мире», — пишет он в тех «Других берегах». «Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной <…> не знаю к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца». Пожил бы еще и одарял бы этим блаженством. Новый журнал. 1977. № 128. С. 272–276 В. Вейдле Исчезновение Набокова Он был мало сказать мастер; такой был он колдун и чародей, что именно исчезновением хочется назвать его кончину. Исчез, пожелал нас покинуть; захочет, вернется к нам. Но нет, не вернется. Не ему мне приходится сказать, совсем откровенно, все главное, что я о нем думаю. Четвертого июля, в Испании, включил радио, и парижский диктор сказал: «В Лозанне умер Владимир Набоков, знаменитый американский писатель русского происхождения, автор „Лолиты“, „Ады“ и других романов, имевших большой успех и переведенных на многие языки». Выключил. Ощутил печаль и пустоту; а также досаду. Следовало диктору сказать «русский писатель, во вторую половину жизни писавший по-английски». Но, конечно, в Москве с ним настолько согласятся, что не скажут о Набокове ровно ничего. Молодым его вспомнил. Не видел тридцать восемь лет. В переписке с ним не был. Но никогда не переставал ощущать его присутствия где-то там, в Америке, потом в Монтрё; где-то там, в литературном сознании моем, в мыслях о нынешней, а не вчерашней, и о русской, прежде всего, литературе. Он был всего щедрей одаренным русским писателем своего поколения и самым выдающимся эмигрантским автором, из тех, что не успели прославиться еще в России. Не будь Октября, он бы, конечно, не выселился из русского языка и стал бы, начиная с тридцатого года (когда печатался в «Современных записках» его роман «Защита Лужина») главным обновителем русской прозы. Но если б остался в СССР, ничего бы он не обновил, так как был бы до Бабеля выведен в расход или приведен в негодность задолго до Олеши. В эмиграции ему точно также не дано было совершить того, что совершил бы он в безоктябрьской России, — сперва потому, что его книги только вне России и читались, а затем потому, что перестал по-русски он писать. До этого, однако, успел написать целый ряд никогда не безразличных и уже самим своим «письмом» замечательных романов и рассказов, завершив все это полуавтобиографическим «Даром» и совсем автобиографическими «Другими берегами», а также повестью «Пнин», самой русской из его английских книг. «Жизнь Арсеньева» я люблю больше «Дара», но никакую другую эмигрантскую и не бунинскую книгу я бы не поставил рядом с ней. Переход Набокова в английский язык, которым овладел он в своем младенчестве даже и раньше, чем русским, — не преступление, и ставить ему такое решение в вину никто не имеет права, ни в России, ни в эмиграции. Да и вовсе не случайно, что самый западный изо всех русских писателей, любого века, так радикально на Запад и ушел. Но уход этот тем не менее большое несчастье, как для русской литературы, так и для него самого, — именно как писателя, а не в житейском смысле (тут обернулся уход большой удачей). Во-первых, его проза и манерою письма, и характером вымысла несравненно новей и обновительней в перспективе русской литературы, чем английской (или американской; но ничего собственно американского в его литературном искусстве нет). А во-вторых, западный литературный обиход середины XX века прямо-таки подсказывал ему то расширение границ изобразимого, которому наш в то время все еще сопротивлялся и которое его искусству пошло в ущерб, а совсем не впрок. Лучшая иллюстрация первого из этих утверждений — «Бледный огонь», у Шекспира заимствованным словосочетанием озаглавленная книга, частью в прозе, частью в стихах — превосходных, очень находчивых стихах, немножко в духе поэтов XVII века, больше всего Марвелла — необыкновенно сложно построенная, необыкновенно виртуозная, но и расхолаживающая этим своим блеском, слишком блестящим, слишком показным. Лучшим свидетельством в пользу второго служит не «Лолита», принесшая ее автору мировую славу и переведенная на множество языков, но более позднее, самое крупное по размеру произведение его, «Ада», которое вершиной его творчества не стало, хоть и похоже, что по замыслу предназначалось ею стать. Невозможно усомниться в том, что слава, принесенная «Лолитой» автору, была бы менее широка, если б тема книги была другая и если б отсутствовали в ней те многочисленные описания, из-за которых, в еще не столь давние времена, она продавалась бы только из-под полы или вовсе не была бы издана. Не может быть, чтоб и сам автор этого не сознавал. Так я подумал, когда впервые прочел «Лолиту», и я немножко пожалел Набокова: прежде ведь он о ширпотребе никогда не помышлял, и его требованиям ни в чем не шел навстречу. Но это я его «по человечеству» жалел, а литературно сразу же оценил «Лолиту» весьма высоко. Набоков, конечно, в силу самой уже «западности» своей только литературную оценку литературных произведений и признавал, всегда литературу в литературе запирал, всегда отвергал применение к ней каких-либо других критериев, кроме литературных. В этом я, однако, ни с ним, ни с теперешним Западом не согласен. Прежде всего потому, что этику от эстетики до конца отделить нельзя, а затем потому, что чрезмерная автономность литературных критериев вредит самой литературе. Пол — огромной мощи подчеловеческая стихия, а Любовь, хоть и движет (по Данту) «солнце и другие звезды», никакой материальной силой не наделена. В земной человеческой любви оба эти начала соединены — нераздельно, но и неслиянно. Выражение-изображение ее в искусстве не разрушает искусства — или, по крайней мере, человечности искусства, — лишь покуда низкая стихия не подменяет в нем высокую, либо совсем зачеркивая ее, либо отрицая (пусть и молча) различие между низким и высоким. В «Лолите» — и то лишь местами — всего только намечается путь к игнорированью этой разницы, но в дальнейшем ее автор именно по этому пути и пошел, и весьма далеко зашел, как о том свидетельствует «Ада». Не так уж важно, в какой мере художник обнажает физическую сторону любви, хоть и есть мера, всякий разговор о ней отменяющая начисто. Гораздо важней, ради чего и в каком духе он это делает. «Лолита» остается музыкой, лишь по временам досадно заглушаемой чем-то вроде пиццикато скрипок, повторяющих: секси-секс, секси-секс, секси-секс. Это очень помогло тиражу, а искусству очень большого вреда не принесло. Зато в «Аде» почти вся музыка из одного этого пиццикато и состоит, так что начинает вскоре звучать совсем не музыкально, а все декорации, весь реквизит кровосмесительной этой оперы отличаются крайне меня у Набокова удивившей миллиардерской безвкусицей, бесстильного стиля «grand luxe», в котором нарисован и главный миллиардер, и его папаша, прозванный, в довершение всех роскошеств, Демоном. В недавней беседе с испанским журналистом (см. «Континент», 11, стр. 28 приложения) Солженицын назвал Набокова писателем гениальным, что делает честь Солженицыну и что, без сомнения, очень близко к истине. Набоков был гениально или почти гениально одарен, но наше время, при недостаточном сопротивлении ему, надломило его дар, полной зрелости не дало ему достигнуть. В русской литературе он бы этой зрелости достиг именно потому, что она от западной отстала. Да и не мог он из нее выйти, и останется в ней. Никогда он Россию не забывал. Просвечивает она во всех английских его книгах. И еще во второй половине жизни принес он ей два дара, о которых стыдно было бы русским забывать: свой комментарий к подстрочному переводу «Онегина» и русский перевод «Лолиты», несмотря на сказанное мной, самой зрелой его книги и по которой лучше всего можно судить о его несравненном словесном мастерстве. Над могилой его не солгу. Но жалею, очень жалею, что и недоброе кое-что пришлось мне о его творениях сказать. Желаю им бессмертия. Я всегда его любил, всегда восхищался огромным его даром. Скорблю о его смерти и страстно хочу, чтоб о ней скорбела его и моя родина. Новый журнал. 1977. № 129. С. 271–274  В. Набоков с сачком (Д. Левин) В. Набоков с сачком (Д. Левин)
Примечания:1 Бем А. Русская литература в эмиграции // Меч. 1939. 22 января. № 39. С. 3. 2 Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение 1995. № 12 С. 70. 8 На посту. 1925. № 3. С. 20–23. 9 SL. P. 528. 10 Чернышев А., Пронин В. Владимир Набоков во-вторых и во-первых // Литературная газета. 1970. 4 марта. С. 13. 11 Чернышев А., Пронин В. Владимир Набоков во-вторых и во-первых. С. 13. 12 Урнов Д. Пристрастия и принципы: спор о литературе. М., 1991 С. 109, 104, 107 13 Любопытно отметить: одно из главных обвинений, предъявлявшихся Набокову недоброжелателями из числа эмигрантских критиков (а затем подхваченное советскими и постсоветскими набокофобами), — это обвинение в отрыве от национальных корней и традиций отечественной литературы; в то же время многие американские и британские критики (Кингсли Эмис, например) неустанно твердили об искусственности набоковского английского, считая писателя «русским волком в американской шкуре» (Crofts R.F. Vladimir Nabokov — А Russian Wolf in American Clothing // Modem Spark. 1965. Vol 159 № 1 P. 11). 14 Цит. по: Набоков В.В. Собр. соч. В 5 т. СПб, 1997 Т. 3. С. 553. 15 Набоков В. Собр. соч. В 4 т. М., 1990. Т. 4. С .264 16 Там же. 17 ПН. 1932. 13 августа. 18 В «Новой русской книге» так подписывали свои рецензии Ю. Офросимов и Р. Гуль. 19 Это время называет сам Набоков в предисловии к английскому переводу «Машеньки» (см. Pro et contra. С. 66). Б. Бойд относит начало работы над романом к осени 1925 г. (См.: Boyd-1990. Р. 241). 20 Цит. по: Pro et contra. С. 63. 21 Там же. 22 Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения М., 1991 С. 55 23 Струве. С. 164. 24 См., например: Luther A. // Ost-Europa. 1929. 4 Jan., Georges C. L'Esprit universel dans les lettres russes // Bulletin de la Societes d'Etnographie de Paris. 1928. 25 Струве. С. 122. 26 Boyd-1990. P. 354. 84 Долинин А. После Сирина // Набоков В.В. Романы. М, 1991. С. 7. 85 Там же. 86 Цит. по: Шаховская З. На мраморе руки // Русская мысль. 1977. 14 июля. С. 7. 87 Моэм У.С. Искусство слова. М., 1989. С. 77. 88 См.: NWL. P. 49. 89 См.: Октябрь. 1996. № 3. С. 129. 90 Boyd-1991. P. 36. 91 См.: Звезда. 1999. № 4. С. 14–19. 92 NWL. Р. 64. 93 SL. P. 41. 94 NWL. P. 69. 95 SL. P. 43. 96 Ibid. P. 45. 97 Опыты. 1957. № 8. С. 45. 98 Boyd-1991. P. 40. 99 Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова. М., 1997. С. 24. 100 Набоков В.В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 196–197. 101 NWL. P. 183. 102 Государственный переворот (фр.). 103 Перевод А. Спаль. 104 Здесь: достоинства (фр.). 105 NWL. P. 188. 106 Набоков В. Лолита. М., 1991. С. 341–342. 107 Цит. по: Грациа Э. де Девушки оголяют колени везде и повсюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения. (Главы из книги) // Иностранная литература. 1993. № 3. С. 199. 108 NWL. P. 288. 109 Op.cit. Р. 288–289. 110 Op.cit. P. 289. 111 Цит. по: Грациа Э. де. Цит. соч. С. 200. 112 Там же. С. 206. 113 Свою версию разрыва с главой «Олимпии-пресс» писатель изложил в статье «Лолита и г-н Жиродиа». См.: Набоков В.В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1995. Т. 2. С. 589–600. 114 Успех скандала (фр). 115 SL. Р. 239–240. 116 Грациа Э. де. Цит. соч. С. 215. 117 Цит. по: Шаховская З. Цит. соч. С. 98. 118 SL. P. 184. 119 Анализ любовного чувства (фр.). 120 «Черного романа» (фр). 121 Но я любил тебя, я любил тебя! (фр.) 122 Перевод Самуила Маршака (сонет 129). 123 Воинству сатаны (лат.). 124 Полный свод (лат.). 125 Здесь: мрачной поэзии (фр.). 126 Bruder — брат (нем.). 127 Набалдашник трости (фр.) 128 Нравственной болезни (англ.). 129 SL. Р. 140. 130 SL. P. 178. 131 SL. P. 212–213. 132 В то время французский «анти-» или «новый» роман находился на гребне литературной моды, и поэтому многие американские критики рассматривали «Бледный огонь» в качестве первого американского «антиромана». 133 Перевод В.И. Бернацкой. 134 Перевод В.И. Бернацкой. 135 Крайний, экстремальный (англ.). 136 Перевод В.И. Бернацкой. 137 Перевод В.И. Бернацкой. 138 Игре ума (фр.). 139 Скучно (фр.). 140 Скучно (нем.). 141 Перевод В.И. Бернацкой. 142 Frost — мороз (англ.). 143 Shade — тень (англ.). 144 Перевод П. Мелковой. 145 Перевод А. Голова 146 Цит. по: Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 29. 147 Цит. по: Pro et contra. С. 162. 148 НЖ. 1957. № 49. С. 130. 149 Цит по: Pro et contra. С. 206. 150 NWL. P. 205. 151 См.: Boyd-1991. P. 320; SL. Р. 342. 152 SL. P. 358. 153 Главное произведение (лат.). 154 Длинноты (фр.). 155 К слову (лат.). 156 Трудов (фр.). 157 Курьезов (ит). 158 «Послеполуденный отдых фавна» (фр.). 159 Здесь: восторг (фр.). 160 Очень показательна в этом отношении фраза из его незабываемого мемуарного романа: «Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера» (Владимир Набоков. Другие берега. Нью-Йорк, 1954. С. 103) (Примеч. Л. Гершенкрона). 161 Ср., например: церковно-славянские слова «ланиты» (cheeks), «перси» (breasts), «вежды» (eyelids), «уста» (lips), «цевница» (pipe), денница (dawn); последнее слово в пушкинском контексте означает «sunrise», и потому выражение «ray of dawn», которое Набоков находит для пушкинского «луч денницы», звучит странно, поскольку можно говорить о полоске зари, но не о луче в общепринятом значении этого слова (Примеч. А. Гершенкрона). 162 Никто, пожалуй, не почувствует ничего архаичного в блоковской строке: «И вновь пустынным стало море» (Примеч. А. Гершенкрона). 163 Другое дело, впрочем, что, когда русский ставит личное местоимение позади, то в ударном слоге предшествующего глагола или прилагательного ударе ние акцентируется, и фраза тем самым приобретает грустный и извиняющийся оттенок. Это, конечно, имеет место и в данном случае. Таким образом, «непонятна я» совсем не то же, что «я непонятна». Впрочем, тут бесполезно сетовать на потерю тонкого нюанса (Примеч. А. Гершенкрона). 164 Предшественник Пушкина, Батюшков, несомненно, часто использовал слова, чье французское происхождение легко проследить. Но интересно, что в очень подробных и критичных заметках Пушкина на полях книги стихотворений Батюшкова лишь однажды встречается неодобрительная пометка: «Галлицизм!». См.: «Заметки на полях второй части „Опытов в стихах и прозе“ К.Н. Батюшкова». А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во Академии наук, 1949. Т. XII. С. 260 (Примеч. Л. Гершенкрона). 165 Три соображения, излагаемые Набоковым, не могут полностью объяснить все странности его перевода. Русский, когда хочет сказать о передвижении по воде на каком-то судне, говорит: «плыть на нем». Шекспировская Розалинда действительно говорит о «плавании в гондоле», но, когда Набоков заставляет Пушкина говорить то же самое, он вызывает в воображении гондолу, заполненную водой, и грубо искажает смысл русского слова. Единственное объяснение этому — игривость и эксцентричность переводчика (ЕО, Глава первая, XLIV) (Примеч. А. Гершенкрона). 166 Набоков передает имя Пушкина как Aleksandr, но для имени Евгения избирает английское написание; в первом случае это эксцентричность, во втором же, возможно, естественная уступка требованиям размера (Примеч. Л. Гершенкрона). 167 Vladimir Nabokov. On Translating Pushkin, Pounding the Clavichord // New York Review of Books. 1964. April 30. P. 14–16 (Примеч. А. Гершенкрона). 168 Alexander Pushkin, Eugene Onegin, A New Translation.. by Walter Arndt New York, 1963. P. 50 (Примеч. А. Гершенкрона). 169 Как и «Горе от ума» Грибоедова, замечательная комедия в стихах, искажение текста которой начинается с перевода заглавия, обычно передаваемого как «Woe from wit» (Примеч. А. Гершенкрона). 170 С соответствующими поправками (лат.). 171 Бездарный (нем.). 172 Любителю изумлять студентов (фр). 173 См., например, статью А. Иваненко в пушкинском «Временнике» (М.; Л., 1941. VI. С. 526–527) (Примеч. А. Гершенкрона). 174 Безусловно, для ЕО является исключением рифмовка «скучно» со словом, оканчивающимся на «…учно» (Глава вторая, XIII: «скучно — неразлучно»). Пушкин считал подобную рифму простой зрительной, а их он определенно избегал. См. его заметку «Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme» (Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во Академии наук, 1949. Т. XI. С. 200) (Примеч. А. Гершенкрона). 175 Пушкин А.С. Полное собрание… С. 149. Когда читаешь подобные комментарии Набокова, на память приходит то место из замечательных мемуаров Андрея Белого, где рассказывается, как его дядя — взъерошенный конспиратор и нигилист, прибыв из Петербурга в Москву, раздражает москвичей тем, что выговаривает «что» так, будто в слове не одно, а целых пять «ч». В Москве и большей части России говорят, конечно, «што». Набокову, гневно осуждающему употребление ужасного «советского провинциализма» — «брюки», стоило бы обратить внимание на то, что это слово встречается в сочинениях такого провинциального писателя досоветской эпохи, как Лев Толстой, который употреблял даже ласкательно-уменьшительное «брючки». (См.: Толстой Л.Н. Детство, глава XV.); так же естественно он пользовался и словом «чубук» для обозначения трубки с длинным мундштуком («Юность», глава XIII), которое Набоков считал южнорусским (Примеч. А. Гершенкрона). 176 Пушкин, конечно, мог без всякого вреда для романа изобразить Татьяну говорящей с британским или австрийским посланником, но «с послом испанским» — это такая звучная аллитерация (с-п-с-с-п-с), что для нас несколько важней — как, возможно, было важней для Пушкина, — чего Набоков, зачарованный очевидным хронологическим несоответствием, не заметил. Не менее смехотворно выглядят тщательные поиски Набоковым разнообразных намеков, которые могли бы подсказать приблизительные географические координаты поместий Онегина и Татьяны только для того, чтобы потом сообщить нам, что Пушкин не имел в виду какое-то конкретное место в России, но что действие соответствующих глав романа происходит в воображаемой «Аркадии» (Примеч. А. Гершенкрона). 177 Набоков продолжает: «В искусстве намерение и замысел не значат ничего, важен лишь результат. Нас интересует только опубликованное произведение, за которое несет ответственность один автор, постольку поскольку оно было опубликовано при его жизни. Поправки, внесенные им в текст в последний момент по собственной ли воле или под давлением обстоятельств, — неважно, какими мотивами руководствовался автор, — должны оставаться неизменными» [курсив мой —А.Г.]. Эту догматическую идею Набоков позаимствовал — без указания на ее авторство — у М.Л. Гофмана, одного из самых видных пушкинистов. Гофман, однако, был очень далек от того, чтобы предлагать уничтожить черновики и варианты, и осуществил их первое научное издание («Пропущенные строфы „Евгения Онегина“» в кн.: «Пушкин и его современники», СПб., 1922. Т. VIII–IX. № 33–35. С. 22). Сам Набоков, конечно, очень широко комментирует черновики, пропущенные строфы и варианты и даже находит источники эпиграфов, которые Пушкин собирался использовать, но потом отверг. Однако вряд ли разумно предлагать оставить как есть даже те изменения, относительно которых хорошо известно или можно предположить, что они являлись уступкой цензуре, а иногда были сделаны по прямому требованию цензора. Но именно это делает Набоков в своем переводе. Естественно, восстановление первоначального варианта каждый раз ставит деликатные проблемы, но их нельзя разрешить, руководствуясь неразумным общим правилом; каждый индивидуальный случаи требует своего вдумчивого подхода. Именно это, в связи с другим вопросом, предлагает неизменно рассудительный Томашевский («Издания стихотворных текстов» в кн.: Литературное наследство. М, 1934. Т. XVI–XVIII. С. 1090) (Примеч. Л. Гершенкрона). 178 Ср.: Щеголев П.Е. Пушкин, очерки. СПб., 1912. С. 219–220 (Примеч. А. Гершенкрона). 179 На Украине он флиртовал с двенадцатилетней дочерью своей хозяйки, Давыдовой, а в Бессарабии — с тринадцатилетней дочерью молдавского дворянина (Вересаев В. Спутники Пушкина. М., 1937. T.I. С. 228 и 301) (Примеч. А. Гершенкрона). 180 К большому сожалению, это верно в отношении Комментария в целом. Раза два Набоков высокомерно замечает: «русским комментаторам известно…», что весьма неуместно, поскольку ему надо было бы повторить эти слова сотню раз, пожелай он указывать на каждый факт и каждое предположение, которое позаимствовал у других исследователей. Надо сказать, что вообще его ссылки на предшественников, когда делаются не с намерением уличить их в ошибках, очень сдержанны. Даже когда он признает их, то часто делает это с неохотой. «П. Морозов, — пишет Набоков, — легко разгадал неуклюжий шифр» Пушкина во фрагментах Главы десятой ЕО. Этот покровительственный тон в отношении крупнейшего достижения ученого (ставшего возможным только благодаря счастливой идее сопоставить по видимости бессмысленные зашифрованные строки с катреном одного пушкинского стихотворения), эту похвалу сквозь зубы позволяет себе писатель, который всегда готов прийти в восторг от собственных маленьких открытий Вернер Зомбарт в предисловии к своей книге «Современные капиталистические системы» написал: «Благодарности же не выражаю никому». Набоков в своем Предисловии говорит то же, только иными словами, а мог бы подумать над тем, чем был бы его Комментарий без той огромной работы, что многие десятилетия вели пушкинисты (Примеч. А. Гершенкрона). 181 Набоков сам признает, что «у схоласта погоня за реминисценциями может стать формой помешательства» (Примеч. А. Гершенкрона). 182 В силу неспособности Набокова отказаться от малейшей частички информации, на страницы Комментария попадает некто Джон Метшл (Metschl), который в 1928 году, описывая американскую коллекцию огнестрельного оружия, неправильно назвал модель пистолетов, использовавшихся Онегиным и Ленским на дуэли; по очень понятной причине мы повторяем набоковское написание (Примеч. А. Гершенкрона). 183 Вот несколько примеров: прощание Татьяны с деревней очень близко к знаменитому монологу Иоанны из «Орлеанской девы» Шиллера, перевод которой, принадлежавший Жуковскому, — бывшему (вместе с Батюшковым) поэтическим учителем молодого Пушкина, — появился года за два до того, как Пушкин принялся за свой роман. Чижевский правильно упоминает о вероятности такой связи. Подобным же образом заключительная строфа «окончательного текста» (Глава восьмая, LI) чрезвычайно схожа с Zueignung (Посвящением) из «Фауста», где Гете оплакивает ушедших друзей, которым когда-то читал первые фрагменты драмы: Sie hoeren nicht die folgenden Gesaenge И Пушкин: Но те, которым в дружной встрече Должно заметить, что Пушкин читал Zueignung в оригинале, поскольку он использовал (дважды) строку из Vorspiel auf dem Theater (Театрального вступления) к «Фаусту» для эпиграфов и, как указывает Томашевский, пушкинские октавы из стихотворения 1821 года о Крыме («Кто видел край, где роскошью природы») ведут свое происхождение от Zueignung (Ср.: Томашевский Б. Строфика Пушкина // Исследования и материалы. М.; Л., 1957. Вып. И. С. 94–95). Добавим, что Пушкин, возможно, читал Zueignung в одном из трех французских переводов, существовавших в то время; и наверняка читал его по-русски в переводе Жуковского, который появился в 1817 году как вступление к балладе «Двенадцать спящих дев». Наконец, Набоков прекрасно мог бы упомянуть, что пушкинское описание оживленной площади в Одессе (в «Путешествии Онегина») содержит строку, которую Пушкин почти дословно перенес в свою строфу (юмористически продолжив ее) из хорошо известного стихотворения К.Н. Батюшкова «Странствователь и домосед» (Примеч. А. Гершенкрона). 184 Как переводит Набоков: «to another I belong, to him I shall be faithful all my life». На деле русское «отдана» соответствует английскому «given», употребленное же Набоковым «belong» означает «принадлежать»; точнее было бы сказать: «I have been made to belong». Таким образом, в набоковском переводе, как и в других переводах, включая сделанный Арндтом, утеряно главное: что Татьяна вышла замуж не по собственному выбору (Примеч. А. Гершенкрона). 185 Ср.: Гофман M.Л. История создания «Евгения Онегина» в A. Pushkin. Evgenii Onegin. Paris, 1937. P. 221–223 (Примеч. Л. Гершенкрона). 186 В число этих критиков Набоков ошибочно включает Белинского, который, напротив, считал, что верность нелюбимому мужу — наименее привлекательное качество Татьяны. (Ср.: Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. 3. С. 564–565) (Примеч. А. Гершенкрона). 187 В своем, уже цитировавшемся, высказывании о переводе Арндта Набоков, в ужасе от фривольного тона, которым Арндт наделяет речь Татьяны, с негодованием восклицает: «Татьяны, пушкинской Татьяны!» — чуть ли не в точности повторяя возглас ненавидимого им Достоевского в знаменитой Пушкинской речи, на которую Набоков изливает густой яд своего тяжеловесного педантизма. Между прочим, критикуя Достоевского, Набоков повторяет — без ссылки на автора — мнение, высказанное М.О. Лернером в «Рассказах о Пушкине» (Л., 1929. С. 213–216) (Примеч. А. Гершенкрона). 188 Ошибся Гете! (нем.). 189 Вполне вероятно, что некоторые странности Комментария проистекают от того, что Набоков отождествляет себя с Пушкиным. Не этим ли объясняется его неуправляемая страсть к отступлениям? К тому же Набоков вкрапляет в текст Комментария свои биографические отступления, в том числе и о своих предках. Он определяет Комментарий как «нечаянные заметки», вторя лукавому пушкинскому определению ЕО. И Набоков помещает в Эпилоге переводчика свой превосходный перевод прелестного стихотворения Пушкина «Труд», написанного по завершении ЕО, и сопровождает его следующим примечанием: «Пушкин датировал это стихотворение: „Болдино, 15 сентября, 3:15“. Переведено спустя сто двадцать шесть лет в Итаке, штат Нью-Йорк». День и час не указаны (Примеч. А. Гершенкрона). 190 Набоков пишет, что советские комментаторы упустили этот «замечательный факт биографии» Татьяны. Замечательный он или нет, но о благородном происхождении Татьяны дважды ясно говорит Д. Благой (Социология творчества Пушкина. Этюды. М., 1931. С. 138 и 149) (Примеч. А. Гершенкрона). 191 Немецкий ученый однажды высказался о схожести финала в ЕО и «Анне Карениной» (Der Sinn der Liebe und der Sinn des Lebens, Zeitschrift fuer Slaische Philologie [Heidelberg, 1951]. Vol. XXI:I. P. 23); но лишь потому, что почувствовал: роман Толстого несет в себе скрытое моральное одобрение решения Татьяны. Тот же автор в другом месте указывает на довольно очевидное сходство финалов ЕО и «Дубровского» (Schicksal und Liebe in «Jevgenii Onegin» in: A. Luther (ed.). Solange Dichter leben. Puschkin Studien (Krefeld, 1949). P. 160–161) (Примеч. А. Гершенкрона). 192 Цит. по: Набоков В.В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1999. Т. 5. С. 317–318. 193 Круглой площади, поляне (фр). 194 Цит. по: Звезда. 1999. № 4. С. 84–85. При жизни автора эта рецензия так и не была напечатана. Впервые она была опубликована в журнале «Нью-Йоркер» (1998/1999. 1 (28 December — 4 January). P. 124–133). 195 Струве Г. С. 288. 196 Набоков В.В. Указ. изд. С. 320. 197 Там же. 198 Духом времени (нем.). 199 Перевод В. Широкова. 200 Тупиком, безвыходным положением (фр). 201 Перевод В. Артемова. 202 Перевод М. Донского. 203 Здесь — объектов ненависти, презрения (фр.) 204 Перевод Н. Казакова 205 SL. P. 442. 206 Publishers Weekly. 1969. Vol. 195. № 12 (March 24). P. 52; The Literary Guild Magazine. 1969. Spring. 207 SL. P. 442. 208 Цит. по: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М, 1990. Т. 2. С. 538. 209 Первый русский перевод «Ады» вышел загримированным под шестой том «огоньковского» собрания сочинений В. Набокова: Набоков В.В. Ада, или Страсть. Хроника одной семьи. Киев: Атика; Кишинев: Кони-Велес, 1995. 210 Набоков В. Ада, или Радости страсти. Семейная хроника. М.: ДИ-ДИК, 1996. 211 Clancy L. The Novels of Vladimir Nabokov. L., 1984. P. 155, 140 212 В обратном порядке (фр.). 213 Пустырем (фр.). 214 Здесь: отвлечениями (фр.). 215 В широком смысле (лат.). 216 Обозревающий (с высоты птичьего полета) (фр.). 217 Искусство — в умении скрыть искусство (лат.). 218 Сладострастной дрожи (фр.). 219 Золотой середине (фр.). 220 Цит. по изданию: Шатобриан Ф.Р. Атала. Рене. М: Камея, 1992. 221 «О, прекрасно известны мне такие толкователи: туповатые борзописцы! Уж лучше б они спарили Беккета с Метерлинком, а Борхеса с Анатолем Франсом» — интервью Набокова Аллин Толми, журнал «Вог», 26 июня, 1969 (Примеч. Апдайка). 222 Предметы искусства (фр.) 223 Любовь втроем (фр.). 224 Повествования (фр). 225 Болезнью века (фр.). 226 Далеке, местах иных (фр.). 227 Хлеб с маслом и медом (фр.). 228 Бисквитного печенья, именуемого «мадлен» (фр.). 229 Ничто (исп.). 230 Боязни пустоты (лат.). 231 Чего-то (фр.). 232 Игры ума (фр.). 233 Перевод А. Патрикеева 234 В переводе на русский потеряна расшифровка этого сокращения: «Имеющий быстрые движения выпученных глаз». — А. Патрикеев 235 Хотя и не столь явно в окончательном варианте романа, как в гранках где последняя фраза романа: «Легче, сынок, легче — сама, знаешь, пойдет!» — напечатана с таким же отступом, как и прощание в конце письма, а за ней следует. «Владимир Набоков» посредине страницы, а ниже — «Монтрё, 1 Апреля 1972». Опубликованный вариант опускает хвастливую подпись, игривый след автора (Примеч. Апдайка). 236 Перевод А. Патрикеева 237 Перевод А. Патрикеева 238 Перевод А. Патрикеева 239 Помню, помню я дом, где я родился (фр.). 240 Он вышел спустя два года после «Твердых суждений» (Tyrants Destroyed and Other Stories. N.Y.: McGraw-Hill, 1975). 241 По самому факту (лат.). 242 Перевод В. Симакова. 243 Примерный перевод: «Вышедший из употребления тип мужлана». 244 Перевод В. Симакова. 245 (?) - прим. верстальщика fb2. 246 Перевод В. Симакова. 247 Так называемый, мнимый (фр.). 248 Уже прочитанного (фр.) 249 SL. P. 128. 250 Boyd-1991. P. 602. 251 SL. P. 508. 252 См. его рецензии на «Бледный огонь» (Hudson Review. 1962. Vol. 15 (Autumn). P. 423) и «Аду» (Passion Among the Polyglots // Hudson Review. 1969. Vol. 22. № 4 (Winter). P. 717–724). 253 Обманом слуха и обманом зрения (фр.). 254 Духа времени (нем.). 255 Человеком играющим (лат). 256 Радость жизни (фр.). 257 Великое небытие (фр.). 258 Фокусник (англ.). 259 Точное слово (фр). 260 Великий отказ (шпал). 261 Великий писатель в своем язвительном толстом (371 стр.) приложении к «Triquarterly» возмутился в ответ на такое «резкое и презрительное отношение к маленькому издательству, которое выпустило прекрасные издания четырех моих книг». Я видел три из этих книжек, переплетены они отвратительно, обложка напоминает дешевые школьные учебники, а в имени автора вместо точки над «i» стоит кружок, как у Уолта Диснея. Все, конечно, сойдет, если текст в порядке. Но я желаю для него и для его книг только самого лучшего, включая оболочку. (Примечание, сделанное Апдайком при публикации эссе в литературно-критическом сборнике «Отрывки». Picked-Up Pieces. N. Y., 1976. P. 221.) 262 После старика Джойса был малютка Пруст{272} (фр.). 263 Труды (фр.). 264 Особым способом жизни (фр.). |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
