|
||||
|
|
Глава первая Теоретические предпосылки § 1. Существует ли никем не описанный пласт языка?[1] Всякий, кто имеет дело, например, со славянскими языками или даже просто с русским языком (родным языком исследователя), не может не заметить, что подавляющее большинство слов так называемого «коммуникативного фонда» состоит из мелких частичек, видимо, комбинирующихся в соответствии с некоей грамматикой порядка, представленных почти на всем пространстве Terra Slavica, имеющих одно (часто смутно) определимое значение в изолированном виде и совсем иное значение – в зависимости от типа их комбинаций. Это, например, ли, входящее в ряд: и + ли, ли + бо, а + ли, то + ли, у + же + ли и т. д. Это также и къ, входящее в ряд: къ + то, къ + jь, н? + къ + то и т. д. Примеры эти можно умножать, почти играя в какую-то игру. Так, и входит в ряд: и + же, и + ли, и + то, и + но (устар.), а а входит в ряд: а + же, а + по, а + ж + но и т. д. Создается впечатление чего-то близкого к детским играм вроде кубиков, конструктора или даже калейдоскопа, о чем уже мы писали в Предисловии. Если обратиться к пространству славянского континуума, то легко увидеть, что большинство таких частичек и/или их комплексов совпадает в славянских языках либо полностью, либо легко пересчитывается по правилам фонетики. Но при этом – от языка к языку – они могут различаться функционально. Они могут различаться по степени принадлежности к языку литературному, к диалекту, к языку жаргонному, то есть быть фактом литературного языка, фактом того или иного диалекта, фактом просторечия. Они могут быть графически контактными в одном языке и дистантными – в другом. Однако несомненно то, что внутри славянского языкового континуума (как я постараюсь показать далее, с возможным выходом в более глубокие индоевропейские общности) существует практически единый набор таких простейших частичек и довольно единообразно работающий «порождающий конструктор», создающий комплексы из них. Несомненно и то, что отрицать существование этого фонда уже невозможно. Нельзя отрицать также, что лингвистика по неким глубинным причинам, о которых я буду говорить подробнее в следующем параграфе, не описывает перечень этих частичек (их «словник»), правила их комбинации, их ареальные преференции. Однажды мне довелось делать доклад о таких частичках, и самый важный вопрос из заданных мне был таким: «А к какой части речи они относятся, в какой уровень языка они входят?» Честным был только один ответ: «Ни к какой и ни в какой». И на это я услышала ответ лингвиста: «Так не бывает». За этим моим ответом стоит многое. Прежде всего – сам по себе достаточно пугающий намек на то, что лингвистика не умеет описывать все; что в языке есть недоступные для современной лингвистической теории пласты, однако вполне доступные и понятные для носителя языка. Тем самым ставится вопрос о неадекватности (а не только о недостаточности) соотношения метаотображения и восприятия. Особенностью описываемых элементов (частичек) является то, что многие из них вполне известны языковедам как в единичном виде, так и в комбинации и входят в каноны Академических грамматик. Это, например, союзы: а, и, но, да, или, либо и др.; это частицы: то, же, даже, уже, ти, это, вонъ, вотъ; это местоимения: къто, кътото, иже, н?къто; это наречия: тамъ, тутъ, здесь < сь + де + сь и т. д. Однако приписать их к какому-то одному классу или к одной части речи не оказывается возможным. Возможным оказывается только более или менее обширное их пересечение с уже известным классом слов. Например, таксономически их обычно связывают с так называемыми «дискурсивными словами»; однако отнюдь не все дискурсивные слова соотносятся с этим набором. Так, в частности, авторы статей в сборнике «Дискурсивные слова русского языка» [Дискурсивные 1998] включают в их число такие слова, как по меньшей мере, наоборот, еще раз, впрочем и др., которые не состоят из подобных частиц; но все-таки в этом же списке находим и упомянутые частицы вроде: только < то +ли + ко, дай < да + и, не + у + же + ли, не + бо + сь и под. Их предлагают также отнести к общей категории «незнаменательных слов», но и тут область незнаменательных слов пересекается с областью этого фонда лишь частично, поскольку в класс незнаменательных слов входят, например, предлоги, на подобные частички не разлагающиеся и имеющие иную языковую историю. Значительное число этих единиц вводят в классы местоимений и частиц. И здесь, однако, мы можем найти исключения. В частности, не из таких частиц состоят [кто]-нибудь, пусть, пускай, нехай. Например, в составе «Словника частиц», представленного в «Словаре русских частиц» Э. Шимчук и М. Щур [Шимчук, Щур 1999: 24], мы находим частицы, не восходящие к этому фонду: буквально, вправду, впрямь, вообще, исключительно, попросту и т. д. Наконец, некоторые первичные частички часто выступают в роли союзов. Но исключений достаточно и тут. Возьмем хотя бы союз хотя. И класс междометий тоже включает в себя значительное число таких частиц. И тоже не совпадает с ними полностью, например: Ах!, Ох!, Увы! и т. д. Предельно простая фонетическая структура многих таких элементов – а они состоят либо из одного гласного (V), либо из комплекса: консонант + вокал (CV)[2] – может привести к мысли о их таксономическом соответствии слогам языка. Но и это неверно, так как существуют слоги, не имеющие аналога среди фонда таких частичек, однако знаменательные слова распадаются на них легко, например: хо-ро-шо. Традиционно подобные «частички» относили к частицам. Однако, как мы уже показывали, в разряд частиц языка входят слова совсем другого происхождения. Англоязычная традиция, например, называет частицами (particles) и глагольные «расширения» типа off, up, over и т. д. Например: a. John picked up the book b. John picked the book up [Gries 1999]. Эпиграфом к специальной статье, посвященной частицам и их «грамматике», Г. Дункель [Дункель 1992] поставил удачные слова К. Бругмана: «Праиндоевропейские частицы с точки зрения их этимологии, формальных признаков и исходного значения в массе своей остаются в большей или меньшей степени неясными». Далее Г. Дункель пишет о назревшей необходимости реинтерпретировать многие частицы – «не только морфологически, но и семантически». Однако и он включает класс частиц в уже существующий набор индоевропейских классов морфем: корни (К), суффиксы (С) и окончания (О). К частицам он относит также превербы и предлоги. На ряде важных положений Г. Дункеля, в частности о позиционном распределении частиц и о правилах их комбинирования, я остановлюсь в дальнейшем. Важно сейчас отметить, что он находит «совершенно не поддающиеся анализу формы (*r, *gho, *no/ne)» [Дункель 1992: 17] и что «именно здесь мы доходим до наиболее раннего пласта» [Там же]. Понимая, что частицы представляют собой некий, по сути, неясный для таксономии класс (см. об этом ниже), Г. Дункель все же придерживается наиболее удобной теории – частицы есть нечто «застывшее», и осторожно называет «преувеличением» более крайние точки зрения на них – например, Г. Швицера: «Для развития древнейших частиц более поздние частицы, которые явно представляют собой окаменевшие падежные и глагольные формы, не могут служить аналогией», – а также считает преувеличением гипотезу об изначальной односложной структуре частиц (гипотеза излагается у Г. Дункеля без ссылки. – Т. Н.), которая привела бы «к необходимости признать, что все двусложные частицы являются фактически производными (т. е. представляют собой цепочку частиц)» [Дункель 1992: 23]. Наиболее откровенное неприятие частиц как самостоятельного слоя языка находим у Т. Ван Баара [Van Baar 1992]. Признавая, что частицы всегда были и остаются проблематичной и пренебрегаемой лингвистами сферой изучения, он все же предлагает для них некоторую дефиницию: «Particles are only negatively defined: grammatical elements are only particles if they do not belong to any of the other parts of speech» [Van Baar 1992: 260]. [«Частицы можно классифицировать только негативно, а именно – грамматические элементы только тогда являются частицами, если они не принадлежат ни к какой другой части речи».] И все же Ван Баар предлагает для частиц в плане выражения два релевантных признака: 1) они всегда моносиллабичны; 2) они никогда не приобретают «нормального» ударения. Определение статуса частиц А. Звики [Zwicky 1985], который наиболее подробно, по сравнению с многими другими лингвистами, занимался и частицами, и клитиками, немного напоминает известную ироническую формулу «Этого не может быть, так как этого не может быть никогда!». Частицы, по его мнению, не входят в «по-уровневую» грамматику, но и не составляют отдельного грамматического класса: «There is no grammatically significant category of particles <…> here is no particle level in the hierarchy of grammatical units» [Zwicky 1985: 292]. [«Не существует грамматически значимой категории частиц <…> в иерархии грамматических единиц такого уровня, как уровень частиц, нет».] Таким образом, напрашивается признание того факта, что частицы не принадлежат ни к какой синтаксической категории («that they are acategorical»). Но такого ведь, по его мнению, быть не может («there are no acategorical words»), поэтому А. Звики придумывает для них особое название «дискурсивные маркеры» и тем самым не оставляет их лингвистически беспризорными. Общее же впечатление от работ, посвященных «частицам», состоит в том, что в языкознании существует некое внутреннее (глубинное?) неприятие тех явлений языка, которые стоят за ними как за обобщенным классом, нисколько не противоречащее, однако, лексикографическому удовольствию от анализа отдельных «частиц». В конечном итоге интерес иногда вызывают и вопросы их происхождения: частицы ли произошли из местоимений, местоимениями из частиц? что такое флексии – застывшие местоимения? активные частицы-энклитики? что значат «темы», «расширители» и т. д.? Частицы, восходящие к древности, принято называть «дейктическими». Сама теория указания как особого коммуникативного поля достаточно давно представлена еще К. Бюлером [Бюлер 1993]. Он считает, что «в языке есть лишь одно-единственное указательное поле, семантическое наполнение указательных слов привязано к воспринимаемым указательным средствам и не обходится без них или их эквивалентов». Всего К. Бюлер видит три способа употребления указательных слов: применение непосредственно, ad oculos, анафорически и как «дейксис к воображаемому» [Бюлер 1993: 75]. К. Бюлер четко различает слова указательные и слова назывные. В помощь первым может привлекаться как зрительный момент (например, длительный взгляд, устремленный на собеседника), так и звуковой (например, один слепой знакомый К. Бюлера никогда не ошибался, если в беседе обращались именно к нему, даже не называя его по имени). Самое существенное, что К. Бюлер не описывает указательные слова, так сказать, лексикографически, а связывает их в некие пучки, например: ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС – Я; Я – Ты и т. д. Замечательно и то, что К. Бюлер все время, по сути, взывает к тому, что не только назывные слова передают необходимую для человека коммуникативную информацию, а значительная часть сведений передается тем, что назывется ad oculos и ad aures. Однако тенденция к секуляризации чисто указательных слов видна в современной лингвистике и в функциональном плане. Так, большая обобщающая статья К. Киселевой и Д. Пайяра [Киселева, Пайяр 2003] посвящена глубокому анализу сути функционирования дискурсивных слов, но только внутри этого пласта как такового, то есть без обращения к другим языковым уровням и без сравнения с ними. Как будет видно из анализа славянского материала, представленного в третьей главе настоящей книги, в наибольшей степени функционально нагруженными являются частицы-партикулы с консонантной опорой[3](-*s) и (-*t). Они могут выражать неопределенность: русское къ + то + то, чь + то + то; с другой стороны, могут выражать определенность: определенный постпозитивный артикль в болгарском языке или постпозитивный член в севернорусских говорах. Ср. также русское се, сей (сего-дня) и польское ktos (’какой-то’). Эта разошедшаяся по родственным языкам семантическая амбивалентность говорит о первичной энантиосемии частиц с указанной консонантной опорой и тем самым об их древности. Безусловно, они восходят к древнейшим элементам *so, *tod, по поводу которых существует большая специальная литература и о которых мы будем говорить в последнем параграфе главы второй. То, что эти две основы являются ведущими для индоевропейской системы в целом, подтверждает и Фр. Адрадос [Adrados 2000], об идеях которого также будет говориться ниже. Он считает, что элементы -*so, – *to впоследствии эволюционировали во множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства. Происхождение и дистрибутивное функционирование этих двух индоевропейских «местоимений» трактуется по-разному, и целесообразно именно здесь также представить эти разные трактовки – не потому, что автор хоть в какой-либо степени претендует на окончательный вывод, а потому, что эти различия связаны с общим отношением к происхождению и деятельности «частиц». (Во второй главе будет представлен ряд экспериментально-фонетических доказательств.) У «классиков» индоевропеистики, Б. Дельбрюка и К. Бругманна, *s и *t считались двумя воплощениями одного и того же элемента, с различием в парадигматической дистрибуции, а именно: в именительном падеже многие индоевропейские языки выбирают s-основу, а в косвенных падежах – основу на t-. Однако в литовском и славянском «nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrangt worden ist» [«только в этих языках S-основа была вытеснена T-основой»] [Delbruck 1893: 510][4]. Э. Стертевант в 1939 году[5] предположил, что оба эти «местоимения» восходят к «индо-хеттским» конгломератам союзов. При этом союз *so употреблялся в предложениях без замены субъекта, а *to – в предложениях с заменой субъекта. Союз *so был в дальнейшем реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. «Индо-хеттские» конгломераты в индоевропейских языках приобретали значение местоимений, тогда как в хеттском они сохраняли свое древнейшее значение. Эта гипотеза была отвергнута Х. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, тогда как сочинительные союзы типа хеттского nu , ta, su возникают значительно позднее[6]. Т. В. Гамкрелидзе также опровергает гипотезу Э. Стертеванта в целом [Гамкрелидзе 1957], оперируя фактами хеттского синтаксиса, где фактор замены или незамены субъекта не связывается с типом союза. Г. Дункель [Дункель 1992] в свою очередь обращается к анализу форм *so/su в среднеиндоевропейском языке, которые представлены в синтаксисе параллельно формам *to/te. При этом, по его мнению, существовало личное местоимение 3 лица единственного числа, начинавшееся на *s (форма *si при этом передавала женский род в отличие от неженского *so). Ортотонические формы (т. е. ударные) были связаны с консонантной опорой на *t, а энклитические – с консонантной опорой на *s. Есть и другая трактовка этих форм, которую можно назвать фонетической [Schrijver 1997], а именно: дейктическое so синонимично формам sa (после непалатальных звуков) и se (после палатальных). П. Схрайвер считает оба местоимения членами единой парадигмы, сохраненной в большинстве индоевропейских языков, в которых все флективные формы, кроме номинатива, начинаются (начинались) с консонанта *t. Эти элементы, по мнению некоторых исследователей, связывают местоимения и существительные. См. у О. Семереньи: «В последнее время вновь оживленно дискутируется другой вопрос, а именно: каким образом женский род выделился из класса одушевленных. При этом в большинстве случаев наблюдается возврат к старой точке зрения, которая состояла в том, что общее развитие -a– и -і– как признаков женского рода восходит к местоимению (например, *sa и *si). В то же время сами местоимения были образованы по образцу некоторых существительных, которые имели подобные окончания случайно (например, *gwena ’ женщина’» [Семереньи 1980: 168]. Есть и более откровенные и честные признания: «элемент -s стоит совершенно вне системы и его происхождение неясно» (Коугилл, цит. по: [Шмальштиг 1988: 283]). К. Шилдз [Шилдз 1988] считает, что местоименная форма на *so использовалась по отношению к существительным, когда необходимо было передать функцию эргативности, а форма *tod привлекалась, когда необходимо было указание на абсолютный падеж. Он демонстрирует наглядно то, сколько ученых лингвистов бились, приписывая это *s то одному, то другому грамматическому классу. Говоря более точно, можно сказать, что это никуда не укладывающееся и мучительное для языковедов *s как бы скользило по нарождающейся грамматической системе, «приклеиваясь» то к одной, то к другой грамматической форме. Так, оно приобретает статус флексии имен одушевленного класса, заменив собой ноль. Полагая эту форму рефлексом более древнего деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, К. Уоткинс считает, что *s вскоре стал использоваться в функции показателя 3-го лица глагола. По его мнению, происхождение *s следует искать в сочетании глагольного корня с конечным расширителем, это было просто «фонетическое добавление». К этому «расширителю» Уоткинс возводит суффикс аориста, но сначала «расширитель не имел значения». Это же *s используется как показатель 2-го лица во многих индоевропейских языках, а в тохарском – как показатель третьего лица. К. Шилдз описывает дальнейшую историю этого элемента так: *s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3-го лица единственного числа стал формант *t и, таким образом, функции *s были ограничены 2-м лицом [Шилдз 1988: 241—245]. Все эти гипотетические построения показывают только одно: они демонстрируют зыбкость появления первых грамматических форм, неустойчивость ранних парадигм, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы. Именно поэтому моя монография и имеет вторую часть названия, точнее, подзаголовок: «История блуждающих частиц». За всеми этими описанными выше построениями просматривается еще одна тенденция: сохранить для раннего этапа развития языка выведенные позднее частеречные таксономии. Для лингвистов современной традиции аморфные и диффузные по семантике элементы не могут априори присоединяться в виде флексии, поэтому флексии в лучшем случае могут быть хотя бы местоимениями. Частицы также обязаны быть классом слов, вписывающимся в общую частеречную таксономию. Однако стройность порождающего этот не описанный класс языковых единиц «конструктора», простота выделения его компонентов и их структурная связанность друг с другом очевидны. Именно поэтому я не хочу в дальнейшем говорить о таком многолетнем и все же неприкаянном термине, как «частицы», и тем самым использовать этот термин в качестве базисного, по-скольку речь не пойдет о словах типа исключительно, просто и под., а о компонентах этого прозрачного и ни разу никем не собранного «конструктора». Эти компоненты-частички я буду в дальнейшем, как я уже говорила, называть партикулами, поскольку русский язык как будто специально для подобного описания позволяет различать партикулы и частицы (см. в Предисловии). Итак, специально партикулами как отдельным и как будто бы легко – на поверхностном уровне – выделяющимся классом до сих пор никто не занимался: их или включали в класс частиц вообще, или рассматривали как факт глубокой индоевропейской древности, потом превратившийся в нечто другое. И тут таксономическая ориентация буксовала: то ли они сами являлись окаменелыми реликтами местоимений, то ли, напротив, именно они превращались в местоимения. В презумпцию обязательности входила также разновременность и разнофункциональность существования «частиц» и союзов. Как представляется, метатеоретический выход был найден не сразу, но он оказался достаточно простым. Его можно найти в работах таких индоевропеистов, как Ф. Адрадос, У. Леман, У. Марки и, в особенности, К. Шилдз младший, чьи взгляды полностью совпадают с взглядами автора настоящей монографии[7]. Прежде всего нужно назвать широко цитируемую статью Ф. Адрадоса «The new Image of Indoeuropean. The History of a Revolution» [Adrados 1992]. В ней прямо говорится о том, что «типично» реконструируемый индоевропейский есть индоевропейский позднейшей праязыковой стадии, построенный с опорой на древние флективные языки. См. удачное определение «типичных» реконструкций праиндоевропейского, сделанное В. Пизани [Пизани 1956: 164]: «Большинство рассмотренных до сих пор исследований страдает одним пороком: они все исходят из такого восстановленного «индоевропейского языка», который по характеру представлений о нем напоминает латинский язык учебника для средней школы». Ф. Адрадосом же выстраивается трехступенчатая модель эволюции «индоевропейского»: 1) до-флективный индоевропейский (pre-inflexional). Стадия I; 2) хеттско-анатолийская стадия (язык при этом monothematic). Стадия II[8]; 3) политематический язык «типичной» реконструкции. Стадия III. Работа Ф. Адрадоса была очень «своевременной», хотя мысли о до-флективной стадии индоевропейского высказывались ранее и Вяч. Вс. Ивановым [Иванов 1965: 51], и В. Шмальштигом [Schmalstieg 1980]. Хотя в работе Ф. Адрадоса есть много важных для нашей темы наблюдений (например, прямо говорится о том, что вторичные индоевропейские глагольные окончания: *-mi, *-si, *-ti, *-nti отличаются от первичных: *-m, *-s, *-t, *-nt именно на дейктическую частицу *-i), все же в ней больше говорится об отличиях Стадии II от Стадии III, что для автора, очевидно, более важно. Однако существен сам прокламируемый факт – то, что Стадия I отражает язык до-флективный, до-парадигматический. Естественным выводом из положений Ф. Адрадоса является вывод о возможности до-флективного равенства всех членов индоевропейского высказывания эпохи «Стадия I». Тем самым отпадает необходимость обязательности выведения одной части речи из другой. К. Шилдз, опираясь на еще более ранние статьи Ф. Адрадоса, повторяет вслед за ним, соглашаясь, идею о том, что до-флективный индоевропейский и протоиндоевропейский «состоял из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения» [Шилдз 1990: 12][9]. «Грамматическими» средствами при этом являлись: порядок слов, расстановка ударения и некоторые расширители. К. Шилдз поддерживает и гипотезу В. Георгиева о моносиллабичности языка этой Стадии[10]. Итак, присматриваясь к этой гипотезе, мы видим язык по преимуществу моносиллабический, где есть только два класса: будущие слова «знаменательные» и будущие слова «дискурсивные». Именно этим последним и посвящена настоящая монография, цель которой – постараться если не доказать, то хотя бы убедить в том, что Стадия I в нас еще жива и проступает в виде «скрытой памяти». В статье, посвященной типологии и ее роли в реконструкции, К. Шилдз идет дальше своих предшественников [Shields 1997] и снимает обязательность типологического присутствия в настоящем для реконструкции языка древнейшего периода: «Typology should never be the primary basis for a linguistic reconstruction» [Shields 1997: 372] [«Типология не должна быть отправной базой для лингвистической реконструкции»]. В более поздней статье [Shields 1998] К. Шилдз настаивает на медленности – в большей степени, чем обычно предполагается – процесса превращения «энклитических» частиц и их комбинаций в слова с той или иной грамматической функцией [Shields 1998: 48]. Однако нужно признать, что в настоящее время определить точно, что именно означали те или иные партикулы в языке Стадии I или в еще более раннее время, мы не можем. Или, говоря иначе, при любой попытке это сделать такое определение всегда будет некорректным. Во всех изученных мною исследованиях, как уже говорилось, партикулы подобного рода именовались «дейктическими частицами». Потом, как пишет тот же К. Шилдз [Шилдз 1990: 14], эти демонстративы постепенно теряют свою функциональную силу и вынуждены комбинироваться в цепочки (обо всем этом применительно к славянскому материалу будет говориться в книге далее). И все же. Не следует забывать, что само понятие дейксиса – это понятие метатеоретически позднее. См. определение дейксиса в самом общем виде, данное Ю. Д. Апресяном [Апресян 1997: 285]: «… основное свойство всякого дейксиса. Этим свойством является либо совпадение (для Я-дейксиса), либо несовпадение пространственно-временных координат описываемого факта, как их мыслит говорящий, с теми пространственно-временными координатами, в которых говорящий мыслит себя». Более глубокий анализ пространства партикул, как представляется, может вывести их исследователя не на дейксис, так сказать, в «чистом виде», а на некоторое общее и семантически диффузное свойство первичных частичек-партикул: на более общее указание о сообщаемом факте, предмете или действии (еще раз нужно сказать, что все они могли тогда и не различаться как таковые), а не только на их качество в виде древних демонстративов – дейктических элементов в современном нашем понимании. В этом смысле словосочетание «дейктические частицы» можно рассматривать как некое металингвистическое клише вроде «логического ударения». Вяч. Вс. Иванов полагает, что в эволюционном процессе имена собственные опережают личные местоимения, он пишет о речевом поведении «маленьких детей, которые предпочитают не использовать эгоцентрические слова и испытывают большие трудности в связи с употреблением личных местоимений-шифтеров, по Якобсону, соотносящих сообщение с актом речи и кодом. Употребление собственных имен, согласно сказанному выше, соответствует более ранним эволюционным возможностям» [Иванов 2006: 356][11]. Может показаться, что дальше он противоречит сам себе, объявляя первичными жестовые зрительные сигналы: «Представляется возможным, что жесты у далеких предков человека сосуществовали с относительно небольшим числом звуковых сигналов, сходных с теми, которые обнаруживаются у высших млекопитающих. Но эти сигналы еще только находились на пути превращения в фонемы устного языка. Общее происхождение последнего и жестового общения, быть может, отражается в недавно установленных фактах, показывающих связи современного языка жестов с левым (доминантным) полушарием» [Иванов 2006: 361]. На самом деле эти два положения Вяч. Вс. Иванова блестящим образом демонстрируют принципиальную невозможность объявлять партикулы «застывшими местоимениями». Нужно отметить, что идея о «дофлективном» существовании протоиндоевропейского высказывалась и классиками ХІХ века. Первым в этом отношении был, конечно, Франц Бопп, о котором все знают и учат его имя с юных лет, но мало ссылаются и, вероятно, мало читают. По сути Бопп высказывает те же идеи, которые Ф. Адрадос и К. Шилдз декларируют как «революции» в реконструкции индоевропейского. См. у Франца Боппа эти идеи, воспринимающиеся по принципу «новое – это хорошо забытое старое» [Bopp 1833: 14]: «Es gibt im Sanskrit und mit ihm verwandten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba und Nomina (Substantive und Adjective) welche mit Verben in br?derlichem, nicht in einem Abstammungs-Verh?ltnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ihnen aus demselben Schosse entsprungen sind. Wir nennen sie jedoch, der Unterschejdung wegen, und der herrschenden Gewohnheit nach, Verbal-Wurzeln (…) Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urprupositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese «Pronominalwurzeln», weil sie samtlich einen Pronominalbegriff ausdrucken, der in den Prapositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt». [«В санскрите и в родственных ему языках существует два класса корней; из одного, более распространенного, возникают глаголы и имена; последние находятся с глаголами в родственных, если даже не сказать обменных, отношениях, не возникая из них, но происходя из одной и той же основы. Мы называем их, ради различия и следуя традиции, глагольными корнями. (. ) Из другого класса выходят местоимения, все древние предлоги, союзы и частицы; мы называем этот класс «местоименные корни», поскольку они все в той или иной мере выражают некую местоименную семантику, которая спрятана в предлогах, союзах и частицах».] Древнейшее состояние индоевропейского описывает также и К. Бругманн, но описывает его, так сказать, с прямо противоположных позиций, т. е. считает всю эволюцию протоэлементов шагом к знаменательным словам: «Wir haben fur unsern Sprachstamm eine Periode vorauszusetzen, in der den Wortern noch keine suffixalen und prefixalen Elemente fest anhafteten. Die Wortformen dieser Periode bezeichnet man als Wurzeln und spricht demgemass von einer Wurzelperiode der idg. Sprachen. Sie lag weit zuruck hinter dem Entwicklungsstadium, dessen Formen wir durch Vergleichung der einzelnen idg. Sprachzweige zunachst zu erschliessem vermogen, und das man die idg. Grundsprache schlechthin zu nennen pflegt» [Brugmann 1897: 33]. [«Для нашего языкового состояния мы восстанавливаем тот период, когда слова не присоединяли к себе «накрепко» суффиксальные или префиксальные элементы. Словоформы этого периода можно описать как корни и потому нужно говорить о периоде корней у индоевропейских языков. Это ведет нас к далекой исходной стадии, формы же сами восстанавливаются при сравнении языков индоевропейских ветвей, и такое именно состояние мы можем назвать индоевропейским языком-основой».] Таким образом, мы можем видеть, что победа «по-уровневой» лингвистики и воцарение униформитарного принципа типологической верификации предали забвению догадки старых мастеров. § 2. Типы научной парадигмы и партикулы Эти мелкие частички-партикулы, с одной стороны, и обобщенные рассуждения о типе науки, с другой, казалось бы, никак не могут быть связаны. Однако нужно вернуться к тому вопросу, который был мне задан и о котором я писала в начале: «А к какой части речи относятся эти частицы?», и к моему ответу: «Ни к какой!» и к следующей ответной реплике «Так быть не может». За этим вопросом явно следовало глубокое убеждение, что современная лингвистика все описала и все определила по классам и ничего «в индетерминированном остатке» быть не может. Именно такая наука называется «нормальной наукой», по Т. Куну [Кун 1975], и именно на этом хотелось бы сейчас остановиться. Итак, по Т. Куну, «нормальная наука. основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир» [Кун 1975: 21]. Тогда исследования – это «упорная и настойчивая попытка навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование» [Там же]. Ранее мною была предложена классификация ученых [Николаева 1990], опирающаяся на следующие два признака: 1) метод и 2) материал. Каждый признак может быть представлен двумя манифестациями-признаками: старый / новый. Таким образом, получилось четыре возможных типа ученых: 1) старое о старом; 2) старое о новом; 3) новое о старом; 4) новое о новом[12]. (Об этой моей классификации пишет математик В. А. Успенский [Успенский 2005].) Если эти типы совместить с типологией Т. Куна, то к «нормальной науке» должны принадлежать два средних типа: старое о новом и новое о старом. Итак, по Т. Куну, цель нормальной науки «ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений» [Там же: 43]. Исследование в нормальной науке направлено на «разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» [Кун 1975: 44]. Очень интересные наблюдения над эволюцией лингвистики во второй половине ХХ века, которые можно соотнести с концепцией Т. Куна, содержатся в статье Р. М. Фрумкиной [Фрумкина 1996]. См.: «Со временем «новая» лингвистика постепенно и закономерно тоже превратилась в нормализованную науку» [Фрумкина 1996: 57], и ранее: «Понятно, почему глубокая методологическая рефлексия и споры о «теориях среднего уровня» не типичны для нормализованной науки: в ней метанаучная проблематика перестает быть актуальной» [Там же]. Однако нормальная наука, как и любая наука, должна развиваться. Поэтому ученые начинают исследовать «некоторые фрагменты природы так формально и глубоко, как это было бы немыслимо при других обстоятельствах» [Кун 1975: 44]. Акме нормальной науки ощущается тогда, когда возникает жажда решения «новых задач-головоломок». Тогда нормальная наука становится решением головоломок и по сути своей мало ориентирована на крупные открытия. Нельзя не обратить внимание и на следующее положение Т. Куна: ученым-приверженцам нормальной науки предлагается «не сформулированная система правил, а согласованность исследовательской традиции» [Там же: 70]. Нормальная наука становится все более точной. Развивается эзотерический для непосвященных словарь и профессиональное мастерство. «Поскольку в науке реже, чем в других областях человеческой деятельности, есть несовместимые точки зрения», научное сообщество начинает объединять то, что Т. Кун называет «дисциплинарной матрицей» [Там же: 229]. Дисциплинарная матрица характеризуется: 1) общностью символических обозначений, 2) метафизической парадигмой, т. е. общепризнанными предписаниями, 3) ценностями. Последние должны быть более общего свойства. Например, установка на прикладную полезность науки – это одна из ценностей парадигмы. См. определение такой ценности в «новой лингвистике», становящейся постепенно нормальной наукой, как строгость, которая на определенном этапе противопоставлялась психологизму как «расплывчатым умозрениям» [Фрумкина 1996: 58]. Вскоре после появления публикаций Т. Куна раздались и голоса ученых, утверждавших, что к лингвистике его положения в принципе неприменимы. Так, например, В. К. Персиваль [Percival 1976] опирается на тот факт, что «научная революция», по Т. Куну, есть следствие появления какого-то одного научного гения (single scientific genious). Кроме того, понятие парадигмы в теории Т. Куна есть понятие социальное, а научная революция создается отдельной секуляризованной личностью, и тем самым в теории Т. Куна есть внутренние противоречия. Сама же лингвистика строится на том, что у всех новых теорий есть обязательно свои предшественники. Однако история лингвистики второй половины ХХ века (и особенно – последней его трети), на наш взгляд, подтверждает прогностические положения Т. Куна. А именно: нетрудно заметить, что «нормальная наука» лингвистика возникла (в отечественной теории, во всяком случае) в середине 50-х годов прошллого века и развивалась с тех пор, абсолютно следуя прогнозам Т. Куна. Несомненно также, что мы можем обнаружить и предсказанный Т. Куном этап «головоломок». Это – начало 60-х, когда возникли (разумеется, как бы спонтанно) так называемые «лингвистические задачи». Унификация лингвистических подходов шла, также в полном соответствии с прогнозированием Т. Куна, из недр так называемого ОСИПЛ’а, т. е. Отделения структурной и прикладной лингвистики (позднее ставшего Отделением теоретической и прикладной лингвистики). Характерно, что одной из «ценностей» тех лет была объявлена прикладная полезность лингвистики, ее обязательная парадигматическая близость к точным наукам вроде математики. Единообразная парадигма распространялась далее и на студентов Лингвистического факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). «Лингвистические задачи» оказались необыкновенно удачным решением назревавшего этапа головоломок. Естественно, что близкими к задачам головоломками должны быть занятия дешифровочного типа. И замечательно, что именно в этот период лингвисты обратились к дешифровке новгородских берестяных грамот, которые вдруг стали обнаруживаться в большом количестве, как будто по воле Судьбы, и языковеды стали делать множество мелких и крупных по значимости наблюдений, прочитывая новонайденные грамоты и перепрочитывая найденные ранее. Хочу сразу снять какую бы то ни было аксиологическую установку со своих выводов. Просто не могу согласиться с известным положением о том, что историк (в том числе и историк науки) является «пророком, предсказывающим назад». Безусловно, и история «не знает сослагательного наклонения». Но его должны знать ученые, задача которых – обнаруживать развилки эволюционных путей и вычерчивать возможные сценарии несостоявшихся событий. Можно заметить, что многое из указанного выше появилось и появляется случайно. Однако прогнозы Т. Куна позволяют нам, хотя на небольшом научном пространстве – языкознания как науки, увидеть неизбежность эволюционной перспективы в науке вообще и, видимо, в истории в целом. Можно заметить также, что все-таки мы имеем, как будто бы вопреки Т. Куну, по крайней мере два крупных открытия на фоне последних десятилетий. Это – ностратическая теория, предложенная В. М. Илличем-Свитычем, и находка так называемого «Новгородского кодекса XI в.» А. А. Зализняком. Но на это можно возразить, что, во-первых, открытие В. М. Илличем-Свитычем было совершено, так сказать, на пороге парадигмы «нормальной науки» и, строго говоря, к ней не относится. Во-вторых, напротив, открытие А. А. Зализняка и его фантастическое по результатам прочтение почти не прочитываемого текста могут – именно по своей поразительности – служить неким «звонком» кризиса господствующей парадигмы, поскольку само открытие относится также к тому, чего «не может быть, ибо этого не может быть ни-когда»[13]. Таким образом, на предпарадигмальной стадии развития науки (эта стадия, естественно, является одновременно и концом предыдущей парадигмы, и шагом к новой) еще возможны, по Т. Куну, сосуществующие прочтения одного и того же материала науки, парадигмы, находящиеся, пользуясь языком физики, в «отношениях дополнительности». Обращаясь к лингвистике ХХ века, можно предположить, что такая возможности была. Это был, по нашему мнению, межвоенный период, когда сосуществовали две лингвистики, однако в прямой форме это никак не формулировалось. Как это ни покажется странным, как будто бы второстепенные явления языка – интонация и «мелкие» слова (то есть «незнаменательные», это термин Л. В. Щербы) – стали ключевым моментом при разделении этих двух подходов к языку[14]. Говоря о первом направлении, нужно в первую очередь вспомнить труды С. И. Карцевского. Его подход в целом можно назвать синтагматическим, ориентированным на реальную фразу, на высказывание. Фразу создает интонация. Она имеет свою грамматику, и он – практически первый – описал эту грамматику, перечислив интонацию межфразовых связей. Его предшественники обычно ограничивались одной фразой. Интонацию он понимал не только как мелодику, а как многопараметрическое единство ее акустических составляющих (мелодики, тембра, интенсивности и длительности). Соединяя фразы, интонация может выражать четыре категории: симметрию, асимметрию, тождество и градации. Язык, по С. Карцевскому, состоит из: 1) слов, 2) грамматики, 3) интонации. Самое важное в его теории было то, что слово не было для него основой основ, оно было лишь частицей фразы: «слово есть частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44]. Обращаясь же к «мелким» словам, Карцевский видел в начале существования естественного языка синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний. Впоследствии они превращались во «внешние союзы», инициирующие высказывание-фразу, затем они интериоризировались, становясь нашими современными «внутренними» союзами. А привычное таксономическое начало – фонетику и фонологию – Карцевский считал уже последним этапом освоения языковой структуры. Таким образом, синтаксис был для него первичным. Однако синтаксис был первичным и для сторонников «нового учения о языке», он был краеугольным камнем и отправной точкой для диахронических разработок марристов. Архаический синтаксис был для них некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантичные звуковые комплексы. Предполагалось, что эта диффузность и нерасчлененность высказывания вполне соответствовала мышлению первобытного общества. Как пишет С. Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1949: 36], «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием». См. там же: «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 16]. В известной степени схожие идеи можно найти и у Л. В. Щербы. Говоря о грамматиках и словарях языков, создаваемых в разное время, Л. В. Щерба пишет: «Однако при этом прежде всего забывали то, что вообще все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном (выделено Л. В. Щербой. – Т. Н.) опыте (…) нам вовсе не даны» [Щерба 1974: 25]. Необходимо заметить, что сходные теоретические позиции и искания можно найти не только в отечественном языкознании. Приведем в качестве примера одно мало известное движение в Германии, как-то увядшее в течение периода между войнами: так называемых «лингвистов-телеологов»[15]. Это Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорн, печатавшиеся в Вене, Геттингене, Страсбурге и др. Центром внимания, ядром языкового происхождения и ареной эволюции это направление также считало синтаксис (ср. с этим внимание к морфологии, парадигмам, частям речи у компаративистов и структуралистов). Именно из «синтаксического дыма», по их мнению, рождались звуковые комплексы, затем – слова, затем – фонемы. Очевидно – по всем ссылкам и по принципиальной значимости самой работы, – что у «телеологов» основополагающими трудами были прежде всего следующие: книга В. Хаверса «Основы объясняющего синтаксиса» 1931 [Havers 1931] и монография Э. Херманна «Звуковой закон и принцип аналогии» того же 1931 года [Hermann 1931]. Более поздние их труды принципиально новой теории уже не содержали. Первичными для телеологов были мелкие словечки не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова. По мнению В. Хаверса [Havers 1931], эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. Неясным остается, однако, их взгляд на происхождение знаменательных слов, вообще – на происхождение морфологии. По мнению телеологов, эти мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, именно поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности и является синтаксис. Итак, синтаксис par excellence является в этой теории центром лингвистических изменений и ареной их реализации. Таким образом, очевидно, что «парадигматическое мышление», ставшее центральным в лингвистике в последующие десятилетия, еще считалось для них второстепенным. Необходимо заметить, что «телеологи», в свою очередь, стояли на плечах двух знаменитых предшественников: Б. Дельбрюка, завершителя младограмматического синтаксиса, которому его ученик, Э. Херманн, посвятил целую книгу после его смерти [Hermann 1923], и Я. Ваккернагеля, известные положения которого о втором, ослабленном, месте в высказывании тогда усиленно обсуждались: второе слово или второй член предложения? Члены предложения, в рамках немецкой теории, как уже говорилось, стягивались из диффузных частиц, становясь оформленными частями речи. Близким к российской лингвистике было у них и понимание сути языковой эволюции. См. у Л. В. Щербы: «Мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека» [Щерба 1974: 25]. Именно такая же отчетливая установка на то, что эволюция языка в реальности есть сложное переплетение условий и движущих сил, и это для каждого языка индивидуально благодаря внешним воздействиям, и заставила Э. Херманна написать очень большую книгу [Hermann 1931] против «безысключитель-ности» звуковых законов (тезис Лескина), в которой на каждом шагу не только демонстрируются, но и интерпретируются «исключения» из фонетических законов и нерегулярность действия законов аналогии. По мнению Э. Херманна, компаративисты просто ловко лавируют между запутанными Lautgesetzten («языковыми фонетическими законами»), а на самом деле их методы нуждаются в улучшении [Hermann 1931: 6]. В отличие от классических индоевропеистов, «телеологи» интересуются не методами реконструкции морфологии и фонологии, а требуют тщательного построения идущей в пра-историю линии синтаксических изменений и затем – выведения универсальной эволюционной диахронической структуры. Именно эта установка на поиск универсалий вынудила Э. Херманна [Hermann 1942] обратиться также к детальному обследованию фактов фразовой интонации в самых разных языках, в том числе и даже самых экзотических. И все же лингвистика концептов, т. е. валоризованных обобщений языковой данности, в это время развивалась и практически победила. И победила неслучайно. Такое описание начинается с фонемы и идет далее «по уровням», складывающимся по принципу: из мелких кирпичиков – в большие здания. В подобном, бесконечно более удобном для описания и преподавания, построении языка никак не могло найтись места не только «партикулам», но и просто незнаменательным словам и интонации. Неслучайно, что именно в эту межвоенную эпоху появились и стали регулярными созываемые специальные Фонетические конгрессы (первый конгресс состоялся в 1932 г. в Амстердаме под руководством Й. Ван Гиннекена), в то время как для других языковых «уровней» таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует. Таким образом, в «по-уровневой» системе интонации и партикулам места не нашлось, а в первой, побежденной, системе метаописания, низшие и первичные единицы языка тонули в тумане высказывания-фразы; т. е., иначе говоря, побежденному метаописанию трудно было перейти от интуитивно мерцающей реальности к абстрагированному метаотображению. Любопытно, что только на уровне словаря лексем, т. е. минимальных единиц, все-таки оказалось возможным приписывать слову его интонационные характеристики[16], но в общей системе «по-уровневого» описания интонации и партикулам места не нашлось. Формулируя более четко, скажем, что описание, начинающееся с фонологии, не сосуществует с интонацией и частицами в той же системе и сосуществовать не может. Важно, что приверженцы-создатели новой теории – Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон – постепенно охладели к просодическим заданиям. Р. Якобсон занимался только ударением и стихом (почему – мы скажем в следующем параграфе), а Н. С. Трубецкой нашел выход в полной секуляризации просодии, выделяя ее в «Основах фонологии» в особый, весьма эклектичный раздел. Итак, говоря проще, оба представленных описания языка находятся в отношении «дополнительности». Подобные отношения «дополнительности» вполне известны в таких науках, как, например, физика или биология, и почему-то оказываются совершенно нетерпимыми в лингвистике, видимо, еще не подошедшей к самым первым кризисам «нормальной науки», по Т. Куну. Нетрудно заметить, что некоторым тормозом для смежных наук вообще является обычай? привычка? брать исследователями области А из соседней науки Б нечто, искренне полагающееся незыблемым, тогда как для ученых самой Б эта незыблемость может ставиться под сомнение. Так, выше мы говорили о том, что многие лингвисты считали, что язык (речь) человека начинается с высказываний, т. е. синтаксиса. И только «нормальная наука» сделала синтаксис уровнем высшего класса. И вот мы читаем у биологов [Зорина, Смирнова 2006: 165]: «Эта способность комбинировать символы не случайным образом, а в порядке, который передает вполне определенный смысл, заставляет предполагать, что антропоидам доступно наиболее важное свойство языка человека, то, что в лингвистике считается его вершиной, – синтаксис». А если «в лингвистике» попытаться перевернуть пирамиду уровней? § 3. Возможности метаотображения и реальность эмпирии[17] К вопросу о том, к какой части речи принадлежат партикулы, и к тому, почему же так долго и так неохотно лингвистика как «нормальная наука» не принимала ни «дискурсивных слов», ни интонации и все время стремилась отбросить их на особые эволюционные рельсы, необходимо еще раз вернуться и рассмотреть это с несколько другой точки зрения. Несмотря на их вполне законный статус в пределах языковых систем, дискурсивные слова есть, скорее, факт устного общения или (как это мы покажем далее) были ранее фактом исключительно устного общения. Как уже говорилось в параграфе 1, эти частички-партикулы уводят нас к чему-то очень древнему, к самым ранним пластам языковой эволюции; значения их (если можно говорить вообще об их «значениях») диффузны, размыты (как будет показано также в главе третьей на славянском материале), но, рассмотренные с общеславянской точки зрения, они воссоздают какую-то общедоступную для носителей славянских языков семантику. Итак, лингвистика как «нормальная наука» настоящего времени не любит ни устного, ни диффузного, ни – в целом – чего-то, не имеющего таксономического статуса. Но – почему? Корни этого, как представляется, восходят к глубокой древности и соотносятся с неким парадоксом описания языкового существования. Парадокс этот можно описать следующим образом. Все как будто бы знают, что в начале человеческая речь была устной, а письмо, запись речи, появилось гораздо позднее. Но в человеческом осознавании этого письменный текст был (и остается) примарным. Нам уже приходилось по этому поводу цитировать Мишеля Фуко [Фуко 1994: 75], который пишет о самой ранней «эпистеме» отношения мира и вещей: «переплетение мира и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности. (…) Отныне первоприрода языка – письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные слова; Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге. (…) Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность». Именно поэтому, подчиняясь некоему общему закону, приверженцы «нормальной науки» Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон и занимались в основном следующими проблемами: ударениями – они имеют (имели) графическое воплощение, или стихом, который легко поддается разметке. Интересное наблюдение о человеческой ориентации на текст находим у такого многостороннего лингвиста, как И. А. Бодуэн де Куртене: «Усвоение письма ослабляет память на акустически воспринимаемые и акустически передаваемые явления. (. ) Память грамотного человека регрессирует и уже не может обойтись без помощи чтения и письма. (. ) Я, например, принадлежу к числу грамотных и когда хочу представить себе что-либо, мыслимое с помощью языка, то как бы вижу перед глазами написанные слова и фразы. Как я представлял себе то же в детстве, до того, как обучился грамоте, – я уже не могу вспомнить. По всей вероятности, я вообще не делал попыток в этом направлении» [Бодуэн де Куртене 1963: 331]. Можно предположить, что эта концептуальная презумпция отображения мира, в том числе и слышимого, только в графическом пространстве изначальна[18]. Во всяком случае, интересно заметить некоторую эволюцию верификационных установок у литературоведов. В принципе, ранее, если стоял вопрос о влиянии одного автора на другого или – уже – о влиянии произведения одного автора на произведение другого автора, метод верификации состоял в обнаружении (попытках обнаружить) книги (книгу) автора А у автора Б и, желательно, еще с пометками автора Б «на полях». Между тем, каждый человек, в том числе и филолог, понимает, какую огромную часть получаемой им информации вообще он получает именно из устного и нигде не зафиксированного общения. Упомянутая эволюция, или методический сдвиг, состоит сейчас в том, что гораздо большее внимание уделяется дневникам, письмам, путевым заметкам писателей – с надеждой найти там следы все той же полученной им информации. Можно предположить, однако, что за этой установкой на письменную оболочку языка стоит желание (или надежда?) видеть в ней некую опору, уверенность в том, что мы видим мир и язык таковыми, каковы они суть. На самом деле метаотображение языка не всегда столь всеобъемлюще, как наше же его понимание. Известно, в частности, что интонационный поток многоканален и передает сразу самую разнообразную информацию, тогда как самые совершенные средства современной экспериментальной фонетики отобразить могут только три его измерения или же – разбить этот поток в виде нескольких информационных лент. Эти идеи подводят нас к общим положениям соотношения метаотображения, эмпирической реальности и интуиции. И «мелкие словечки», и интонация снабжают высказывание таким большим дополнительным к лексико-грамматическому составу количеством информации, что современная лингвистика как «нормальная наука» передать это практически не может. Мне уже приходилось писать о том, как в эпоху советской цензуры [Николаева 2002] слушатели «бардовских» песен и даже вполне серьезной музыки находили в мелодиях некие «закодированные», но всем понятные политические намеки. При этом «этого же» у других исполнителей той же музыки или тех же песен не было. Точно также иногда люди, входя в комнату, ощущают нечто: приятное? странное? опасное?, чего объяснить на основе правил не могут. Если вернуться опять к книге Т. Куна [Кун 1975: 241], то в заключительных главах (Дополнение 1969 года) он пишет о «неявном знании» и интуиции как о проверенных и «находящихся в общем владении научной группы принципах, которые она успешно использует, а новички приобщаются к ним благодаря тренировке, представляющей неотъемлемую часть их подготовки к участию в работе научной группы». Приведу некоторые примеры из исследований лингвистов-коллег. Владимира Николаевича Топорова как ученого отличала интуиция, доходящая почти до визионерства. Он был Мастером в старинном средневековом смысле (недаром и писал о Мастере Экхардте). Его работа об античных Музах, которых он доводит, реконструируя, до полевых мышей Малой Азии, кажется несколько неожиданной [Топоров 1977]. Однако два взрослых русских поэта пишут: «Музы, рыдать перестаньте» (Н. Гумилев) и «Я так боюсь рыданья аонид» (О. Мандельштам). Откуда этот страх? Как кажется, это элементарная человеческая реакция отталкивания от неприятного писка мышей. Другой пример. А. Б. Пеньковский пишет о «Нине», роковой, страстной, ломающей жизнь героине русской литературы первой трети XIX века, но – почти не существующей [Пеньковский 2003]. Но спустя полтораста лет мы слышим в «блатной песне»: «Сегодня Нинка соглашается, / Сегодня жизнь моя решается… А если Нинка не капризная, / Распоряжусь своею жизнью я!» Полувиртуальная Нина сохранила свою сущность. Итак, мы считаем, что эмпирическая реальность и ее мета-отображение суть явления разной природы. Наука ХХ века сумела отделить образы, существующие в нашем сознании, и впечатления от непосредственно данных нам в восприятии феноменов. То есть в ХХ веке пошел активный процесс преобразования бессознательного в сознательное («трансцендентная функция»), и именно это породило в конце концов ту лингвистику – «нормальную науку», которая сейчас является господствующей. Неслучайно И. А. Бодуэн де Куртене, как кажется, понял это один из первых, и его термин «психический» нужно понимать как образ сознания, так же, как «логический», который сейчас связывается не с логикой, а просто со смыслом. Повторяя слова К. Г. Юнга, можно сказать, что «Психическое существование – это единственная категория существования, о котором мы имеем непосредственное знание, так как ни о чем невозможно узнать, если это сначала не появится как психический образ. Только психическое существование непосредственно поддается проверке. В той степени, в какой мир не принимает форму психического образа, он фактически не существует» [Юнг 1997: 507]. Таким образом, наше метаотображение фиксирует воспринимаемое, в том числе и смысл слышимого, лишь частично, в той мере, в какой это структурировано в нашем сознании. Как подробно описала Н. Д. Арутюнова в своей книге [Арутюнова 1988], только сенсорика реагирует на актуальные события, знания же и факты располагаются в нашем сознании. Основной идеей, проводимой в моей книге «От звука к тексту» [Николаева 2000], была идея принципиального различения валоризованной системы и эмпирической реальности, которые связаны одна с другой через когнитивный порог перцепции: феномен эмпирии, перейдя через некий квантитативный порог, может войти в валоризованную систему, увеличив ее или даже несколько перестроив. То есть, это несколько другая интерпретация положения о «переходе количества в качество». Несомненно, что обсуждаемые здесь партикулы, называемые обычно «дейктическими» (на этом мы остановимся далее), включены в ситуацию сиюминутности или выросли из нее. Именно поэтому их первоначальную общность и нежелательно восстановить для лингвистики как «нормальной науки». Именно поэтому многие партикулы, бывшие позиционно и исторически свободными и примарными, лингвисты стремились объявить застывшими или окаменелыми формами уже сложившихся парадигм. На самом деле валоризованная лингвистика с фактами того же языка в эмпирии пересекается. В работе [Николаева 2002] я приводила в связи с возможностями отражения интонации положения Э. Бенвениста из его доклада на Лингвистическом конгрессе 1963 года. Считаем нужным повторить их и здесь. Э. Бенвенист понимал, что существуют два разных языковых мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разных лингвистики, пути которых, однако, пересекаются. «С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующимся в структуры и системы; с другой – проявление языка в живом общении» [Бенвенист 1974: 139]. См. у него далее: «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (le discours)» [Там же]. Можно считать, что эмпирическая реальность языка – это речь, и отражает ее лингвистика речи. Однако и в данном случае наблюдения языковедов о речевых структурах или спорадичны, или переходят в область лингвистического употребления, то есть становятся правилами выбора «из оси селекции на ось комбинации», но не подлинным отражением, рецепцией того, что воспринимается и ощущается носителем языка в каждый момент. § 4. Лингвистика парадигматическая и непарадигматическая Общепринято деление на парадигматику и синтагматику и тем самым на лингвистику парадигматическую и синтагматическую. Эта последняя изучает правила соединения словоформ в синтагмы (словосочетания) и в предложения (высказывания). Тогда что же такое лингвистика «непарадигматическая»? Как с этим связаны минимальные единицы – партикулы? Собственно говоря, «непарадигматическая» лингвистика – это то, о чем говорится в данной книге, и, как представляется ее автору, это и есть некая «дополнительная» система лингвистического метаописания. В параграфе первом приводятся мысли Ф. Адрадоса и К. Шилдза о том, что протоиндоевропейский язык на первой стадии состоял «из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения». То есть, иначе говоря, существовали два класса языковых единиц – те, которые составили впоследствии так называемые «знаменательные слова», и слова «коммуникативного фонда», часто называемые дейктическими, или дискурсивными. Они присоединялись друг к другу (как именно присоединялись, будет говориться во второй главе). В настоящей же книге речь идет о единицах второго класса (в терминологии К. Шилдза – «прономинально-адвербиальных»), которые легко раскладываются на минимальные единицы – партикулы. Приведем простой пример. Откуда произошло окончание дательного падежа слова жена – жене? Историческое языкознание объясняет это так. GENA + I > GENAI > GEN?, так как A + I > AI > ?. Подобные объяснения знают студенты еще на младших курсах. Но при этом не ставится и не решается простой вопрос – что же это за i, присоединяемое к основе, тождественно ли оно i, лежащему в основе флексии номинатива множественного числа, и другим i, например, в глагольных флексиях, или это разные по функции и семантике i? Наконец, небезразличен для истории языка и такой вопрос: какова была в предыстории позиция этого знаменательного корня *gen– и какова была его функция в высказывании, при которой это i присоединялось именно справа. То есть, иначе говоря, речь идет о том, как функционально дистрибуировались эти два типа единиц, описанных Ф. Адрадосом и К. Шилдзом, выбирая ту или иную последовательность представителей этих классов в зависимости от коммуникативного задания говорящего в ту эпоху. Можно – сначала упрощенно – сказать, что таким способом выявляется мотивация того, как «из вчерашнего синтаксиса возникает сегодняшняя морфология» (афоризм Т. Гивона). Почему было сказано: «упрощенно»? Потому, что слова «вчерашний синтаксис» предполагают синтаксис в нашем современном его понимании, упорядоченные сочетания уже сложившихся форм словоизменения. Каков же был на самом деле «до-флективный» и «до-частеречный» синтаксис? Его мы, по моему мнению, должны реконструировать методами «непарадигматической» лингвистики, которая пока еще только возникает. Конечно, некоторые отдельные попытки воссоздать этот «минисинтаксис» словоформы уже делались, и давно: например, Ф. Шпехт трактовал форму множественного числа от греческого «человек» – a?e?e? как «один человек и один здесь, а один там», то есть это как бы тройственное число[19]. Уже говорилось о том, что «нормальная» лингвистика этот вопрос практически не ставила. И можно понять – почему. Это – страх перед первоначальной диффузностью элементов, при которой современные семантические методы явно не работают. Это страх перед новой таксономией, который уже не толкает к тому, чтобы объявить приклеившиеся партикулы «застывшими» или «окаменелыми» формами в прошлом состоявшихся членов все тех же частей речи. Это нежелание подумать о том, что наступает время новой парадигмы, которая, возможно, потребует расстаться с удобной идеей униформитарности, прочно укрепившейся в последние десятилетия. С идеей униформитарности связана и установка на невозможность – в эволюции – существования типологических тупиков. Дискуссии вокруг теории униформитарности относятся в основном к 80-м годам прошлого века, когда появились две книги, ставшие сразу цитируемыми. Это монографии Р. Лэсса [Lass 1980] и Дж. Айтчисон [Aitchison 1981]. Принцип униформитарности, провозглашенный Р. Лэссом, означал следующее: «Не существует ничего (т. е. никаких событий, последовательностей событий, комбинаций явлений, общих законов), что по каким-либо разумным причинам не могло бы существовать для настоящего, но было бы истинным для прошлого» [Lass 1980: 55]. В более поздних работах Р. Лэсс повторяет этот тезис, а также тезис о том, что изменения в языке не принадлежат области рационального изменения: «Я не думаю, что языки – это «системы» в собственно-техническом (т. е. системно-теоретическом) смысле, и что, таким образом, их можно удачно диахронически рассмотреть, даже если бы они и были таковыми»; он считает, что изменения в языке вообще не подлежат никакому объяснению [Lass 1987: 151]. Аналогичные идеи развивает и Дж. Айтчисон: см. характерное название ее книги «Языковое изменение – прогресс или упадок?». Естественно, что идеи униформитарности в свою очередь неотделимы от типологических изысканий, так как допустить что-либо неизвестное ранее в древности, по этой теории, можно лишь в том случае, если хоть где-нибудь найдется язык, обладающий искомым свойством. Таким образом, язык отделяется от других антропоцентрических проявлений, за которыми все-таки оставляют право иметь тупиковые и даже нам совсем неизвестные ответвления. Напоминаю, что в нашей работе будет говориться именно о не описанных таксономически частичках языка, партикулах, которые могут выступать сейчас как лингвистические единицы – тогда они становятся либо союзами, либо так называемыми клитиками[20], либо частицами в грамматическом смысле; они могут склеиваться друг с другом, создавая новую лингвистическую единицу; они могут «приклеиваться» к глагольной или именной основе в виде аугментов, будущих флексий, будущих расширителей[21]. Таким образом, «непарадигматическая» лингвистика, в нашем понимании, это некая (практически новая) лингвистическая дисциплина, пытающаяся приблизиться к описаниям протоязыка Стадии I и проследить механизм возникновения словоформ, имеющих флексию, через описание еще не введенного в лингвистику, но явно единого по происхождению класса – класса партикул. То есть «непарадигматическая» лингвистика может быть определена как новая дисциплина, стоящая между синтаксисом и морфологией[22]. Однако одновременно она обращена и к синхронии, и к глубокой диахронии, так как не представляет собой историю тех слов, или словоформ, которые мы видим в языке и речи в настоящее время. Этой дисциплины пока еще не существует – так же, как не существует такой части речи, как партикулы. Не существует пока и исследовательских методов, которые могли бы дать желанную историю партикул с не менее желанной мотивацией их преображения[23]. Как представляется, одним из подходов к этой истории может быть обнаружение «скрытой памяти» языка, о которой будет говориться в следующем параграфе. § 5. « Скрытая память» языка и возможности ее выявления[24]. Партикулы и знаменательные слова В этом параграфе демонстрируются сразу две теоретические позиции, одна из которых предполагает другую. Проще говоря, на дискуссию выставляется такое общее понятие, как «скрытая память» языка. По нашему мнению, скрытая память языка распространяется не только на партикулы, не только на слова коммуникативного фонда, но и на слова так называемые «знаменательные». С другой стороны, концепция «скрытой памяти» может служить одним из способов реконструкции «партикульной» диахронии. Итак, что же такое «скрытая память» языка? Прежде всего, ясно, что речь не идет о фактах обыденного научного знания, т. е. о тех фактах, которые известны историкам языка и специалистам компаративистам. И не о тех фактах, которые сообщаются студентам. Так, например, описание диалектной дистрибуции праславянского ? – это не скрытая память. Объяснение того, почему в одних случаях в языке имеет место «беглая гласная» (лоб – лба), а в других нет (дом – дома), также не является «скрытой памятью», так как это тоже факты обыденного научного знания, об этом знают и пишут в нормативных учебниках. Говоря обобщенно, можно сформулировать понятие «скрытой памяти» языка как ту ситуацию (или те случаи), когда в рече-употреблении сосуществуют два как будто бы свободно заменяющихся в коммуникации варианта (лексемы, грамматические формы, синтаксические модели и под.); при этом на вопрос, чем их употребление различается, носитель языка ответить не может. Не может, как правило, ответить на этот вопрос и кодификатор-лингвист (т. е. при этом для вариантов иногда даются пометы вроде «разг.», «книжн.», «вариант» и т. д.). И только пристальное исследование большого массива данных дает возможность выявить некоторую «тенденцию», позволяющую интерпретировать это различие; именно тенденцию, а не грамматикализованную модель. Иногда помогает выявить эти различия какой-нибудь формант, который не воспринимается и не описывается традиционно как релевантный фактор различения «вариантов». Почти обязательным для «скрытой памяти» феноменом является «наивная» (в буквальном смысле) реакция носителя языка, и даже филолога, на вопрос об этих вариантах – в том смысле, что ответом будет сообщение о том, что ведь можно сказать и так, и так, и все равно будет правильно. Иными словами, разработка «скрытой памяти» не относится к той строгой лингвистике как нормальной науке, в которой описание строится по принципу: можно – нельзя. Разумеется, я понимаю, что предлагаемая теория только нарождается. Все сказанное далее будет относиться к сфере партикул, которые, на мой взгляд, во многом помогают вычислить эту «скрытую память» языка. Именно они, по-моему, являются теми подводными межевыми столбами, которые помогают нам проследить путь языковой эволюции. Допускаю, что моя точка зрения пристрастна. Допускаю также, что и знаменательные слова, не перешедшие в разряд дискурсивных слов, тоже могут как-то определять «скрытую память» языка. Приведем некоторые примеры. Нам уже приходилось писать об употреблении / неупотреблении в речи русского местоимения первого лица я[25]. Что же представляет собой это я в индоевропейской предыстории? Естественно, оно соотносится с такими же односложными формами славянских и балтийских языков. Но переход к индоевропейским языкам ведет я к греч. ???, латинскому ego, др. – инд. aham, авест. az?m и др. [ЭССЯ. 1974. Вып. 1: 100—103]. Таким образом, оно предстает как трехчленное партикульное сочетание: e (как в э + то) + g/h/z/ + m. В ЭССЯ оно реконструируется как *egom (’It is me’). Неясными остаются: идентификация чередования e/a и объяснение того, почему в одних языках есть в этой форме j, а в других – нет. О. Н. Трубачев интерпретировал начальный j как необходимую вставку, для того чтобы избежать частых зияний, поскольку для Я частотна конструкция а + я, тогда было бы а..а. Возможна и другая концепция, по которой *j-восходит к релятивному форманту, соединяющему части высказывания. Так, о более древнем чисто разделительном характере относительного местоимения *jo писал еще Я. Гонда [Gonda 1954—55: 1]. См. также у К. Красухина: «Частица o/jo, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, подобная *de, т. е. выражающая противопоставление предшествующей конструкции и направленность на последнее сообщение» [Красухин 2001: 129]. Тогда русское я может раскрываться в предыстории как четырехчленный катафорический комплекс, состоящий из четырех (возможно, в других языках – трех) партикул: *j + e + gh’ + om. Что же этот комплекс означает, если его перевести на современный язык русских частиц-партикул? Это: ’а + вот + он + я’. Интересно, что именно так часто отвечают русские, имея в виду самого себя, на вопрос: А где такой-то? Таким образом, «скрытая память» языка сохранила семантическое тождество этого древнего четырехчленного катафорического комплекса, только переодев древние партикулы в новые одежды из того же мешка партикул, а старый комплекс свернула до неузнаваемого неспециалистами моносиллаба. Но с этим словом, местоимением первого лица, связаны и другие интересные вещи. Те, кто признает изначальную композитность этого местоимения, расчленяют его по-разному. Так, например, О. Семереньи [Семереньи 1980: 231] пришел к выводу, что *-m было более ранним, и именно оно было личным окончанием глагола в первом лице: «Следовательно, значащим элементом в номинативе является не *eg(h), а -om; *eg(h) – это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению *em». То, что позднее (т. е. современное) первое лицо восходит к комплексу частиц, а собственно показателем первого лица является m-основа (см. м-ой, м-не, mein, my, moi и т. д.), признает также В. Н. Топоров ([Топоров 1992] и др. его статьи). Эту форму он реконструирует как *eg’hom и пишет о ней: «и. – е. *eg’hom, как бы его ни членить, …состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере» [Топоров 1992: 131]. Первым элементом он считает дейктический элемент: *e-, *H’e-, *H’ei-? *H’I и т. д. Вторым элементом – усилительную частицу: *-g’h-, *-gh-. Но основное внимание он уделяет последнему элементу, с опорой на -m-, развивая идею совместного существования этой формы и той, которая выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей у местоимения первого лица – т. е. *men. По мнению В. Н. Топорова, это *men связано с корнем «общементального значения» (см. mens/mentis), «тонкой духовной субстанции», противопоставляемой субстанции более грубой, связываемой со вторым лицом. То есть, по концепции В. Н. Топорова, в виде интродукции сначала вводится «Вот моя здешнесть», то есть я, после чего это я поясняется через *men-, атрибуируется. Выводы В. Н. Топорова интересным образом соотносятся с выводами Г. А. Золотовой о существовании местоимения первого лица, точнее, русского субъекта, которое выражает «инволютивную маркированность» [Золотова 2000]. Имеется в виду в данном случае Мне хочется, рассматриваемое ею в противопоставлении с Хочется. Положения Г. А. Золотовой интересно сравнить с исследованием о двух формах субъекта в среднеанглийском языке и в раннем современном английском: I think – Methinks [PalanderColin 1998]. Автор приходит к выводу о том, что I think употребляли представители «элитарных слоев» и более авторитарно выражающиеся англичане, а форма Methinks была представлена в речи купцов и более низких слоев, скорее, колеблющихся в своих выражениях. Эти выводы вполне коррелируют с выводами Г. А. Золотовой о сути категории инволютивной / волютивной маркированности. Некоторое сходство с высказанными выше идеями можно найти в известной работе И. М. Тронского о дономинативном прошлом индоевропейских языков [Тронский 1967]. Хотя статья в целом посвящена реликтам дономинативного строя и в ней утверждается мысль о том, что в функции субъекта употребляется иногда винительный в безъобъектном значении, его примеры вроде латинского (Heu) Me miserum ’О, я несчастный’ [Тронский 1967: 94] также важны тем, что демонстрируют возможность введения первого лица без интродуктивного построения ’ вот + он + я’, к которому на самом деле восходит индоевропейское «Я». Достаточно сложное построение, однако близкое к указанным выше, предлагает для форм первого лица В. М. Иллич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1971]. Он перечисляет (и, действительно, очень убедительно) те языки, где m– основа связывается с первым лицом. Однако у автора явно возникают колебания в вопросе о том, что же считать исходной формой местоимения, а что – показателем косвенной основы. Он формулирует вывод следующим образом: «Наличие форманта косв. пад. – n– в форме gen. предполагает, по-видимому, что первоначальная форма me– выполняла функцию прямого падежа (основа косв. пад. me-n); введение специфического и. – е. новообразования – формы *hegHom в nom. (первоначально эмфатическая форма?) вызвало изменение функций основы *me-. В и-е., по-видимому, наличествовал вариант с предшествующим he-/ho– (восходящим к указат. мест.)» [Иллич-Свитыч 1971: 397]. Таким образом, вводящая конструкция у В. М. Иллича-Свитыча была элементом словоформы, вытеснившим в косвенные падежи исходное начало me-, которое в других языках ностратического пространства могло быть вытеснено формантом n-, также ставшим в свою очередь инициалью. Однако для первого лица единственного числа в индоевропейском реконструируется еще одна форма. См. хеттское uk-, продолженное в германских местоименных формах, сохранивших много реликтовых элементов. К. Шилдз [Shields 1998] объясняет эту форму как контаминацию уже «ослабленного» первоначального дейксиса *u и дейктической частицы *k(e/o), обладающей семантикой ’here and now’. То есть и эта форма местоимения первого лица также есть первоначальный композит, а именно – комбинация дейктических элементов, очевидно, с тем же катафорическим значением вроде ’ вот я’. Все это можно было бы считать просто историей личных местоимений первого лица и не относить к явлениям «скрытой памяти», если бы это не имело отношения к одной скрытой тенденции различения двух конструкций, которую как раз демонстрирует именно русский язык. Дело в том, что в русском языке равно допустимы в речи и формы с представленным местоимением первого лица единственного числа: Я люблю хорошо заваренный чай, и формы без местоимения: Люблю хорошо заваренный чай. См. также в поэзии: Люблю тебя, Петра творенье (Пушкин) и Я люблю этот город вязевый (Есенин). То есть русский язык оказался интересным лингвисту для возможных новых выводов, находясь как бы в некоей середине, где по одну сторону помещаются языки с обязательным местоимением (например, английский, французский, немецкий), и языки, где местоимение в речи практически почти всегда опускается (итальянский, польский и др.). На эту особенность русского языка лингвисты не обращали пристального внимания, однако в последние годы появилась серия работ, начатых Ж. Брейяром и И. Фужерон [Брейяр, Фужерон 2001; Breuillard, Fougeron 2001; Брейяр, Николаева, Фужерон 2003], в которых демонстрируется, что за этим внешне не систематичным варьированием форм с местоимением и без него можно увидеть определенную тенденцию. Эта тенденция такова[26]: во-первых, местоимение возникает тогда, когда имеет место противопоставление – как контактное (Гости давно ушли, а я все продолжал обдумывать происшедшее), так и дистантное (Посмотрите, как прекрасно выглядит Маша: такая подтянутая, спортивная. А я не люблю спортивных женщин). Интересно то, что связь местоимения с противопоставлением отмечалась для древних языков [Елизаренкова 1982: 241 и др.] и отмечается для тех языков, где местоимение как правило отсутствует (например, см. о польском: [Nilsson 1982: 54]; об испанском: [Васильева-Шведе 1948: 530]). То есть это, очевидно, одна из древнейших синтаксических реализаций сочинения при противопоставленности[27]. Далее. Во-вторых, местоимение первого лица появляется в русском языке при наличии в этом же высказывании других местоимений, часто контактных по отношению к нему, например: Он знает, что я ему этого не говорила; Честное слово, я их не видела и т. д. Интересно, что в старославянском, где употребление местоимения при противопоставлении обязательно, указанная выше ситуация я не требует [Ефимова 2002]. Существует и ряд речевых штампов, когда, напротив, практически не употребляется я: Прошу слова; Слушаю Вас; Стреляю и т. д. Однако основной вывод, который сделали Ж. Брейяр и И. Фужерон на материале современного русского языка, очень важен для объяснения контекстно-семантических отношений. А именно: я не употребляется тогда, когда говорящий полностью присоединяется к точке зрения Другого, я употребляется при несовпадении точки зрения говорящего и точки зрения Другого. Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, в семантику не-присоединения к точке зрения Другого как подвид органически входит и сообщение о Новом: новом событии, новой точке зрения, собственной новой акции[28]. Во-вторых, существенно понять, что этим Другим может быть и сам говорящий. Люблю хорошо заваренный чай! может утверждать человек, говоривший это много раз и еще раз в этой своей любви убедившийся. Поэтому А. Пушкин убежден в своей любви к Петербургу и повторяет это не раз: Люблю твой строгий, стройный вид… С. Есенин же понимает, что его любовь к дряхлой Москве может быть оспорена: хоть обрюзг он и одряб.., но, споря с этим, он утверждает: Я люблю этот город вязевый. Эта тенденция хорошо прослеживается и на самом простом бытовом уровне. – Ну, ты идешь? – Иду, иду, – подтверждает жена. Ср.: Ну, ты идешь? – Я иду (’То есть, ты думаешь, что я копаюсь, но нет: я иду’). Теперь можно снова обратиться и к партикулам, и к «скрытой памяти», эффектно подтверждающейся именно этой сохранившей архаику русской особенностью. Итак, я – это катафорическая комбинация партикул (см. выше). Естественно, что эта объ-явленность себя, своей точки зрения (ср.: «вот моя здешнесть») и должна связываться с противопоставлением, с объявлением нового, началом текста, с несогласием. Легко представить себе, что официант говорил: Слушаю-с, а начальник: Я слушаю. Гораздо труднее ответить на вопрос о том, почему одни языки грамматикализовали обязательность местоимений при финитных глаголах, другие – грамматикализовали практическое отсутствие местоимений, а русский язык почему-то сохранил в неявном виде это тонкое семантическое различие. На связь «скрытой памяти» и партикул можно привести еще несколько примеров (они приводятся в [Николаева 2002]). Так, в частности, А. И. Рыко [Рыко 2000] исследовала дистрибуцию окончаний 3-го лица настоящего времени глагола в северозападных русских говорах. В работе приводятся данные о том, что в 3-м лице глагола может быть на конце флексия t или t’ или этой флексии нет. На первый взгляд, здесь представлена именно свобода выбора варианта: у одних информантов чаще один вариант, а у других – другой. Количественные показатели, по ее данным, меняются даже от деревни к деревне. Однако, в соответствии с выдвинутым нами выше положением о статусе «скрытой памяти», намечается некая тенденция, которая все же пробивает дорогу к исследователю. Что же это за тенденция? Как пишет А. И. Рыко [Рыко 2000: 129], «применительно ко всем этим системам можно говорить о противопоставлении актуальных и неактуальных значений презенса, причем актуальные значения характеризуются преимущественным употреблением флексии -t, а неактуальные – преимущественным употреблением флексии -o». Более подробно о «прилипании» партикул к знаменательным корнесловам и создании глагольных и именных парадигм с партикульной помощью будет говориться в главе второй настоящей книги, но сейчас можно только сказать по этому поводу, что эти северо-западные говоры «помнят» о том, что добавление партикулы с опорным консонантом -t, то есть с сильной семой определенности «здесь и сейчас», создает именно значение актуальности, а нулевая флексия не создает этой дейктической привязки. В других говорах и в литературном языке прошла грамматикализация окончаний с обязательным добавлением консонанта или с «не-добавлением», а анализируемые северо-западные говоры остались в архаической середине. Как будет говориться в главе второй, партикулы могли и могут «прилипать» не только справа от знаменательной основы, но и слева. Так, в работе [Николаева 2002] приводится пример того, что в формах греческого глагола (аориста и имперфекта) инициальным компонентом является аугмент -?, который в настоящее время преподается студентам как чисто грамматический формант-показатель категории. Однако Вяч. Вс. Иванов [Иванов 1979], вслед за К. Уоткинсом, предлагает отождествить этот формант с начальной частицей *e/o (в палайском и других языках отраженной как *a). Вяч. Вс. Иванов разбирает подобные начальные комплексы в индоевропейских языках и, широко привлекая славянский материал, показывает соответствие этого «аугмента» начальному э– в русском э-тот, э-та. Таким образом, партикула э в данном случае «помнит» свое инициальное ударение (инициальное ударение для лексемы это сохраняется), но и аорист как действие яркое, мгновенное и, скорее, сиюминутное, «помнит» именно эту актуальную «здешнесть». Представляя нашу концепцию «скрытой памяти», мы обращались к идее В. Н. Топорова [Топоров 1992] о том, что *men– в косвенных формах местоимения первого лица соотносится со знаменательным корнем *men-, обозначающим некую тонкую духовную субстанцию. Это подводит нас, в свою очередь, к самой трудной проблеме: связи партикул и знаменательных слов, к проблеме того, могут ли они «перетекать» из одного класса в другой. Некоторые современные решения при этом довольно просты. Например, наречие здесь легко разлагается на исходный комплекс партикул: сь + де+ сь. Но это наречие есть также дейктическое слово. Возможны и такие случаи, когда и имя собственное на самом деле реконструируется как дейктико-анафорический комплекс. Интересный пример подобной ситуации приводит Т. А. Михайлова [Михайлова 2001]. Так, в древнеирландской нарративной традиции часто фигурирует женский персонаж, обозначенный в тексте как Этайн и обычно исполняющий функции супруги правителя, наделенной рядом признаков, демонстрирующих связь с потусторонним миром. Однако, даже если рассматривать этот персонаж как чисто мифологический, становится очевидно, что составить «биографию» женщины-Этайн невозможно, т. к. в разных текстах она может фигурировать с разными патронимами и выступать в роли жены разных королей, кроме того, зачав, она обычно производит на свет девочку, с которой они «похожи как две капли воды» и которую тоже зовут Этайн. Принципиальная размытость «биографической парадигмы» этого образа не дает также возможности предположить существование нескольких персонажей, носящих одно и то же имя. Аналогичная картина наблюдается с персонажами по имени Этне, которые очень многочисленны. Т. А. Михайлова, подробно анализируя разные тексты с этими «странными» именами, приходит к выводу, что они развились из сложения двух дейктических основ с семантикой ’этот, оный’ и проч. Именование Этне/Этайн, таким образом, означает буквально «та-вот-та», «вот-та». Исследование подобных ситуаций только начинается. § 6. партикулы и происхождение языка[29] Естественно было бы задать простой вопрос, как и зачем в работу, посвященную партикулам, вводится раздел о современных теориях происхождения языка? А между тем эти вопросы тесно связаны. Глубочайшая древность партикул совершенно очевидна, но были ли именно они языковыми первоэлементами или они развивались параллельно с появлением классов знаменательных слов – трудно ответить и еще труднее – доказать. Поэтому хотя бы в обзорном виде я считаю нужным эти теории, как будет видно, весьма актуальные, представить в этой главе. 1 Прежде всего необходимо заметить, что именно в последние десятилетия вопрос о происхождении языка вдруг стал одним из актуальнейших направлений языкознания. Достаточно сказать, что в 1866 году (по другим источникам, в 1876 году) парижское лингвистическое общество прекратило принимать к серьезному рассмотрению какие бы то ни было исследования о происхождении языка и об истоках его развития. В основе этого запрета лежит конфликт между дарвинистской теорией и взглядами известного тогда лингвиста М. Мюллера, который отрицал эволюцию и назвал дарвинизм «бау-вау» и «пух-пух» теорией. Правда, нужно сказать, что еще Гердер писал о происхождении языка в 1770 году. В 1836 г. о языке как о «внутренней потребности души» писал В. фон Гумбольдт. Можно вспомнить и опыт фараона Псамметиха, описанный Геродотом. Псамметих изолировал двух детей и ждал, на каком языке они заговорят. Будто бы они сказали «бекос», что по-фригийски значит «хлеб». Сходный эксперимент, но уже практически с нулевым результатом, был проделан в XIII веке Фридрихом II Гогенштауфеном. Однако в 1975 г. вышло из печати уже 15 000 публикаций по этому вопросу. Возникло международное общество LOS (Language Origins Society), которое к 1992 году насчитывало примерно 200 официальных членов. Оно было основано в Ванкувере (Канада) в августе 1983 года. Это общество проводит регулярные встречи. Активными участниками LOS являются не только лингвисты, но и антропологи, философы, физиологи, палеоисторики и т. д. Однако вопрос о происхождении языка, как будет видно далее, до сих пор несколько пугает исследователей, и они, возможно подсознательно, стремятся «привязать» возникновение языка к чему-то, уже ранее признанному «нормальной» наукой. Таким образом, как естественно предположить, «креационистская» теория не очень популярна, как и другие идеи о происхождении языка «извне». Однако интересно отметить, что, строго говоря, хотя о «креационистской теории» и говорится немало, нигде в Писании не сказано, что Бог сотворил язык. См. в Первой книге Моисея Бытие: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй… И увидел Бог, что это хорошо». В принципе в Писании могло быть сказано, что Бог решил, принял решение, подумал (пришел к выводу) и т. д. Но он говорит и называет. Но и человек уже владеет языком (или, по крайней мере, не сказано, что он ему дается). См. Быт. 2.19—20: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым… » Говоря строго, «креационистскими» являются и теории происхождения языка посредством «обучения» представителями внеземных цивилизаций, антропоидами или не-антропоидами. Но теории подобного рода мы сознательно обсуждать не будем. Общепризнанным фактом является то, что человек был как будто готов к речи в период более 150 000 лет назад, но сделал это примерно 100 000 лет спустя, в эпоху Верхнего Палеолита. В большинстве работ это так и называется: «Upper Paleolit revolution». Возраст письменности – около 6 000 лет, а признаки знаковых изображений насчитывают примерно 13 000 лет. В настоящее время многие называют прародиной происхождения современного человека Центральную Африку, родину «черной Евы» (black Eve)[30]. 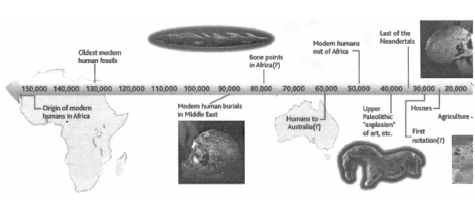 Примерную картину (в буквальном смысле) хронологии развития артикуляторного аппарата и речи удобно представить по иллюстрации Констанции Холден [Holden 1998: 2] (см. илл. на с. 62). Но, как замечает К. Холден [Holden 1998: 282], «thereby hangs a mystery». А именно: в Центральной Азии люди десятки тысяч лет сосуществовали с более «архаичными» неандертальцами. Возможно, что настало время «объединения культур» («socially shared meaning»), которое потребовало создания языка. Известно, что группы первых людей насчитывали примерно 150 человек. Поэтому естественно, при таком разнообразии взглядов, что теории происхождения языка часто являются либо ничего не объясняющими (часто кажущимися «странными»), либо эволюционистскими, но, как будет показано далее, всегда стремящимися объяснить происхождение языка через некий параллельный (в принципе меняющийся от теории к теории) фактор Х. Какие же теории можно перечислить (см.: [Boeree 2003])? 1) Теория «Мама». То есть потребность в контакте с близкими. 2) Теория «Та-та». Это потребность вокализировать движения тела. Так, предполагается, что бипедализм (примерно 5– 6 миллионов лет назад) привел к увеличению занятости рук, а протоязык повторял движения рук и начал комбинироваться с вокализацией. 3) Теория «Бау-вау». Язык имитирует звуки внешнего мира. 4) Теория «Пух-пух». Язык начинается с междометий, инстинктивных эмоциональных выкриков. 5) Теория «Yo-heave-ho». Язык восходит к ритмическому пению, производимому во время тяжелой работы. 6) Теория «Динг-донг». Язык возникает тогда, когда человек находит связь между обликом вещей и набором звуков. 7) Теория «Синг-сонг». Язык рожден игрой, смехом, ухаживанием. 8) Теория «Хей, вы!». Люди нуждались в контакте и потому заявляли «Вот я. Я с вами». 9) Теория «Хокус-покус». Язык восходит к магическим звукам, магии контакта с животным миром. 10) Теория «Эврика». Язык был внезапно открыт. Некие предки осознали, что можно через звуки обозначать вещи. См.: «Humanity does not construct language, it finds it’» [Tassot, 1988: 3]. Но и в этом случае автор кончает самыми простыми вопросами, а именно: когда же язык возник? В начале существования человека, то есть 4—5 миллионов лет тому назад? Или с появления современного человека, кроманьонца, – примерно 125 000 лет назад? Говорил ли неандерталец, который имел мозг больше нашего, но голосовую полость выше – как у обезьян? Но все эти перечисленные выше теории довольно давние. Наиболее современные подходы к раннему состоянию и эволюции языка отражены у четырех авторов, на которых больше всего ссылаются. Это Дж. Айтчинсон (J. Aitchinson), А. Кэрстэйрс-МкКарти (A. Carstairs-McCarthy), М. Таллерман (M. Taller-man) и Т. Дикон (T. W. Deacon)[31]. Дж. Айтчисон [Aitchison 2000], рассматривая эволюцию языка параллельно с развитием психологии и антропологическими изысканиями, соглашаясь с африканским происхождением протогуманоидов, стоит твердо на эволюционистских позициях. Но начало коммуникации она видит в чем-то, что можно назвать внутренним «ясновидением» (mind-reading; ’naming insight’). Отражают воспринимаемые концепции некие «mirror neurons» («зеркально отражающие нейроны»). Таким образом, по ее мнению, протоязык, предшествующий языку человека-потомка, был чем-то принципиально отличным от позднего языка. Но, как считает Дж. Айтчисон, некоторые черты прежнего протоязыка мы можем видеть в языке современном. И это последнее ее утверждение очень для нас важно. А. Кэрстэйрс-МкКарти [Carstairs-McCarthy 1999—2000] – автор книги «Истоки языка во всей его сложности» («Origins of complex language»). Занимаясь ранее формальным описанием языковой морфологии, он пришел к выводу, что семантика возникает для того, чтобы реализовать звучание: «Yet my work on inflectional morphology led me to wonder whether, in some real sense, things may be other way round: meanings exist in order to provide something for spoken words to express» [«И вcе-таки мои занятия морфологией заставили меня прийти к мысли о том, не совершается ли, на самом деле, нечто обратное тому, к чему мы привыкли: смыслы существуют для того, чтобы произнесенные слова могли нечто выразить»]. А. Кэрстэйрс-МкКарти видит в языке три определяющих его особенности: 1) объем словаря; 2) бинарную организацию моделей; 3) отличие высказывания как такового от группы NPs. Сам же он (глава пятая его книги) приходит к выводу, что синтаксис мотивирован фонологией, которая, в свою очередь, вызвана к жизни опущением ларинкса у наших предков-гоминидов. А опущение ларинкса также есть факт, обусловленный началом бипедализма, то есть прямохождения. Таким образом, по мнению автора, истоки синтаксиса лежат в слоговой организации[32]. Книга А. Кэрстэйрс-МкКарти вызвала много откликов и много рецензий. Наиболее критичным был отзыв известного исследователя языковой эволюции Д. Бикертона, само название которого уже достаточно красноречиво: «Calls aren’t words, syllables aren’t syntax» [«Выкрики – это еще не слова, слоги – это еще не синтаксис»]. Очень обстоятельная работа Т. Дикона [Deacon 2003] направлена на демонстрацию сложности и комплексности языковой эволюции, которая никак не может объясняться одной какой-либо причиной. Т. Дикон выступает против нативистской теории Н. Хомского и его последователей, по которой язык дан человеку изначально. Неслучайно, пишет Т. Дикон, по отношению к языку употребляются термины change и drift, то есть язык изменяется и движется. Он и сам по себе – эволюционирующая сущность. Но он эволюционирует вместе с эволюцией мозга. (См. єго более раннюю работу: Brain-language coevolution, 1992.) Широко цитируемый сборник, подготовленный Мэгги Таллерман [Tallerman 2005], собрал вокруг себя самых известных исследователей, занимающихся вопросами происхождения языка и его ранней эволюцией. Правда, его цельности несколько мешает «по-уровневая» в современном лингвистическом смысле постановка вопроса, а именно: ставится вопрос, как возникла морфология, как возник синтаксис, хотя наиболее важными были статьи, освещающие проблемы возникновения дискретности как основного фактора языкового существования (P. – Y. Oudeyer, M. Studdert-Kennedy et al.). Сама М. Таллерман опубликовала статьи, исследующие синтаксис современный в сопоставлении с протосинтакисом. В этом же сборнике опубликована статья уже упомянутого А. Кэрстэйрс-МкКарти и ответ на тот же вопрос самой М. Таллерман. В отечественной науке последних лет в этом отношении выделяется интересная работа А. Г. Козинцева [Козинцев 2004], где, кстати, содержится внимательный обзор последних исследований о происхождении языка. Существенны выводы этой статьи: • Произвольная вокализация у человека такая же, как и у производящих звуки животных, эволюции особой она не подлежала и не может быть базой для развития языковой структуры. • «Никакого языкового органа в человеческом мозгу не обнаружено» [Козинцев 2004: 41]. • «Язык возник не на базе коммуникации приматов, а на базе их интеллекта» [Козинцев 2004: 42]. • «Функциональная карта мозга размыта, диффузна» [Козинцев 2004: 43]. • «Остается предположить, что произвольное связывание звуков и/или жестов (в первом случае нужна дополнительная преадаптация мозга) со значениями и комбинированиями символов были некогда кем-то изобретены (sic! – Т. Н.) (об одномоментности возникновения языка писал еще В. Гуммбольдт), а затем распространились подобно любому полезному навыку» [Козинцев 2004: 47]. Некоторое оригинальное обобщение теорий происхождения языка и его эволюции представлено в книге [Bichakjian 2003]. Б. Бичакжян говорит о трех системах подхода к этому вопросу: Часы (a watch), Колесо (a wheel), Вектор (a vector). «Концепция Часов» предполагает Часовщика, который завел мир по определенной программе (т. е. это креационистский подход). «Теория Колеса» основывается на идее циклов: циклы эти могут по времени различаться, но тоже предполагают конечную неизменность Универсума. «Теория Вектора» вписывает историю языка в общую систему эволюции Универсума. Особенно популярны, как мы постараемся показать далее, те концепции, которые объясняют возникновение языка через эволюцию какой-либо иной антропоцентрической системы. То есть происхождение языка объявляется как бы побочным продуктом какого-либо иного развития. В теориях происхождения языка и в соответствующих конференциях, с этим связанных, объединяются три по сути разные ветви исследований: происхождение языка, эволюция его раннего периода и то, каким именно этот язык был, каковы были его первичные единицы и первичная система. Остановимся, по возможности кратко, на всех этих концепциях, хотя в рамках нашей монографии интересует нас прежде всего последняя ветвь исследований, та, где ученые пытаются обсуждать тип первоединиц и первоструктуры. Заранее можно сказать, что в пределы наших интересов не входит ни предполагаемое место происхождения языка, то есть локализация его прародины, ни время происхождения языка, ни какие бы то ни было вопросы, связанные с языковым родством[33]. Среди «странных» теорий происхождения языка можно назвать «теорию красного мрамора» (red marble theory), см. наиболее подробное изложение этой теории: [Key 1989]. Согласно этому взгляду, первичные частички обслуживают некую семантическую систему первоязыка; со временем они распространяются в разных дозах на производные языки. «Все это напоминает большую сумку с разноцветными кусками мрамора, которая первоначально принадлежит только одному языку. Основной цвет мрамора – красный, и таких кусочков больше половины, остальные же – разных цветов. Куски мрамора смешиваются, а потом пригоршнями разбрасываются по разным направлениям. Каждый новый язык получает свою порцию. Поскольку именно красного цвета было много, то он есть у всех языков. Но если, например, в первосумке было мало бирюзового цвета, то, естественно, в ряде языков бирюзового не будет» [Key 1989: 68—70][34]. Другая теория – теория «невидимой руки» (invisible hand) принадлежит Р. Келлеру [Keller 1985]. Она широко обсуждалась (см.: [L?dtke 1989; Nerlich 1989] etc.). Эта теория видит языковую эволюцию в виде ненатуральных процессов, то есть процессов, не имеющих реальной цели и не зависящих от человеческой интенции. Но они все же определяются третьей серией явлений, которые диктуются именно человеческой деятельностью. Иначе говоря, язык – это обобщенный результат индивидуальных человеческих актов, не зависящий от общих усилий. Языковая эволюция, таким образом, ни спонтанна, ни телеологична. Человеческая активность, ее порождающая, не имеет дальней стратегии. Но все-таки с биологической эволюцией она не сопоставима: изменения в природе абсолютно случайны, а в языке – нет, потому что они продуцируются по уже существующим моделям, случайные взаимодействия которых возможны (simple random interaction). Третьей активно обсуждавшейся в последние десятилетия теорией языковой эволюции была теория «педоморфозиса, или ноотении» (paedomorphosis theory; nooteny theory), автором которой является Б. Бичакжян. Она строится на том, что существуют эволюционные потенции, согласно которым отбрасывается все приобретенное сложное и более позднее. Язык, таким образом, движется в сторону детских первоначальных моделей [Бичакжян 1992; Bichakjian 1988; 1989]. Процитируем некоторые его положения: «Разумным будет допущение, что эволюция языка есть, таким образом, результат движения назад, заложенного в наших генах» [Bichakjian 1988: 133]. «Наблюдая за развитием языков с тысячелетней историей, я пришел к выводу, что человеческие языки последовательно заменяют те черты, которые детьми усваиваются позднее, на те, которые возникают в речи ребенка раньше» [Bichakjian 1993: 5]. Анализируя его достаточно убедительные примеры, как будто бы видишь его полную правоту. Однако в приведенных цитатах важно одно слово: тысячелетней. Таким образом, он рассматривает только языки, послужившие для реконструкции и. – е. Стадии III, по Ф. Адрадосу и К. Шилдзу: древнегреческий, санскрит. То есть отбрасывается то действительно усложненное, что было в индоевропейских языках классической древности. Эта теория вызвала наибольшее количество возражений. Так, Ф. Либерман заявил, что язык не может отличаться от других компонентов человеческой эволюции, а все антропоцентрические данные теорию ноотении отрицают [Lie-berman 1984: VII]. С критикой идеи педоморфозиса выступил в ряде статей один из ведущих деятелей LOS Я. Винд [Wind 1988; Wind 1992]. Но наиболее распространенными и наиболее общепринятыми концепциями происхождения языка являются прежде всего идеи дарвинизма[35]. См., например, тему пленарного доклада в одном из последних по времени коллоквиумов LOS: Bill Croft. The Dar-winization of linguistics (University of Manchester). См. также название последней по времени книги того же Б. Бичакжяна: Bichakjian B. N. Language in a Darwinian perspective. Frankfurt-am-Main; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2002. См. высказывание о взглядах Дарвина на язык, цитируемое М. Новаком [Nowak 2000: 23]: «Для Дарвина не было сомнений в том, что человеческий язык возник из коммуникации животных. Он был просто потрясен аналогией развития биологических видов и языков человека. Так, в своей книге «The Descent of Man» (1871) он пишет: «Образование различных языков и развитие биологических особей, а также доказательства того, что оба они развиваются градуальным путем, по сути те же самые. ‹...› Доминирующие языки и диалекты распространяются широко и ведут к постепенному вытеснению других языков. ‹...› Как и биологический вид, язык, будучи вытесненным, никогда не возникает снова»». Не оспаривая ради единства композиции последних положений Дарвина, считаю нужным включить во вторую часть данного раздела следующие концепции. Они относятся к той параллельной линии развития человека, которая, по мнению многих, способствовала возникновению языка. Интересно, что разные ученые считают этим «параллельно» развившимся стимулом разные феномены. Я думаю, что за этим стремлением искать первопричину языкового развития не в нем самом стоит все то же опасливое желание не принять и не признать автономность языкового существования. Кроме того, поиск «параллельной» первопричины снимает ответственность с гуманитарного исследователя и передает ее «кому-то другому». Итак, эти линии могут: 1) сосуществовать и влиять опосредованно; 2) быть причиной постепенного развития языковых функций; 3) объяснять тот пока никак не интерпретируемый «скачок» от полуязыка к языку собственно человеческому. В заключение данного параграфа постараемся сообщить мысли лингвистов, наиболее для нас важные, но и наиболее трудно выискиваемые (постараемся также и объяснить, почему), а именно: гипотезы о том, каковы же были единицы протоязыка и могли ли они как-то между собой различаться. Итак, теории параллельного эволюционирования! • Появление языка совпадает с латерализацией мозга гоминидов [Chiarelli 1989]. • Оно совпадает с началом изготовления каменных орудий [Ragir 1993]. • Развитие языка – это результат развития эхолокации и акустической сенсорики. «Вполне можно считать верифицированным положение о том, что на ранних эволюционных этапах преимущество было за неоптической сенсорикой, именно она помогала выжить» [Frundt 1993: 15]. • Возникновение языка требовало нескольких этапов развития символики: 1) осознавание гоминидами самой возможности символа как такового; 2) коллективное принятие этих символов; 3) понимание условности символов и – как следствие – развитие мысли, люди стали «думать»; 4) эволюция моторики, миметическая имитация [Donald 1993]. Так, анатомия человеческих останков 40 000-летней давности говорит о том, что были две стадии эволюции фаринкса, а полное развитие фаринкса осуществилось только на второй стадии. Гоминиды должны были преодолеть «gap» между представлением символическим и несимволическим [Donald 1993]. • Скачком было появление поэтического ритма, который связался в сознании с иконическим отображением мира [de Roder 2003]. • Скачком было появившееся искусство подражать, эхолокация [Frundt1993]. • Скачком было соединение двух биоспособностей, которые в неантропоидной среде раздельны: это коммуникация и познавание (когниция). Человеческая способность к познанию становилась символической. Значение символов при этом было двояким: 1) оно позволило человеку получить знания о той реальности, которая не подлежала непосредственному восприятию. Одним из основных свойств человеческого языка является «несоотнесенная» (displaced) референция, способность сообщать о вещах и событиях, которые отдалены от говорящего в пространстве и во времени; 2) оно дало человеку способность конструировать реальность, причем в различных воплощениях [Gyori 1993: 19]. • Язык появился как иконическое отражение. «В Начале был знак. Иконический знак» [Voronin 1993: 44]. Иконизм был присущ и жестовому знаку. Жестовые знаки наблюдаются у горилл, шимпанзе и др. Итак, во всех этих кратко перечисленных концепциях прощупывается следующее: язык начинается при переходе от иконического представления к символическому. Примерно десятилетие тому назад в вопросе о происхождении языка господствовали в основном эволюционистские теории. Так, наиболее цитируемой и популярной стала за это время книга J. Aitchison. The seeds of speech [Aitchison 2000, переиздание]. В этой книге она связывает развитие языка с развитием ряда других обстоятельств антропоцентрической эволюции (это именно то, о чем говорилось выше, и то, что можно назвать теорией параллельного фактора). Этим параллельным фактором для Айтчисон является «оскудение» физического окружения: «Physically, a deprived physical environment led to more meateating and, as a result, a bigger brain. ‹...› An upright stance altered the shape of the mouth and vocal tract, allowing a range of coherent sounds to be uttered» [Aitchison 1996 : X]. [«В физическом смысле оскудение природного окружения приводило к увеличению потребления мяса и, как результат, к мозгу большего объема. ‹...› Прямохождение изменило форму ротовой полости и вокального тракта, позволяя произнести несколько звуков подряд».] Другой сторонник эволюционной теории, Дж. МакКрон [McCrone 1991], пишет, что с появлением ледников (ice ages) го-миниды стали искать пищу, которую уже требовало развитие их мозга. И тут возникновение языка стало необходимым: «Suddenly, a whole new mental landscape opened up. Man became self-aware and self-possessed» [McCrone 1991: 9]. [«Внезапно открылся новый ментальный ландшафт. Человек стал самодостаточным и самопознаваемым».] К. Циммер считает, что возникновение языка есть некий эволюционистский фактор, оставивший мало следов на человеческом скелете, и артикуляторный аппарат – это просто оказавшийся с течением времени ненужный хрящ [Zimmer 2001: 291]. М. Корбалис опирается на несколько «параллельных факторов»: увеличение мозга, смешение жестовой и вокальной коммуникации, при котором жестовая постепенно отходила на задний план [Corbalis 2002: 183]. Число таких концепций, различающихся от автора к автору, легко умножить (повторяю, что наиболее популярна книга Джин Айтчисон). Но, однако, они не отвечают на самые простые вопросы, о которых будет сказано ниже. Какие же это вопросы, которые пока не удалось разрешить, не перейдя от «необъясняемого к необъяснимому»? Они ставятся в специальном обзоре «The origin of language and communication» [Harrub, Thompson, Miller 2004]. В общем виде их можно перечислить так (авторы изъясняются довольно пространно): • Почему, если не-человеческие существа и начинают понимать речь человека или просто произносить человеческие единицы речи, они никогда не делают это сами, а только после обращения к ним человека? То есть эта способность предстает как дар (gift), идущий человека же. • Почему, если речь – это продукт эволюции, никто не отметил (не обнаружил) существа (not human beings) с промежуточной фазой развития? • Что же было в начале: один язык (или почти один) или сразу возникло множество языков? • Почему до сих пор нет ясного представления о том, как маленькие дети с такой быстротой постигают человеческий язык? Так, например, по некоторым данным (английский язык: [Dunbar 1996]), шестилетний ребенок в среднем понимает около 13 000 слов, в восемнадцать он владеет словарем в 60 000 слов. Какой же предлагается ответ? Авторы выдвигают теорию уникальной человеческой способности порождать и понимать речь (не уходя от «В начале было Слово»). Широко привлекаются как свидетельства библейские тексты, из которых как будто становится ясно, что Адам и Ева говорили с самого начала. Эту концепцию – врожденной человеческой уникальной речевой способности – начинают поддерживать такие известные ученые-исследователи речи, как Филипп Либерман [Lieberman 1998]. В более ранней работе [Lieberman 1997] он пишет: «For with speech came capacity for thought that never existed before, and that transformed the world. In the beginning was the word» [Lieberman 1997: 27]. [«Вместе с речью пришла способность к мышлению, чего раньше не было, и это перевернуло весь мир. Итак, в начале было слово».] На последний вопрос (проблема «Вавилонской башни») авторы обзора несколько затрудняются дать свой собственный ответ и примыкают, скорее, к точке зрения Н. Хомского (развитой в его многочисленных работах) о том, что в истоках речевой деятельности лежали изначальные языковые концепты, что и позволяет ребенку в любой стране столь молниеносно осваивать mother language. Как пишут сторонники Н. Хомского, «The conceptual system is not really constructed in the child’s mind as if out of nothing, but must be, in an important sense, known before the fact. The whole system must be in place before it can be employed to interpret experience» [«Система концептов не конструируется в мозгу ребенка, возникая из ничего, но она должна была, и это важно, быть знакомой заранее. Эта система должна быть помещена заранее, пока опыт ее не востребует»] [Oller, Omdahl 1992]. См. также мнение такого известного лингвиста, как Т. Дикон, о том, что уникальность речи у человека и отсутствие явного аналога у других земных видов «is the real mystery» [Deacon 1997: 41]. Разумеется, многие реконструкции прежде всего восходят к понижению ларинкса и тем самым открывшейся возможности манипулировать артикуляторным аппаратом. Итак, хотя есть много очень «умных» животных, авторы обзора заканчивают идеей уникальности человеческой речи, способность к которой является изначальной[36]. Некоторым «прорывом» в отечественном языкознании явилась опубликованная в 2006 г. книга «О чем рассказали «говорящие» обезьяны?» [Зорина, Смирнова 2006]. Разумеется, в книге много говорится о возможностях приматов, их умении порождать и воспринимать сигналы. О возможностях подобных обезьян я читала лет шестьдесят пять тому назад (к сожалению, точную библиографическую справку мне сейчас дать трудно) в книге Владимира Дурова о шимпанзе Мимусе, который понимал практически все, жил у него дома, сидел с ним за столом и был поистине членом его семьи. Более того, я принадлежу к тем раскритикованным в книге людям, которые верят, что и собаки «все понимают». По крайней мере так казалось при общении с любимой собакой. Однако более значительным для интересующей нас темы являются послесловия Вяч. Вс. Иванова («О сравнительном изучении систем знаков антропоидов и людей» [Иванов 2006]) и А. Д. Кошелева («О языке человека (в сопоставлении с языком «говорящих» антропоидов)» [Кошелев 2006]). Говоря более ясно, оба автора прямо показывают принципиальное отличие человеческого языка от языка самых умных антропоидов. Так, Вяч. Вс. Иванов пишет: «Для эволюции человека и его интеллекта важнее всего было одновременное использование нескольких знаковых систем» [Иванов 2006: 362]. А. Д. Кошелев вносит некую принципиально важную ноту в это обсуждение. По его мнению, человеческий язык отличается от языка не-человека не количественно и не структурно, а качественно. А именно: у человека существует (возникает? дано?) системное представление о мире и о языковом его воплощении, которого нет у антропоидов. См.: «Можно предположить, что развитый системный уровень представления окружающего мира является особенностью человеческого мышления, специфическим продуктом его интеллекта» [Кошелев 2006: 412]. И далее: «Человеческий язык возник для экспликации содержания системного представления человека, отражающего наряду с общезначимыми и его персональные, личностно-значимые интерпретации элементов окружающего мира» [Кошелев 2006: 417]. Нечто близкое к этому было изложено в моей книге «От звука к тексту» [Николаева 2000: 11], где говорится об «убеждении в существовании в сознании человека, по крайней мере, двух систем». Одна – эмпирическая, вторая – «валоризованная». «Новой, как мне кажется, является установка на то, что сосуществование этих двух систем (по крайней мере, двух!) пронизывает всю ментальную структуру homo sapiens» [Николаева 2000: 13]. Очень интересно то, что книга о «говорящих обезьянах» тут же получила отклик и у нас [Бурлак, Фридман (в печати)]. Однако авторы этого обзора пошли по несколько иному пути. «Могут ли животные, подобно людям, коммуницировать при помощи знаков?» [Бурлак, Фридман: 1]. И далее приводится множество примеров «животной» коммуникации. Но, строго говоря, это не знаки – это сигналы. Безусловно, животные сообщают, они коммуницируют. Но язык ли это? И здесь мы вступаем в уводящую нас далеко область: язык ли знаки светофора? Что такое «колокол бедствия» и под. Возможно, и наши партикулы когда-то были сигналами, но это уже вне компетенции автора. 2 Какими же были, по представлениям лингвистов, первичные единицы первоязыка? Прежде всего нужно заметить, что в настоящее время уже многие исследователи говорят о двух формах первичного языка: жестовом и звучащем. «Вокальное интонирование было параллельно жестикулированию» [Burling 2000]. Однако человек имел по сути две коммуникативные системы: жестовую-подзывную, которую он разделял с другими биологическими видами, и собственно языковую, которая была им неизвестна [Kendon 1993: 24]. См. об этом и в работе: [Иванов 2006], о которой говорилось выше. Язык состоял из корней или «слов» без синтаксиса [Green 1993: 18]. Эпоха «до-грамматическая» была очень долгой. И все же на вопрос, какими же именно были языковые единицы протоязыка, единообразного ответа не получается. Напомним, что этот вопрос довольно смело решали марристы, предлагая в качестве первоэлементов таинственные: сал, бер, рош, йон. Однако само провозглашение именно этих четырех элементов по сути было чем-то, скажем мягко, не совсем научным. Таким образом, первоэлементы марристов так и остались в положении неких betes noires. Однако обратиться теперь к ним и посмотреть на них с позиций сегодняшнего дня, как мне кажется, стоит. Поэтому в этой работе я предлагаю рассматривать первоэлементы марристов на фоне других, очень важных для их интерпретации, оппозиций: 1) Эти их элементы абстрактны или конкретны? 2) Это корнесловы или нечто вроде дейксисов? 3) В какую лингвистическую парадигму они вписываются – начинающуюся с высказываний и кончающуюся звуком или, напротив, в лингвистику «по-уровневую», танцующую «от фонологии»? Здесь можно продемонстрировать некую неожиданность ответа. Для самого верного и известного последователя Н Я. Марра И. И. Мещанинова эти четыре элемента были вполне реальны и конкретны. Первичный звуковой комплекс, по его мнению, не имел значения, он сопровождал кинетическую речь. Затем далее появилась звуковая речь, разлагавшаяся не на звуки и уж никак не на фонемы, а «на отдельные звуковые комплексы. Этими цельными комплексами еще нерасчленившихся звуков и пользовалось первоначально человечество как цельными словами» [Мещанинов 1929: 181]. Ставши потом членораздельными, эти комплексы выделили четыре первичных элемента. Эти легендарные четыре элемента сначала считались тотемными именованиями, и даже показатели флексионного типа возводились к ним же, то есть к тотемам, Однако потом теория марристов пересмотрела этот тотемный подход и выявила, что они «были изначала не племенными названиями, а терминами иного порядка, приближающимися к основным выкрикам человека» [Мещанинов 1926: 6]. Ранее в этой же книге он говорит о том, что «определенные народы рошат, салят, берят, ионят в различных значениях говорения и действия» [Там же]. Более внимательно глядя, мы видим, что эти акциональные предикаты И. И. Мещанинова лишь характеризуют действия «определенных народов», но не являются собственно словами. Несомненно, что эти четыре элемента, представленные как конкретная явленная данность смущали и самого Мещанинова. Очень характерны в этом смысле следующие его слова, когда на естественный вопрос, откуда взялись именно такие четыре элемента, И. Мещанинов дал очень характерный для этого направления ответ: «Спрашивается, как возникли эти четыре элемента и какое объяснение им дается? Категорически полный ответ дать пока трудно, так как мы вынуждены углубляться в состояние человечества, о котором сейчас человек уже забыл» [Мещанинов 1929: 175][37]. Другой последователь Марра – С. Д. Кацнельсон, напротив, говорил о первоэлементах обобщенно, избегая их называть прямо. См.: «Этап первобытного синкретизма. Имена-предложения. Нерасчлененность субъекта и объекта. Крайне бедный состав имен» [Кацнельсон 2001: 237]; «Слова на начальной ступени развития выступают в виде синкретов, то есть слов, в которых момент предметности еще не отграничен от чувственных признаков предмета» [Там же: 293]; «Первые крики-слова – это силлабофонемы, состоящие из отрывистого включения речевого механизма и его вокалического продолжения. ‹...› В содержательном плане им соответствуют первые слова – синкреты» [Там же: 295]; «Можно предположить, что в данной области ранними проявлениями зарождающейся речи были крики, обращающие внимание на наличие в поле восприятия особых предметов, представляющих интерес в плане питания, защиты и т. п. Такие крики также нельзя еще назвать именами. Это, скорее, высказывания, сообщающие информацию об определенных событиях и, в принципе, напоминающие в большей мере позднейшие однословные предложения. ‹...› В плане звуковом они на первых порах представляют собой не сочетания фонем, а, скорее, неразложимые силлабофонемы» [Там же: 341]. Но как же считал сам Н. Я. Марр: его четыре элемента – реальность или условность? В работе 1927 г. «Язык» он пишет: «Элементов всего-навсего четыре. Объяснение их числа приходится искать в среде возникновения, технике входившего в состав коллективного магического действа пения. Первичное диффузное произношение каждого из четырех элементов, как единого цельного диффузного звука, пока не выяснено. Нам эти четыре элемента доступны в многочисленных закономерных разновидностях, из которых для четырех элементов выбраны как условное наименование (выделено мною. – Т. Н.) четыре их формы, по одной для каждого элемента: сал, бер, ион, рош, что указывается латинскими буквами в порядке их перечисления: А = сал, В = бер, С = ион, D = рош. Выбор сделан по созвучию с известными племенными названиями, в состав которых они входят без изменения или с позднейшим частичным перерождением, именно «сар-мат» – «сал» (А), «ибер» – «бер» (В), «ион-яне» – «ион» (С), «эт-руск» – «рош» (D)» [Марр 2001: 181]. Очевидно, что эклектика верификационных выводов перед нами налицо. Во-первых, мы узнаем из этого текста, что эти четыре элемента возникают из магического пения. Во-вторых, их произношение на самом деле неясно. В-третьих, все же, несмотря на это, имеются их закономерные разновидности (выделено мною. – Т. Н.), т. е. закономерные разновидности неясного инварианта. Наконец, они просто условны и могут в принципе перекодироваться через четыре первых буквы латинского алфавита. И в самом конце мы узнаем, что выбор элементов вовсе не условен, а соотносится с названием племен: сарматы, иберы, ионяне, этруски. Однако и при этом остается непонятным, почему от сармата > сал, а не сар или мат, поскольку от и-бер взята финаль; почему ионяне даны во множественном числе, а сармат – в единственном и как от руск получается рош (о том, почему выбраны именно эти племена, мы уже не спрашиваем). Конечно, половинчатость Марра, колебания его между конкретностью и условностью вполне объяснимы его филологическим генезисом и стоящей за ним школой XIX века, когда за плечами лингвистов начала ХХ века стояли две традиции: психологическое объяснение языковой способности, восходящее к В. Гумбольдту, Штейнталю и Вундту, и предельная конкретизация реконструируемых языковых элементов, восходящая к младограмматикам, а позднее, более точно, к К. Бругманну и Б. Дельбрюку. Однако для нас интересно, что марристы все же опирались на первичную огромную роль неких «местоименных» элементов, образующих потом глагольные и именные флексии. Существенно и такое утверждение, что этот «пассивный местоименный элемент вначале не был ни глагольным, ни именным, а позже мог быть использован и для образования глаголов, и для образования имен. Тем более, что эти частицы обнаруживаются в индоевропейских языках в былом значении притяжательных частиц неотчуждаемой принадлежности» [Кацнельсон 1936: 97]. Именно эта идея нам кажется близкой к признанию того класса, который мы называем партикулами. Близкие идеи находим у другого «межвоенного» направления, уже ранее нами упоминавшегося. Это телеологи. Так, Э. Херманн видит начало звукового языка в определенных междометных вскриках неопределенной семантики. Древность, по его мнению, должна существовать в виде неопределенных и неоформленных W?rtern такого уровня, который понимают и дети. Но каждое из этих «междометий» имело консонантную опору (Stammlaut, термин, кажущийся нам исключительно удачным и обсуждавшийся нами выше. – Т. Н.), которая в дальнейшем модифицировала сопровождающий вокал, становясь формой CV. Этих модификаций становилось все больше, и они приобретали функциональное значение, как правило, связанное с указательностью [Hermann 1943: 15]. Таким образом, для телеологов первичными были мелкие словечки не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова. По мнению В. Хаверса [Havers 1931], эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. По мнению телеологов же, такие мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности является синтаксис. Небезынтересно для нас то, что была и такая теория, по которой само происхождение языка связывается именно с указательными словами. «Сейчас то и дело приходится встречаться с неким новым мифом о происхождении языка, который, явно или скрыто опираясь на представления Бругмана и других исследователей, приходит к такой трактовке указательных слов, в соответствии с которой они оказываются некими прасловами (Urw?rter) человеческого языка» [Бюлер 1993: 80][38]. Какие же первичные формы языка представлены в исследованиях последнего времени? Такие первичные формы в теориях демонстрируются четырьмя типами единиц. По одной точке зрения, протоязык реализовался в виде слогов, но эти слоги четко делились на два класса: ударные и безударные. В ударных слогах заключалось важнейшее семантическое содержание (memorable speech), это своеобразные «капсулы речи» [Payson Creed 1989: 44]. Слог, таким образом, по мнению Пэйсона Крида, значительно важнее звука, и гоминиды стали людьми, именно изобретя слог. По другой точке зрения, первичные единицы – это фонесте-мы, т. е. комбинации фонов, как правило консонантных, обладающих некоей диффузной семантикой [Rolfe 1993]. Например, некая фонестема присутствует в приводимом ниже ряду английских слов: damp / swamp / dump / plump / dimple [Rolfe 1993: 37]. По третьей точке зрения, первичные единицы – это фонемы, возникшие из уже функционирующих частиц, утративших полностью или частично свою семантику. «Фонемы не были, таким образом, изобретены; они уже повсюду присутствовали как фонетические частички, с неким глобальным значением, чаще всего синтаксическим, но потом они стали выполнять двойную нагрузку. Базовые корни, как это показывает ряд реконструкций, были, как правило, консонантными» [Studies 1989: 32]. Новая точка зрения высказана недавно Ф. А. Елоевой и Е. В. Перехвальской [Елоева, Перехвальская 2004]. Несомненно, по их рассуждениям, что эпоха доминантности «слова» в лингвистике проходит, и она вновь возвращается к диффузному высказыванию, в котором сказано «все». Референция этого высказывания, по мнению авторов, всегда конкретна. И если ранее высказывались мысли о том, что язык начинался именно с метафорического суждения, то концепция Елоевой и Перехвальской – противоположная. Первичный этап языкового развития – преметафорический. И действительно, приверженцы метафорического начала на самом деле часто смешивают метафору со сравнением, когда «все сравнивается со всем». Однако собственно метафора предполагает глубинные абстрактные связи, которых не могло быть еще на заре языкового развития. Итак, сквозь эту обзорную толщу концепций мерцает нечто, что кажется нам близким (или это желаемое принимается за действительное?). Очень многим представителям современной «нормальной науки» трудно признать тот факт, что в языке (в протоязыке) как бы вращались две шестеренки: словечки указательного (точнее, диффузного) значения и корнесловы иконические, переходящие в символы. Именно это, по сути, и провозглашает К. Шилдз (см. выше), говоря о двух типах единиц: вербально-именных и адвербиально-прономинальных. Этому последнему классу, как уже не раз говорилось, и посвящена настоящая книга. § 7. Партикулы: индоевропейский пласт[39] Красивая прозрачность славянского «конструктора», состоящего из партикул и порождающих их комбинаций, не может все-таки вести к гипотезе, что все это явление – продукт только славянского порождающего пространства. Выше уже говорилось об элементах *so и *to(d), которые явно доминируют во всех реконструкциях индоевропейского состояния, а для общеславянской системы также являются ведущими по своей функциональной нагруженности. Однако обращение к индоевропейскому состоянию связано само по себе с рядом дескриптивных и теоретических сложностей. Прежде всего, очевидно, что исследователям имеет смысл обращаться к Стадии реконструкции II, по Адрадосу и Шилдзу, то есть периоду анатолийскому, поскольку в языках эпохи древнегреческого, латинского, древнеиндийского и т. д. уже существовали свои «частицы», то есть комбинации партикул, а также частицы в современном смысле. Попытка обзорного описания-перечня партикул периода Стадии II, выявленных по работам известных индоевропеистов, может, в случае удачи, помочь обратиться к партикулам Стадии I, о которой говорится всегда в общем виде. Кроме того, обращение к классическим языкам древности, строго говоря, как будто бы должно иметь продолжение, поскольку это обращение к более поздним и известным языкам Европы. Но тогда сама наша работа потеряет свою композиционную установку и превратится в собрание эскизов и этюдов. Наконец, даже это принятое решение влечет за собой ряд проблем. Их можно назвать «проблемами Разбиения», «проблемами Отождествления в плане выражения» и «проблемами Отождествления в функциональном плане». Примыкает к ним и «проблема Таксономии», ибо система языка находится всегда в становлении, а потому одни элементы партикульного происхождения уже стали союзами, другие – превербами разного значения, третьи – аффиксами[40]. Кроме того, необходимо все время помнить о том, что факты языкознания и факты языка суть разные системы, причем не только в метатеоретическом плане, но и потому, что на самом деле языковед, по сути, сам волен считать элементы языка принадлежащими к тому или иному классу. См. выше о том, что частицами считают и английские up, over, и немецкие auf, ab и т. д. Очевидно также, что все исследователи Стадии II стремятся выделить некий набор-минимум и потому важно просто эти наборы сравнить, чтобы среди них найти некое ядро, на которое можно будет потом опереться, обращаясь к славянскому материалу. Наиболее полный перечень партикульных единиц предложен в настоящее время для раннего протоиндоевропейского К. Шилдзом (например, его можно найти в книге об истории индоевропейского глагола [Shelds 1992]). Он выделяет следующий набор партикул, из которых в дальнейшем возникают «demonstratives, personal pronouns, possessive suffixes, and subject agreement markers in verbs» [Shileds 1992: 24] [демонстративы, личные местоимения, притяжательные суффиксы и показатели субъектного согласования у глаголов]: *i; *e/o; *yo; *a; *u; *k; *(e/o)s; *(e/o)m/n; *(e/o)l; *(e/o)t; *(e/o)th. То есть 11 элементов. И здесь легко заметить, что часть выделяемых К. Шилдзом партикул является как бы промежуточным шагом на пути к тому, что мы называем аффиксом, то есть к элементу Стадии III. Например, это элементы *(e/o)t; *(e/o)l etc. Более того, во второй главе нашей монографии мы увидим, что переход между тем, что можно считать корнем (а К. Бругманн называет эти элементы основами – Stamm), и аффиксом весьма зыбкий. Обращаясь к более конкретным примерам, можно заметить, например, что образцом «проблемы Разбиения» может служить трактовка хеттского -(a)sta, который одни считают цельной частицей, другие – комбинацией двух элементов, а третьи – комбинацией трех элементов. Наиболее сложным метатеоретически является вопрос об отождествлении консонантных и вокалических групп, вопрос, который по сути никто не поставил прямо и не предложил решить тем или иным способом. В первую очередь это относится к отождествлению глухих и звонких. И здесь на первый план, конечно, выходит отождествление звуков t/d, с которым придется иметь дело в третьей главе настоящей монографии при анализе и разбиении комбинации партикул вроде otk?d (откуда). Таким образом, в принципе возможны два решения: tod = to + t или = to + d. К. Шилдз [Shields 1997], анализируя в этой связи хеттское -za, осторожно говорит об «архифонеме» (в том понимании, которое принято у нас в отечественной науке), то есть выделяет «non-singular marker T (= t or d), which possessed a secondary collective function». Сложным теоретически является и отождествление партикул по вокализму (эта проблема также встает достаточно серьезно и при анализе славянского материала). То есть, например, проблемой является, считать ли *so/su, *no/nu, *do/de и т. д. формами одной и той же языковой единицы или разными партикулами, хотя, забегая несколько вперед, хочу заметить, что консонантная опора (Stammlaut) при всех подходах остается ведущей и определяющей. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356 и далее] различают «реляционные элементы», являющиеся послелогами по отношению к именной составляющей и превербами по отношению к глагольной составляющей, и собственно частицы. Первая группа в этом случае составляет правую часть (компоненту) простого предложения. Частицы же, уже обладающие заданными функциями, составляют левую компоненту. Среди них выделяются частицы инициальные: *nu//*no, *tho, *so, *e/o. Функциональными эквивалентами, находящимися в дополнительном распределении с *no//nu, то есть также занимающими инициальную позицию, являются частицы *tho и *so//su. Инициальной, вводящей, была также и частица *e/*o (в лувийском выступающая как *a)[41]. Второе позиционное место (то есть середину левой части) занимают местоименные элементы субъектно-объектного характера. Так, для 3-го лица единственного числа именительный падеж представлен через *-os, именительный-винительный среднего рода через *-oth, дательный падеж через *-se//*si, винительный – через *-om. Наконец, крайнюю правую позицию левой компоненты занимают частицы, имеющие видовое или локальное значение. Авторы делают вывод: «Таким образом, левая компонента индоевропейского простого предложения состоит из последовательности ячеек, заполняемых соответствующими частицами в строго определенном порядке. Крайне левая ячейка представлена вводящими частицами, крайне правая – частицами с видовой и локально-эмфатической семантикой. Между ними располагаются элементы, передающие субъектно-объектные отношения, в нормальной последовательности: субъектная частица {s}, косвенно-объектная частица {о}, объектная аккузативная частица {o}» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 361– 362]. Итак, в этом очень ясном описании, рассмотренном с позиций, занимающих автора настоящей книги, остается все же неопределенным вопрос о том, можно ли считать партикулами все элементы, в дальнейшем начинающие выполнять роль превербов или предлогов? Существенно отметить также, что звонкой консонантной опоры, в соответствии с общим фонологическим решением авторов состава протоиндоевропейского и анатолийского, в составе этих частиц мы не находим. Еще более определенная позиция относительно членения индоевропейского предложения выражена Вяч. Вс. Ивановым в его книге 2004 года: «Более вероятным для хеттского и индоевропейского праязыка была бы модель, предполагающая функционирование начального комплекса энклитик как отдельной части предложения наряду с глаголом» [Иванов 2004: 48]. См. далее: «Наибольший интерес представляет разнообразие семантики частиц, входящих в такие комплексы в анатолийском. В них выражено все существенное, как бы сокращенный сгусток грамматической информации о предложении, выносимый в его начало как резюме статьи. ‹...› В полисинтетических языках соответствующие по смыслу морфы инкорпорируются в глагольную форму. ‹...› В языках второго типа можно принять двучленную схему предложения, включив множество обозначений субъектно-объектных отношений в глагольную фразу. В языках типа анатолийских это невозможно, и предложение не менее чем трехчастно. Те группы частиц, с которых начинается в них предложение, включают и первое слово, которое вводит предложение и может быть проклитическим» [Иванов 2004: 48]. Общую попытку реконструкции системы индоевропейских частиц (партикул?) находим также и у Г. Дункеля [Дункель 1992][42]. Эта его система, если ее анализировать, осложняется тем, что, как видно, автор не решает для себя вопроса о том, являются ли всякие приращения к знаменательным основам остатками «застывших» компонентов былых парадигм, то есть морфемами, или же контаминациями самих частиц. Но определенная диагностическая теория в работе все же предлагается. По мнению Г. Дункеля, частицы: 1) как семантически, так и функционально образуют независимый класс морфем; 2) между частицами и другими классами морфем невозможна взаимозаменяемость; 3) феномен супплетивации на *-i и *-u возможен только в классе частиц (включая и местоименные корни); 4) лишь частицы, в отличие от других морфемных классов, могут образовывать самостоятельные слова [Дункель 1992: 14]. Наиболее ранним пластом (совершенно не поддающимся анализу по формам!) Г. Дункель считает элементы *г, *gho, *n?/ne. Некоторые формы, по его мнению, являются результатом стяжения: *ti < *e + ti; *epi < *ep + i. Обсуждавшуюся выше проблему отождествления партикул при различии вокализма при идентичной консонантной опоре он решает, объявив такие наборы реализацией супплетивных элементов, например: *apo/apu; *no/nu; *so/su; *do/de; *kuo/kue; *so/se; *su/se. Все частицеобразные элементы разделяются Г. Дункелем на укрупненные семантические группы. Так, им выделяются следующие группы: местоименно-указательные: *ke/ki; *e/i; *gho/ghi; конъюнктивные, дизъюнктивные, адверсативные: *kue; *ho/u; *ue; *at; модальные: *kue; *ken; мелиоративные, пейоративные: *dus; негативные: *ne; *me; эмфатические: *omi/em; побудительные: *hei; утвердительные: *m?n; пространственно-временные: *nu; *so; *pro; *apo; *duis. Очень большое и все увеличивающееся число исследований связано с описанием хеттско-анатолийских частиц, хотя совсем недавно К. Шилдзом было сделано замечание о том, что «numer-ous etymological mysteries remain in the analysis of the Hittite particle system» [Shields 1997: 224] [«в анализе хеттских частиц исследователями видишь множество этимологических мистерий»]. Так, в классической хеттской грамматике И. Фридриха [Фридрих 1952] частицы описываются отдельно от союзов, однако мы считаем нужным их все-таки объединить. И. Фридрих начинает с частицы, вводящей речь: Uar (Ua). Затем идут две частицы «неясного значения» (как будет видно далее, ставшие предметом внимания многих лингвистов): – (a)sta, – (a)pa. Следующая в списке – это столь же популярная в хеттологии частица -za; далее идут классы частице-союзов: a (-ja) – в значении «и, же»; nu – со значением «ну, теперь, и»; ta – также со значением «и»; su – с тем же значением; ma – в значении «но, же»; nasma – соответственно комбинация двух частиц, создавшая семантику «или»; nassu – комбинация с тем же значением; – pit/pe/pat – частицы, как бы выбивающиеся из общей единообразной фоники, представляют значение «именно, как раз». Ф. Йозефсон [Josephson 1997: 49] считает позднехеттские частицы сохранившимися – отчасти по форме, отчасти по функции – в валлийском и раннеирландском. Уже упомянутую хеттскую частицу -(a)sta он описывает как комбинацию двух «дейктических» элементов: a– (именительный единственного числа от анафорического местоимения) + некая частица, соответствующая в лувийском языке частице -tta. Эта же частица, по происхождению – дейктическое наречие, представлена, например, в латинском iste < is (местоимение) + te. Te описывается как исконно индоевропейский дейксис. Ней [Neu 1997] также обращается к хеттской частице -asta, но в основном исследует ее позиционные комбинации в связи с указанием на локализацию действия в хеттском высказывании. Так, – asta способна занимать только вторую позицию наряду с частицами: – an (редко употребляемой), – apa, – kan, – san. Наиболее типичные комбинации частиц: – asta + san; – asta + kan; – san + kan; – kan + kan; – san + san; – asta + asta. Выше уже говорилось о статье Т. Г. Гамкрелидзе [Гамкрелидзе 1957] в связи с обсуждением элементов *so и *tod. Как уже было сказано ранее, Т. Г. Гамкрелидзе оспаривает гипотезу Стертеванта о исконной сущности частиц и союзов как конгломератов партикул (гипотеза Стертеванта 1939 года!) и считает элементы ta, su, so, to, nu союзами, входящими в комбинации с личными местоимениями. Статья К. Шилдза и огромная, практически монографическая, работа Й. Арбейтсмана [Arbeitsman 1992] целиком посвящены хеттско-анатолийской рефлексивной частице -za. К. Шилдз, описывая эту частицу как показатель рефлексивизации (вовлеченности в дискурс) первого или второго лица, предполагает, что в протоязыке было единство (то есть неразличение) второго и третьего лиц. Саму же эту форму он выводит из форм на *ti, однако в z отражена и ассибилированная форма старого дейктического показателя первого лица *k(i). Исследование Й. Арбейтсмана с эпатирующим подзаголовком «How I have changed my mind» [«Как и почему я стал мыслить иначе»] начинается с подробного описания его предыдущих исследований, где гетероклитические формы на *r/n связываются с показателем *t. Отсюда, например, возникают парадигматические отношения типа греч. ????? – ???????? и аналогичные формы. Относительно частицы -za он высказывает мнение, что эта частица заняла в макролувийском то место, которое в праиндоевропейском занимало дейктическое *-to (?), то есть показатель ближнего дейксиса. Греческий и древнеиндийский сделали этот показатель окончанием, присоединившимся к *t. Однако впоследствии автор приходит к выводу о существовании двух разных по происхождению индоевропейских показателей со сходными функциями: 1) с консонантной опорой на *-k и 2) с консонантной опорой на *-t(od). Таким образом, обе консонантные опоры для него «are different morphemes and not allo-phones» [«не являются аллофонами, но только различными морфемами»]. О грамматике порядка частиц в крито-микенском существует уже достаточно большая литература. Связи микенского синтаксиса и славянского (через ряд переходных этапов) посвящена много раз цитируемая работа Вяч. Вс. Иванова [Иванов 1979]. Обращаясь в основном к микенским данным, Иванов считает сам принцип нанизывания энклитических элементов на начальное опорное слово[43] (речь идет в основном о местоименных элементах) общим индоевропейским принципом. Очень важно для нашей работы его положение о том, что «Сам по себе вводящий элемент при этом может не иметь точно фиксированного значения, поэтому он может характеризоваться тем пучком разных функций (от междометной и дейктической до союзной), которые устанавливаются и для начальных элементов славянского предложения» [Иванов 1979: 42]. Так, он, в свете этих идей, сопоставляет славянское *to– (ср. русское то-же и хетское ta). Особое внимание в этой работе уделено катализатору *-e (ср. русское э-то, э-во и т. д.). Этот катализатор Вяч. Вс. Иванов отождествляет этимологически с аналогичной частицей *e/o, вводящей предложение в анатолийских языках. Именно эту частицу К. Уоткинс видит «прилепившейся» к греческому имперфекту и аористу уже в качестве аугмента. Сходным проблемам посвящен также ряд работ Н. Н. Казанского. В статье [Казанский 1999] он обращается к повествовательным структурам типа VOS. В этом случае инициальный глагол предваряется начальным комплексом частиц, в особенности o-da-a, o-de-qa-a2, o-de и под. Как пишет Н. Н. Казанский, «в языке микенских писцов они не застыли, не слились в единую форму, а ощущались как самостоятельные единицы, обладающие каждая своим значением» [Казанский 1999: 511]. Естественно, что исходные o или jo соответствуют, согласно законам апофонии, общему индоевропейскому е (как мне кажется, ту модель, согласно которой могут описываться синтаксические структуры только через знаменательные слова, можно пересмотреть, и потому в тех примерах, которые приводит Н. Н. Казанский, мы имеем не VOS, а, скорее, PVOS, где P – это комплекс частиц; см. выше о трехчастности анатолийского предложения у Вяч. Вс. Иванова, где вводятся три части высказывания, это: комплекс частиц, глагольная фраза и именная фраза. Столь существенный для традиционных классификаций объект (О) в принципе здесь оказывается неважным). Значения многих этих партикульных комплексов можно условно передать (см. выше об истории русского я) как ’вот таким образом’, ’вот таким образом это’ и ’таким образом это’ и под. То есть это по функции интродуктивные комплексы, связывающие событие с темпорально-спациальной структурой передаваемой действительности. Особое место в исследовании Н. Н. Казанского занимают структуры типа а-а2, где имеет место редупликация (редупликация – частое явление в древних языках), но, возможно, это два разных по происхождению а. В другой своей работе [Казанский 2000] Н. Н. Казанский анализирует застывшую формулу ?? ?a??; эта формула «является показателем перехода от прямой речи персонажа к авторскому повествованию». Сопоставляя эту формулу с микенскими ее аналогами, Н. Н. Казанский говорит об акцентуированности частицы, располагающейся перед «атонным» глаголом. «Для гомеровского шд фато возможна микенская реконструкция *ho phato. Поскольку речь идет о явлении, известном из других индоевропейских языков, возможна и более глубинная реконструкция *so bhH2/*yo bhH2-to» [Казанский 2000: 38]. Итак, говоря откровенно, можно резюмировать, что мы все не знаем, что представляла собой просодия фразы в индоевропейском языке даже позднего периода[44]. У автора настоящей монографии есть выношенное десятилетиями занятий экспериментальной фонетикой свое мнение по этому поводу, однако верифицировать его трудно. Трудно здесь понять самое простое: где курица, а где яйцо. А именно: Вариант 1. Фразовой интонации еще не было, а ударными / неударными были слова. Существенными были также позиции этих слов. Вариант 2. Слова вообще не имели ударения, но располагались на определенных местах интонации фразы, поэтому они были слышны (воспринимались) по-разному, так как интенсивность и частота основного тона менялись в зависимости от позиции. Так их и помечал писец, поскольку интонационную транскрипцию по сути мы и сейчас делать не умеем. Вариант 3. Слова не имели ударения, но фраза обладала интонацией не в нашем современном смысле, а некими пиками акцентирования, функционирующими в зависимости от позиции[45]. По-видимому, именно к этому варианту склоняется Вяч. Вс. Иванов: «Но то, что в индоевропейском было правилом синтаксической акцентуации, в славянском переосмысливается как особенность интонации определенного слова» [Иванов 1979: 53]. Из этого беглого обращения к литературе нетрудно заметить, что реконструировать общую систему партикул по ней довольно сложно. И трудно это сделать по ряду причин. Прежде всего, мешает этому установка авторов на современную частеречную таксономию, согласно которой обязательно нужно различать союзы, частицы, наречия и т. д. При этом установка на этот таксономический набор у разных авторов разная и потому, естественно, одни и те же элементы попадают у авторов в не совпадающие классы. Далее, во-вторых, первичные партикулы и их комбинации рассматриваются часто как члены одного и того же класса, хотя ранговый показатель грамматики порядка у них различен. В-третьих, основной интерес исследователей направлен на функции «частиц», их комбинации и их позиции, но не на их идентификацию. Однако все же ряд частиц-лидеров можно отметить по всей литературе. А именно, это: частицы с опорой на s; частицы с опорой на t; частицы с опорой на d (но, по некоторым концепциям, как указывалось выше, это все-таки алломорф или аллофон t); частицы с опорой на k; частицы с опорой на n. Наконец, выявляется чисто вокальный партикульный элемент *e/o[46]. § 8. Между индоевропейским и неиндоевропейским Разумеется, было бы слишком самонадеянно думать, что интересующие нас партикулы были известны всем языкам, или хотя бы попытаться доказать это для части языков. Поэтому – в пределах первой главы – мы ограничились только тремя группами сведений: 1) некоторыми данными о индоевропейском Стадии II (см. об этом выше), 2) данными о так называемых ностратических языках, 3) теми сведениями о языках Евразии, которые оказались для нас доступны и показались достоверными. Итак, можно считать, что между индоевропейским и неиндоевропейским находится свод ностратических данных, который, как двуликий Янус, относится и к тем, и к другим. И здесь в качестве исходного фактического материала мною был использован словарь Вл. М. Иллича-Свитыча [Иллич-Свитыч 1971]. Естественно, что для целей этой нашей книги наиболее важной частью этого Словаря оказалась та часть, которая относилась не к знаменательным корнесловам, а к «реляционным элементам языка». Это были следующие таблицы: 1) Местоимения и местоименные аффиксы; 2) Именные аффиксы падежа и числа; 3) Аффиксы глагольных залогов; 4) Словообразовательные аффиксы; 5) Показатели относительных конструкций; 6) Частицы [ИлличСвитыч 1971: 6—18]. Количество заслуженных восторгов перед юным и безвременно погибшим первооткрывателем за эти годы стало столь велико и, конечно, объективно, что можно сейчас уже высказать некоторые соображения, пожалуй, не столько критического свойства, сколько относящиеся к возникающей в настоящее время метатеоретической рефлексии по отношению к идентификации языковых единиц. В книге Иллича-Свитыча некоторые мучительные проблемы (в основном это именно проблемы отождествления единиц партикульного фонда, о которых говорилось выше) решаются довольно просто и, вероятно, верно. Так, он отождествляет b– и m-, t– и d-, хотя на d– заводится и отдельная строка. Так же не составляют для него серьезных проблем определения различия в вокальном наполнении состава CV, хотя еще К. Бругман, впервые серьезно обратившийся к индоевропейским частицам, полагал, что в их основе лежит структура CV, где С относится к денотату, а гласный передает тип дейксиса: Jener-, Ich-, Der– Deixis. То есть в одной строке Словаря В. М. Иллича-Свитыча идентифицируются, например, ma – me, m-, mo-, mi и т. д. Современные трудности в использовании его Словаря, при абсолютном доверии к данным, состоят совсем в другом. А именно: реконструируя данные языковой общности, отстоящей от нас, видимо, на многие и многие тысячелетия (или даже десятки тысячелетий), он классифицирует обобщаемые единицы по современным грамматическим описаниям. Выше говорилось о том, какая сложная структура стоит за современным русским я и как сложно отражается она в «скрытой памяти» нашего русского языка. Совмещая реконструируемые формы и современные грамматические описания, В. М. Иллич-Свитыч соединяет в одной таблице квалификации чисто семантические, чисто «фонетические» и чисто грамматические. Например, об n-овой конструкции мы узнаем, что это: 1) указательное местоимение (дравидийский язык), 2) показатель субъекта 3-го лица единственного числа (картвельский), 3) суффикс косвенных форм имен и местоимений (алтайский), 4) суффикс косвенных форм имен (индоевропейский), 5) локативный формант в местоименных наречиях (алтайский, уральский и картвельский), 6) суффикс множественного числа имен одушевленного класса (семито-хамитский), 7) препозитивная и постпозитивная локативная частица (индоевропейский) и т. д. А между тем это может быть по существу одна единственная реконструируемая единица, скажем, со значением «отдаленного дейксиса», но в одних языках уже претворившаяся в грамматический формант, а в других сохранившая свое автономное существование. Таким образом, и в случае работы абсолютно пионерской, мы сталкиваемся все с той же боязнью признать недостаточность современного нам таксономического состояния языка, данного нам в языковой теории. В левой части своих таблиц В. М. Иллич-Свитыч выделяет некие обобщенные для шести языковых групп значения описываемых формантов. Эти таблицы можно рассматривать как список, представляющий и значения, и то, что сейчас мы бы назвали функцией. В нем 41 единица. Но семантическая пестрота единиц-номинаций этого списка мешает (и, несомненно, мешала самому ученому) сделать дальнейшие обобщения. Так, в его таксономии мы видим: 1-е лицо единственного числа; Указательное местоимение одушевленного класса; Указательное местоимение широкого значения; Суффиксальные формы маркированного прямого объекта; Каузатив-рефлексив; Локативную частицу и т. д. Поэтому для задач, поставленных в настоящей книге, все данные, извлеченные из таблиц В. М. Иллича-Свитыча, были переписаны мною, исходя из иной точки зрения. А именно: мною был составлен некий другой словарь, в основе своей имеющий консонантную опору, и для каждой единицы словаря были сопоставлены все возможные – как семантические, так и грамматические – ее соответствия, предлагаемые в Словаре В. М. Иллича-Свитыча. Итак, по данным В. М. Иллича-Свитыча, выделяется 10 основных примарных единиц, классифицируемых по их консонантным основам. Это: • b /m (V); • t/s (V); • n (V); • d (V); • l (V); • k (V) ; • s (V); • ku (V); • i/e (jV); • a/o. Интересно, что В. М. Иллич-Свитыч находит нужным выделять два разных s: одно автономное и другое, чередующееся с t (на этом мы остановимся ниже), два к: одно задненебное и другое – увулярное. Кроме того, он объединяет два губных согласных: b и m. (Напоминаем, что в реконструируемой звуковой системе праиндоевропейского у Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984] чистого, непридыхательного звонкого b нет.) В этой системе, составленной по данным В. М. Иллича-Свитыча, как можно обнаружить, легко выделяется некий фонетический центр – с сонантным ядром в виде m. С одной стороны, к нему примыкает n, а к n в свою очередь – d и t. С другой стороны, к тому же m примыкает губногубное b, а с третьей стороны – латеральный сонант l. Получается фигура: 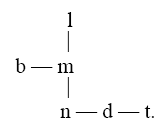 Таким образом, центр составляют сонанты и переднеязычные. Партикулы вокалического происхождения, выделяемые В. М. Илличем-Свитычем, легко объединить в цепочку, а именно: a – o – e – i. Недаром про каждую из этих гласных можно прочесть в литературе, что именно она может быть той самой первогласной для древнего реконструируемого вокализма (выбор определяется исследователем). В системе, по В. М. Илличу-Свитычу, остаются не вписанными в общую схему фонетических связей s (обоих видов) и k (также обоих видов). Обсуждавшиеся выше противопоставления дейксиса на -s и дейксиса на -t решаются у В. М. Иллича-Свитыча следующим образом: 1) дейксис на s – соответствует указательному местоимению одушевленного класса, дейксис на t – указательному местоимению неодушевленного класса; 2) s-единицы – это суффиксы каузатива и дезидератива, t-единицы – это суффиксы рефлексива и каузатива [Иллич-Свитыч 1971: 13]. Наконец, чередующиеся t/s описываются им как варьирующиеся показатели формы 2-го лица единственного числа, то есть ’ты’. Попытка еще раз переписать грамматические построения В. М. Иллича-Свитыча, основываясь лишь на консонантных опорах, для нас оказалась довольно трудной, так как выявлять сложный исторический путь каждого из показателей в шести декларируемых им группах было невозможно. Поэтому предлагаемое ниже наше описание может быть только приблизительным. 1. Так, ведущее место в его таблицах занимали показатели с опорой на m– (то есть на самый простой губной звук). В Словаре представлены для этой партикулы: – местоименные показатели 1-го лица (как единственного, так и множественного); – дейктические соответствия как с указательным, так и с вопросительным значением; – аккузатив имен одушевленных и суффикс маркированного объекта (по нашему мнению, эти показатели можно приравнять друг к другу); – запретительная и отрицательная частица. 2. Количественно (то есть по представленности форм в Словаре) к вышеуказанному показателю близки показатели с консонантной опорой на n-, которые демонстрируют следующую функциональную семантику: – они соотносятся с 1-м лицом множественного числа; – выступают в функции указательного местоимения; – являются локативным формантом при именах и местоимениях; – являются показателем косвенного падежа имен одушевленного класса; – являются суффиксами отглагольных имен, причастий и прилагательных; – показателями медиума и пассива в глаголах; – выступают как отрицательная и/или запретительная частица[47]. 3. Значительно меньшее число значений можно перечислить по Словарю В. М. Иллича-Свитыча для единиц с показателем консонантной опорой на t-: – это прежде всего показатели 2-го лица, как в единственном, так и во множественном числе; – это показатели 3-го лица с семантикой указательности, причем они могут обозначать и ’этот’, и ’тот’; – это показатели косвенных падежей имени; – наконец, в рамках глагольных категорий они могут служить показателями каузатива и рефлексива. 4. Выделяемый В. М. Илличем-Свитычем отдельно от t-ового показателя показатель на d– имеет в его Словаре два типа значений, как будто бы не сводящихся друг к другу в единое поле: – это, во-первых, значение соединения (объединения), то есть ’ тоже, и, же’; – во-вторых, это значение локативной семантики, направительности, показатель, трактуемый то как формант локативных падежей, то как суффикс аблатива с местоимениями и основой на -о. В данном случае интересно проследить, как распределяются эти два типа значений по шести языковым группам, описанным В. М. Илличем-Свитычем. Удивительным образом оказывается, что обе семантические группы присутствуют во всех шести языковых семьях[48]. 5. Согласно В. М. Илличу-Свитычу, показатель с консонантной опорой на s-, не смешивающийся с консонантной опорой на t-, имеет следующие значения: – указательности, дейксиса, с указанием на 3-е лицо; – притяжательности; – для глаголов служит как «аффикс каузатива и дезитератива». 6. Несколько неожиданными со славянской точки зрения (и даже с индоевропейской) являются значения показателя с l-овой опорой. Если для славянского континуума здесь выделяются, скорее, вопросительно-разделительные значения, то есть не-идентифицирующие, то здесь мы имеем дело, по В. М. Илличу-Свитычу, со следующей функциональной семантикой: – значение локативности; – значение собирательности (для имен); – функция (значение) отглагольности (для имен); – показатель отрицания (как собственно отрицательная частица, так и отрицательный компонент) внутри глагольных форм. Таким образом, пытаясь обобщить, сразу же можно сказать, что отрицательно-запретительное значение имеют все три показателя с консонантной опорой сонорного характера: m-, n-, l– [49]. 7. Последняя группа показателей с консонантной опорой – это элементы с Stammlaut на k-. Семантико-функциональный разброс здесь настолько велик, что заставляет думать об особости исторического развития показателей на задненебный (напомним, что В. М. Иллич-Свитыч разделяет опоры на k– и опоры на ku-). Перечислим эти значения, обобщая их по мере таксономической допустимости: – разумеется, это прежде всего и во всех языковых семьях представленное значение вопросительности; – это значение направительности; – связывается с этим в известной степени и значение побудительности, императивности; – это хорошо известное для индоевропейских языков значение соединительности вроде латинского que ’и’; – одновременно с этим присущее многим языкам значение уменьшительности. 8. Напротив, довольно единообразную семантику являет группа показателей с глайдовым переходом (средненебным) j-. Если не объединять его с i, как это делает В. М. Иллич-Свитыч, то семантика у этих показателей простая: – быть реляционным показателем, проще говоря, выступать в функции относительного местоимения со значением ’ который, какой, что’; – быть показателем уменьшительного или ласкательного суффикса (для имен). Оба этих значения представлены во всех шести группах, или языковых семьях. Как и для чередований с i (которое в индоевропейском, как пишет автор таблиц, первоначально передавало множественное число местоимений), В. М. Иллич-Свитыч предлагает для j в уральском и aj в семито-хамитском в обоих случаях значения выразителя форм косвенного падежа множественного числа. Последние две группы – чисто вокального состава, без консонантной опоры. 9. Первая из них – это чередующиеся (по В. М. Илличу-Свитычу) гласные i/e. Значение их прежде всего дейктическое – с той только разницей, что в одной группе языков этот элемент может указывать на ближайший предмет, а в другой – быть показателем отдаленного дейксиса. Другой тип значения – запретительная или отрицательная частица, часть отрицательного глагола или даже форма отрицательного глагола. Третье значение, выделяемое В. М. Илличем-Свитычем, это свойство быть суффиксом отглагольных и отыменных имен, суффиксом прилагательных. Судя по примерам, здесь выступает именно i, а не e, тогда как в значении отрицательном и запретительном выступает именно e. Так как из материала, приведенного в таблицах, остаются неясными ни позиция этого элемента в слове, ни хронология появления этой функции, то мы можем предположить, что третья функция есть по сути первая – так как именно этот показатель создал так называемые «полные», то есть определенные, формы славянских прилагательных. 10. Вторая вокалическая группа – это чередующиеся a/o. Здесь мы видим редкий случай полного функционального единства всех шести языковых семей: эти компоненты выполняют дейктическую и только дейктическую функцию: быть словом (или элементом слова) указательного значения. Делать какие-либо обобщения по приведенным данным очень сложно. Прежде всего потому, что, как указывалось выше, поздние грамматикализованные формы и поздние функции сопоставляются с более ранними по относительной хронологии «на равных», а диахрония грамматикализованных форм в книге не представлена. Во-вторых, мы все-таки не знаем, чем обусловлены вокалические чередования и потому не можем оценить их важность. И, наконец, мы не можем иметь – как бы ни старались – представления о том, как членилось семантическое поле дейксиса в столь отдаленную эпоху. И все-таки мы можем сказать следующее: 1. Несомненно, что число таких дейктических единиц невелико – в данном случае их примерно десяток. 2. Несомненно также, что внутри этого класса выделяется фонетическое ядро, компоненты которого близки друг к другу артикуляторно. 3. Несомненно и то, что наиболее активными функционально оказались элементы с опорой на сонорные звуки. 4. Отрицательно-запретительное значение связано в первую очередь с сонорными или просто вокалическими элементами. § 9. Неиндоевропейский пласт партикул Наиболее интересными для сопоставления с индоевропейскими данными – как в плане контактном, так и с точки зрения позиций отдаленного родства – показались нам сведения о данных финно-угорских и енисейских языков. Однако почти вся существующая по этому поводу литература практически посвящена вопросам заимствования дейктических показателей из русского языка. (В дальнейшем мы подробнее остановимся в этом плане на работах М. Лейнонен.) Считается, – как это описано в литературе, – что только венгерский язык избежал в этом плане славянского влияния. На самом деле уже сама постановка вопроса о том, почему в одних языках частицы легко заимствуются, а в других эта сфера мало проницаема, заслуживает очень серьезного внимания. Например, не совсем ясно, почему славянские языки Балкан заимствовали многие компоненты коммуникативного фонда из турецкого и греческого, а чешский язык в этом отношении противостоял «частицеобильному» немецкому. Но это уже серьезные и иные вопросы контактологии. Интересующий нас финно-угорский материал был извлечен в основном из монографии К. Е. Майтинской «Служебные слова в финно-угорских языках» [Майтинская 1982]. Эта насыщенная материалом книга, с одной стороны, демонстрирует со всей наглядностью глубинное, многолетнее и выношенное влечение автора к неким первичным единицам дейктического характера и искреннее желание выявить все эти единицы и их перечислить. С другой стороны, видно, что автор, как и многие лингвисты, о которых писалось выше, боится признать и принять существование этих первообразных элементов и хочет придерживаться традиционной точки зрения, что эти элементы откуда-то «произошли». Например, мы читаем в книге: «В финно-угорских языках первообразные частицы происходят: 1) от местоименных слов, 2) от словообразовательных суффиксов, 3) от звукосочетаний междометного характера, 4) от имен» [Майтинская 1982: 143]; «Вопросительные частицы возводятся к уральской указательно-местоименной основе Y» [Там же: 148]; «Усилительные частицы возводятся к уральскому *к-овому местоименному суффиксу» [Там же: 149]. Так, финская частица s– возводится автором к указательному местоимению se, марийская частица at – к указательному t-ово-му местоимению, удмуртская частица но появилась на базе n-ово-го указательного местоимения и под. Но, с другой стороны, мы можем прочесть в этой же книге, почти на тех же страницах: «Эта общность указательных местоимений и указательных частиц отражает то древнейшее первичное состояние дейктических слов, когда указательные местоимения и указательные частицы еще не были разделены, т. е. одна и та же единица совмещала в себе обе функции» [Майтинская 1982: 146]. И даже прочесть такое «крайнее» высказывание: «Приведенные данные свидетельствуют о том, что праформы перечисленных частиц уже в обско-угорском языке-основе были частицами» [Там же: 151]. Однако несомненно, что удачной стороной книги К. Е. Майтинской является установка автора на расчленение (разбиение) поздних языковых дейктических и прономинальных комплексов на первичные минимальные единицы, которые приближаются по статусу (и даже облику) к нашим славянским партикулам. Так, например, расчленяется ею финская диалектная частица josko ’неужели’ < jo + s + ko. Соответственно расчленяется и финское joko ’неужели’ < jo + ko. В обоих случаях конечным элементом является вопросительная частица ko. Финское jopa ’даже’ тоже складывается из двух элементов: jo ’уже’ + pa. При этом многие финно-угорские компоненты коммуникативного комплекса получаются путем редупликации, удвоения. Таково, например, мансийское titti (здесь утроена первичная частица ti). Ср. с этим русские модели вроде то + тъ, къ + то + то и под. В книге К. Е. Майтинской воспроизводятся списки частиц (партикул), которые она считает первообразными (правда, эти списки приводятся каждый раз все-таки с легкими изменениями). Это – основы на консонант с-, k-, j-, n-, t– и вокалическая первообразная частица Е. Поразительно, насколько этот приведенный список вполне согласуется с вычленяемыми индоевропейскими данными. Однако К. Е. Майтинская демонстрирует в своей работе и отличия финно-угорской системы. Во-первых, синтаксическая позиция указательного элемента в этих языках была (и есть) постпозитивной. Об этом будет сказано ниже в связи с частицей дак, о которой сейчас в литературе много споров. Во-вторых, она выделяет три вопросительных основы: ки, ки (при указании на человека) и гпэ (с фонетическими вариантами). Последняя партикула в индоевропейском не представлена. Наконец, к прафинно-угорскому состоянию К. Е. Майтинская относит и частицу ra (ее интересно сравнить с партикулой ro, приведенной выше в качестве первичной у Дункеля). В этой же книге К. Е. Майтинской высказана интересная гипотеза о более позднем появлении семантики отрицания у так называемых n-овых частиц. Она пишет: «По-видимому, первоначально соответствующее n-овое слово использовалось для подчеркивания и выделения других слов. Особенно часто – при отрицании. Оно специализировалось, стало отрицательной частицей и утратило местоименную (а позднее – выделительную) функцию» [Майтинская 1982: 146]. Эта гипотеза позволяет объединить с отрицанием и славянский «дальний дейксис», приняв единое происхождение этих партикул[50]. Специально вопросом о контактологических причинах столь активного заимствования русских частиц в финно-угорских языках занималась в последние годы М. Лейнонен [Leinonen 1997; 2000; 2002]. Этому вопросу посвящено уже несколько специальных ее исследований. Среди бесспорных заимствовований из русского языка вроде копулятивных da, i и других особое место занимает частица dak, располагающаяся позиционно в финальной части предложения, употребляемая и в русском, и в финно-угорских языках. Значение ее можно передать как ’раз уж, если, когда’, например: Иди, пошел дак. Специальный доклад об этой частице, вызвавший оживленную дискуссию, был сделан нидерландской фонетисткой М. Пост на Фонетической конференции в Поречье в 2003 году. Дело в том, что эту частицу можно считать: 1) русской частицей так с озвончившимся началом, превратившуюся в дак; 2) комбинацией русских да + къ; 3) комбинацией русских та + къ; 4) общим для двух языковых семей сочетанием ностратического t/d + k. Некоторые частицы, как пишет М. Лейнонен, в этом плане вообще трудны для определения их происхождения. Например, партикула ka [Leinonen 2002: 319], означающая ’ вот так’, может являться русской побудительной частицей, изменившей свою семантику (Иди-ка сюда), или исконно финно-угорской (в крайнем случае, ностратической), восходящей к консонантной опоре k. На иных позициях, чем те, что изложены выше в книге К. Е. Майтинской, стоят авторы исследований об енисейско-индоевропейских параллелях [Живова 1984; Ильяшенко 1984; Ильяшенко, Максимова 1984]. Г. П. Живова прямо соотносит указательные и вопросительные местоимения в енисейских языках с первообразными частицами ностратического характера[51], см.: «Вопросительные, указательные и личные местоимения восходят к первичным дейктическим частицам» [Живова 1984: 20]; «Вопросительные местоимения восходят к первичным основам с широким значением местоимений, частиц, наречий» [Живова 1984: 27]. Какие же именно первообразные элементы восстанавливаются в этих работах для енисейских языков? Прежде всего, это элемент а, который присущ всем местоимениям. Поэтому частица общего вопроса ана реконструируется как а + на, где на – дейксис широкого значения. Енисейское а] ’что?’ предстает как комбинация a + j, восходящая к ностратическому io – релятивизатору. Akus ’что?’ реконструируется как a + ku + s. Примечательно, что в этом кластере оба вторых члена известны как дейктические показатели. Итак, в енисейских вопросительных местоимениях Г. П. Живовой выделяются следующие первообразные элементы: a-, na-, bi/be < и. – e: *m, ku-, s-. В неопределенных местоимениях в енисейских языках обязательно присутствует ta, восходящее к древнему t-дейксису, также ностратического характера, а также m < b/m. Отрицательной частицей является n’i, тоже находящая параллели в индоевропейских языках. Падежные формы формируются из первоначальной дейктической частицы d-, которая, в свою очередь, распространяется вокалическим показателем -a – для женского рода и -i – для мужского. (В енисейских языках существует различие в падежной системе для мужского и женского рода.) О присутствии ностратического ko/ku в селькупских вопросительных местоимениях пишет и И. А. Ильяшенко [Ильяшенко 1984]. В совместной статье Ильяшенко и Максимовой [Ильяшенко, Максимова 1984], посвященной склонению местоимений в селькупском языке, говорится о цепочечном «нанизывании» в элементах падежной системы. Так, в северносамодийских языках в генитиве обнаруживается комбинация *j (V) + t (V) или *J + I. Авторы показывают, что те же системы нанизывания находим и в генитиве прибалтийско-финских языков. Итак, в енисейских языках исследователи выделяют уже ранее описанный для других языков состав первообразных элементов: a-, na-, ni-, bi/be < и. – e. m, ku-, s-, t-, d-, j-. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
