|
||||
|
|
Наполеоновские войны Армии республикиМифу о непобедимости, который породили блестящие ратные свершения прусской армии, суждено было развеяться в один из полдней; но еще до того, как эта армия потерпела поражение под Йеной, превратности войны вывели под свет софитов армию другой страны. Французский солдат в последние несколько лет доказал свою боеспособность, в которой нашли отражение воинские достоинства его военачальников: под командованием виконта де Тюренна он был великолепен; под командой князя де Субиза — потерпел поражение под Росбахом. Но в годы, непосредственно следовавшие за революционными событиями 1789 года во Франции, в ее армию словно вдохнули новый дух, который дал возможность только что пришедшим в армию новобранцам побеждать регулярные армии доброй половины европейских государств. И не имело значение то, что во многих случаях те, кто вел их в бой, в совсем недалеком прошлом были капралами и сержантами королевской армии. Они были людьми идеи, горевшими желанием не только освободить свою новую Францию от угрозы вторжения, но и донести лозунг «Свобода, равенство, братство» до всего европейского мира. Слова эти не родились в одночасье, появившись из-под пера философа. На самом же деле, как это бывает в ходе всех революций, непосредственным ее эффектом было резкое падение дисциплины и морали. Армия предреволюционной эпохи формировалась как добровольческая на долгосрочной основе, усиливаемая при необходимости призывом местного народного ополчения. Как и во всех профессиональных армиях того времени, офицеры были выходцами из аристократии или мелкопоместного дворянства. Первым результатом падения авторитетов стало исчезновение из армии многих таких офицеров. Этот процесс в разной мере затронул все рода войск пропорционально их социальному статусу; так, на непрестижных саперов он повлиял меньше всего, на артиллерию — несколько больше, в еще большей степени он затронул пехоту, а максимально пострадала от него кавалерия, в которой служили офицерами самые сливки благородного сословия. Армии Законодательного собрания — номинально все еще лояльного королю — возглавляли Рошамбо, Лафайет и Люкнер. Однако, когда армии австрийцев, пруссаков и гессенцев находились на французской границе, экстремисты в Париже взяли верх, захватили Тюильри и отменили Конвенцию 1791 года. Лафайет, будучи либералом по убеждениям, но верный концепции конституционной монархии, отдал приказ двум из своих генералов следовать маршем на Париж и освободить короля. Один из них согласился, но второй, Шарль Дюмурье, отказался. Когда после ряда интриг Дюмурье был назначен командующим Северной армией, Лафайет и многие из его офицеров сдались австрийцам. Люкнер был заменен на посту командующего генералом Франсуа Келлерманом, а его высшие офицеры уволены. Таким образом, в этот критический момент истории страны армии Франции испытывали неуверенность в своих командирах и разделялись по своим политическим пристрастиям. Дюмурье, получив в свое подчинение войска, писал: «Армия пребывает в самом прискорбном состоянии… не хватает ни обмундирования, ни головных уборов, ни обуви… ощущается значительная нехватка мушкетов». Тем не менее остались свидетельства ее способности противостоять пруссакам при Вальми (20 сентября 1792 года). Осторожный герцог Брауншвейгский, который командовал объединенной армией пруссаков, австрийцев, гессенцев и французских эмигрантов, не стал бросать свои войска в бой, который обещал быть весьма кровопролитным, и сражение превратилось в затяжную артиллерийскую дуэль. Стойкость под огнем французов, как регулярных частей, так и Национальной гвардии, в ходе этой почти бескровной «канонады при Вальми» убедила герцога в том, что ему не удастся прорвать их заслон, и союзная армия в конце концов отступила. Это в значительной степени говорит о моральном духе французских войск и нации, так как в то время победа — или, скорее, не поражение — при Вальми было объявлено поворотным пунктом в истории страны. Это было просто необходимо сделать, потому что требовалось поднять дух нации, чтобы она могла пережить предстоящее ей трудное время. Казнь короля в январе 1793 года привела к созданию первой коалиции против Французской республики: Австрии, Пруссии, Испании, Англии, Голландии и Сардинии. Против регулярных армейских частей этих государств силы революционной Франции поначалу представляли собой довольно жалкое зрелище. Существовали большие трудности с набором в армию рекрутов; оружия и снаряжения катастрофически не хватало, а появившийся обычай гильотинировать потерпевших поражение генералов подавлял инициативу и побуждал многих, подобно Дюмурье, искать прибежище на стороне неприятеля. В армии были назначены представители правительства, подобно политическим комиссарам более позднего революционного режима и практически с теми же самыми полномочиями, производившими совершенно аналогичное влияние на боевой дух офицеров. Дисциплина в войсках падала, но тем офицерам, которые старались поддерживать ее строгими мерами, грозил донос на них лидерам революционного террора. В апреле был создан Комитет общественного спасения, который выпустил достопамятный указ от 23 августа 1793 года, вводивший всеобщую воинскую повинность — впервые с эпохи Древнего Рима. Указ этот часто цитировался в литературе, и его формулировки дают нам представление о степени опасности, угрожавшей стране: «Молодые мужчины будут сражаться; главы семейств будут ковать оружие и подвозить припасы; женщины будут шить палатки и работать в госпиталях; дети будут щипать корпию; пожилые придут на площади, чтобы поднять дух тех, кто будет уходить на бой, будут призывать проклятия на королей и молиться за республику. Общественные здания будут превращены в казармы, на фабриках будут делать боеприпасы; земляные полы подвалов надо обработать щелоком, чтобы получить селитру. Все имеющееся огнестрельное оружие должно быть вычищено и отдано армии. Все верховые лошади должны быть переданы кавалерии; все тягловые лошади, не занятые на полевых работах, будут перевозить орудия и припасы для армии».  Пехотинец эпохи Французской революции В тот августовский день кардинально изменилась вся концепция войны. Профессиональные армии, в которых солдаты служили многие годы, формализованная стратегия прошлых веков, особое значение в которой придавалось маневру и осаде, а не решительной битве, — все это должно было исчезнуть. Их место предстояло занять вооруженному народу, а основное значение придавалось теперь массовой бойне и полному разгрому неприятеля. Теперь Мориц Саксонский не мог бы сказать своих знаменитых слов: «Мне не по душе затевать сражения, особенно когда война идет к концу. Более того, я убежден, что умный генерал может вести военные действия всю свою жизнь, не будучи принуждаем к этому». Размах сражений вызвал к жизни концепцию массовых армий, и они, в образе добровольцев Национальной гвардии и новых рекрутов, увеличили численность поставленных под ружье до беспрецедентных размеров. Несмотря на дезертирство и потери в боях, в январе 1794 года численность новой армии составила около 770 000 человек. Такую массу людей, спешно призванных и наспех обмундированных и кое-как вооруженных, нельзя было подготовить для действий с машиноподобной точностью, которую требовала тактика Фридриха. В кругах военных теоретиков и высших военачальников долгое время шли споры между приверженцами колонн и линейного строя. Полевой устав французской армии, выпущенный буквально накануне революции, представляет собой благоразумный компромисс, отводя главное место линейному строю, но в то же самое время оставляя значительную роль в атаке колоннам. Он также ускорял размеренную поступь пехоты с семидесяти пяти шагов в минуту до сотни. Но линейная тактика, доведенная Фридрихом до совершенства, требовала точных интервалов, дистанций, построений и строжайшей огневой подготовки. Новые рекруты, каким бы энтузиазмом они ни пылали, были не способны на такое, и, следовательно, ровные, как по линейке, ряды пехотинцев, ведущих огонь залпами, и четко марширующие по полю боя колонны бойцов уступили место разбросанным группам стрелков прикрытия. За ними по полю боя шли ударные отряды массового формирования — которые можно было достаточно просто сорганизовать и командовать ими, — подобные тем, которые во многих более ранних сражениях были лишь немногим более дисциплинированными, чем громадная толпа. Такая «тактика орды» часто бывала достаточно успешной, особенно тогда, когда французы значительно превышали численно своих противников. Отдельные, находящиеся вне строя снайперы, пользуясь малейшими укрытиями, которые предоставляла им местность, являли собой крайне невыгодную мишень для залповой стрельбы, которая велась практически неприцельно. Напротив, огонь французов часто был весьма эффективен против неподвижно замерших на поле неприятельских рядов.  Пехотинец эпохи Французской революции Теперь залпы наступающих батальонов не так были опасны для неприятеля, как заключительный их бросок в штыковую атаку. Движущиеся фаланги сомкнутых колонн стали теперь главным оружием пехоты, и огонь стрелков прикрытия был лишь подготовкой к сражению, но не его окончанием. Одним из преимуществ революционных войск с самого их создания была их скорость и подвижность. Увеличение скорости со ста до ста двадцати шагов в минуту позволило французским батальонам передвигаться с быстротой, казавшейся фантастической их медленно шагающим врагам, особенно если учесть, что французы не были обременены большими обозами. Происходило это не потому, что им нечего было везти за собой, но потому, что пруссаки и другие передвигались с большим количеством снаряжения на все случаи жизни, которое забивало дороги и делало необходимым значительные дорожные работы и наведение мостов, тогда как оборванные армии республики шли скорым шагом, почти без снаряжения, но подвижные. Способность быстро преодолевать значительные пространства всегда представляла собой одно из первейших военных достоинств, и большинство из лучших армий всех эпох обладали ею. Французы не представляли собой исключения, и их удивительные по скорости передвижения марши во многих случаях были ключом к победе. Не однажды эта способность позволяла их военачальникам сосредотачивать превосходящие силы в определенном месте — хотя во всем районе военных действий противник численно их намного превосходил. Французы могли благодарить Вакета де Грибоваля[28] (назначен главным инспектором артиллерии в 1776 году) за то, что французской артиллерии не было равной в мире. Полевая артиллерия была представлена только 5,5-, 3,6- и 1,8-килограммовыми орудиями. Лафеты были облегчены и улучшены, на вооружение приняты орудийные передки, в которые лошади впрягались теперь попарно, а не все цугом. Шесть лошадей тянули 5,5-килограммовое орудие, запряжка из четырех лошадей — 8- и 4-фунтовки. Грибоваль ввел в практику также такие усовершенствования, как винты вертикальной наводки, панорамные прицелы и снаряженные заряды. Эти последние, хотя и не представляли собой новейшее изобретение, были приняты далеко не во всех армиях и позволили значительно увеличить скорость стрельбы по сравнению с заряжанием рассыпным порохом и затем ядром. В результате кампаний 1793, 1794 и 1795 годов французский солдат-гражданин обрел уверенность в своих силах. В ходе этих кампаний были поражения и отступления, войска немало страдали от скудного снабжения, но французская земля теперь была очищена от неприятеля. Серьезное восстание в Вандее, для подавления которого пришлось прибегнуть к помощи трех республиканских армий, было подавлено к весне 1795 года, что избавило страну от угрозы распространения гражданской войны. Голландия была занята войсками генерала Шарля Пишегрю, которому в его предприятии немало способствовали морозы ужасной зимы 1794/95 года. Эта операция получила блестящее завершение захватом голландского флота силами эскадрона гусар, которые верхом прошли по льду замерзшего моря у Тексела и захватили вмерзшие в лед корабли и их экипажи. При военном министре Лазаре Карно, выдающемся организаторе, были заложены основы будущих побед Франции. Он не только планировал и осуществлял войсковые операции, как на фронте, так и во Франции, но и обладал безошибочным чутьем на талантливых людей. Список людей, замеченных и выдвинутых им, читается как реестр самых великих деятелей периода империи. Маршалы Франции: Ней, Бертье, Бернадотт, Ожеро, Макдональд — и сам Бонапарт были воспитанниками этой системы. При якобинцах было объявлено о блестящих деяниях французских армий: «Двадцать семь побед в сражениях, 8 из которых были решающими; 120 сражений меньшей значимости; убито 80 000 врагов; взято 91 000 пленных; взято штурмом 116 крепостей и укрепленных городов, 36 из которых были осаждены или блокированы; взяты приступом 230 фортов и редутов; захвачено 3800 орудий различных калибров; 70 000 мушкетов; 1900 тонн пороха; 90 знамен». Сама армия была основательно реорганизована. Хотя много полезных ей людей было изгнано в рамках террора — либо за их благородное происхождение, либо за нежелание поддерживать дисциплину безжалостными методами применительно к толпе полуголодных рекрутов, — но и множество других получило отставку, как совершенно ненужный ей балласт. Имеются данные, что по тем или иным причинам в период с января 1792 по январь 1795 года были отправлены в отставку или уволены 110 дивизионных генералов, 263 бригадира и 138 генерал-адъютантов. Повышения в звании производились исключительно за заслуги, тогда как в армиях их противников старшинство в звании автоматически выдвигало многих едва держащихся на ногах стариков на должности, которые они уже были не способны занимать. Теперь сцена была готова для проведения «освободительных кампаний» — дарования светоча свободы угнетенным народам Европы. Но страстно желающей этого Директории[29] было суждено увидеть, что перенос революционных идей за пределы Рейна и Альп сопровождался насущной необходимостью найти пропитание армиям свободы. Франции, еще так недавно разрывавшейся между войной и революцией, становилось все труднее изыскивать средства для содержания своей армии. Войска пребывали в прискорбном состоянии — многие солдаты стояли в строю босыми, еще больше безоружными. У кавалерийских лошадей выпирали ребра, даже генералы ходили полуголодными, а когда генералы недоедают, рядовые вообще перебиваются с хлеба на воду. И правительство, и генералы были едины и откровенны в своей оценке кризисной ситуации — и видели только одно средство в преодолении ее. «Солдаты! — обратился Бонапарт к своим готовым взбунтоваться войскам. — Вы голодаете и ходите почти нагишом. Правительство в долгу у вас, но расплачиваться ему нечем. Ваша стойкость, отвага, которую вы продемонстрировали среди этих скал, поистине великолепны, но они не принесли вам славы; ни один ее луч не блеснул на вас. Я поведу вас в самые плодородные равнины мира. Богатые края, громадные города — все это достанется вам; там вы найдете честь, славу и богатство. Солдаты италийской армии, неужели вы не проявите отвагу и стойкость?» К сожалению, французы «освобождали» не только народ завоеванных ими стран, но и все, чем они могли завладеть. Их появление на «плодородных равнинах» больше всего напоминало налет саранчи. Все солдаты тех дней были не прочь пограбить, но французы, похоже, преобразили грабеж в род изящного искусства, соединив эффективность военной машины с природной тягой ко всему редкому и прекрасному. Ничего удивительного, что население тех районов, где действовали французы, почти без исключений восставало против своих освободителей. Способность порождать ненависть обитателей завоеванных территорий должна была стать серьезным фактором будущих кампаний, так же как и посев семян национальной ненависти и жажды мести, которые длинным шлейфом тянулись за Наполеоновскими войнами. Так, в частности, произошло в Испании, где партизанская война шла с небывалым неистовством и жестокостью, — любой посыльный, не сопровождаемый охраной, самое малое в половину полка, обязательно оказался бы в руках испанцев, а караваны с припасами приходилось охранять небольшими армиями. Партизанские действия в Испании оказали большое влияние на исход всей войны на Пиренейском полуострове. Один из значительных просчетов Наполеона заключался в том, что он не полностью осознал, а потому и не использовал громадное влияние Французской революции на европейские народные массы, которые до сих пор испытывали феодальный гнет. Если бы он дал себе труд задуматься над этим, то обещания свободы и равных возможностей было бы достаточно для того, чтобы привести тысячи немцев, поляков и итальянцев под его знамена. ИмперияИстория Франции периодов республики и империи насчитывает двадцать три года почти непрерывных боевых действий. Невероятно быстрый взлет Наполеона Бонапарта от корсиканского лейтенанта-артиллериста до императора Франции — одна из самых невероятных карьер во всем мире — представляет для нас интерес только применительно к его воздействию на французскую армию, которой предстояло стать одной из самых эффективных и победоносных военных машин. Это еще и пример того, сколь велико воздействие на сознание людей невероятной по своим масштабам личности, которая соединила в себе все качества великого военачальника с блестящими дарованиями государственного деятеля, законодателя и организатора. Одним из отличительных качеств Наполеона было почти гипнотическое влияние, которое он оказывал на своих солдат. Думал ли, заботился ли он о них на самом деле — весьма сомнительно. Он жертвовал ими десятками тысяч, заставлял голодать, делать многокилометровые марши, во время которых они в кровь сбивали себе ноги, и по крайней мере дважды — в Египте и в России — бросал их, разбитых наголову, на произвол судьбы. И все-таки он мог ослеплять их и завоевывать их сердца рассудочным использованием материальных благ и высоких наград — блестящей униформой, медалями и орденами, повышениями в званиях, а также и более искусными способами — знанием по именам многих из ветеранов, трепанием за ухо заматеревшего в боях гренадера, порождая в своих солдатах энтузиазм, близкий к обожествлению. Подобное преклонение перед своим генералом не является необходимым залогом победы — британские ветераны пиренейской войны, безусловно, не преклонялись перед герцогом Веллингтоном, который не однажды выражал свое отношение к ним в совершенно определенных выражениях, но это весьма существенный фактор, который необходимо принимать во внимание при оценке морального духа солдат империи. Возможно, еще более важным фактором была долгая серия блистательных триумфов. В сознании его солдат само присутствие императора на поле боя означало победу, и, когда наконец его звезда стала закатываться, это сознание продолжало оставаться еще слишком сильным. Даже герцог Веллингтон признавал, что присутствие его великого противника было эквивалентно 40 000 человек. Нижеприведенные строки современного тогдашним событиям французского историка Ламартина, написанные о французах при Ватерлоо, дают нам представление о том громадном влиянии, которое имел император на французскую армию: «…армия и была Наполеон! Еще никогда она не была столь целиком наполеоновской, как теперь. Сам он был отвергнут всей Европой, но его армия приняла его с обожанием; она добровольно сделала себя великой мученицей его славы. В такой момент он должен был ощущать себя более чем человеком, более чем властелином. Его подданные лишь преклонялись перед его властью, Европа — перед его гением; но его армия склонялась в почитании прошлого, настоящего и будущего, готова была принять как победу, так и поражение, трон или смерть своего главы. Она была готова на все, готова принести в жертву самое себя, восстановить для него его империю либо сделать его последнее падение блистательным». С самого момента зарождения войны и армий солдаты всегда следовали за каким-нибудь знаком, знаменем или религиозным символом — будь то бунчук из хвоста яка или крест. Но из всех таких символов, под которым солдаты сражались и умирали, первыми на память приходят два: «орлы» Древнего Рима и «орлы» Наполеона.  Французский гусар Император следил лично за созданием своих «орлов» с его обычным вниманием к деталям. И отнюдь не было совпадением то, что он выбрал в качестве боевого символа для своих армий птицу легионов императорского Рима, сжимающую в когтях молнию, поскольку в течение многих столетий образ этот вызывал в сознании европейцев память об империи, охватывавшей большую часть известного мира. Орел должен был быть символом сам по себе, флаг имел лишь вторичную значимость. Птица была сделана из меди и позолочена, высотой чуть более 20 сантиметров от головы до лап и 24 сантиметра в размахе крыльев. Ниже молнии располагалась латунная пластина площадью 19,4 квадратного сантиметра, на которой рельефными цифрами стоял номер полка. Общий вес этой конструкции составлял 14,5 килограмма. Древко из прочного дуба имело почти 2,5 метра в длину, на нем крепилось полотнище флага полка размером 84 сантиметра по вертикали и 89 сантиметров по горизонтали. Рисунок знамен и надписей, а также декор на них время от времени менялись; знамена, развевавшиеся при Ватерлоо, несли на себе вертикальные полосы национального флага, окаймленные золотом. На центральной белой полосе золотыми буквами были вышиты слова «Empire Francais» («Французская империя»), а ниже — «L'infanterie des Francais au — Regiment d'infanterie de Ligne» («Французская пехота — линейный пехотный полк») и принадлежность данного полка. На другой стороне полотнища был вышит лозунг «Valeur et Discipline» («Достоинство и порядок») и боевые награды полка. Первое вручение «орлов» состоялось в декабре 1804 года и было обставлено как торжественное событие, на котором присутствовали по одному подразделению от каждого корпуса и от каждого линейного корабля — общим числом более 80 000 человек. Им было вручено более тысячи «орлов», по одному для каждого пехотного батальона и кавалерийского эскадрона. Но Наполеон очень быстро понял опасность в наличии столь большого числа «орлов» — утрата его в бою весьма тяжело сказывалась на моральном духе солдат, а неприятель устраивал вакханалию по поводу каждого захваченного вражеского «орла». Для целей пропаганды это было неприемлемо, и вскоре после начала кампании 1805 года было приказано всех «орлов» легкой кавалерии (гусаров и уланов) возвратить на хранение во Францию. Позднее эта мера была распространена и на драгунские полки и на полки легковооруженных пехотинцев. Во всех этих частях, по роду их боевой службы, «орлы» подвергались особой опасности быть утерянными или захваченными неприятелем. В ходе реорганизации Великой армии в 1808 году в полку оставался один полковой «орел», хранившийся и переносившийся первым батальоном. Другие батальоны имели только небольшие треугольные флаги из саржи, различавшиеся цветом, на которых был вышит номер батальона. В качестве еще одной меры против утраты «орла» пехотные полки, численность которых была уменьшена до тысячи и менее человек, и кавалерийские численностью менее пятисот человек должны были заменить своих «орлов» на штандарты без них. 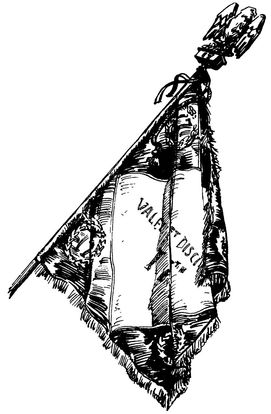 Императорский «орел». Стяг в своем первоначальном виде. Собственно полотнище стяга было вторичным атрибутом, украшением главного атрибута — императорского «орла» Орел охранялся и переносился особой командой, состоявшей из офицера-ветерана в звании старшего лейтенанта с безупречным послужным списком и двух особо отобранных ветеранов, не умевших ни читать, ни писать, так что их единственной надеждой на повышение был поступок, исполненный особой преданности или храбрости. В 1813 году в состав команды хранителей «орла» были введены еще двое рядовых. Полк, утративший своего «орла», считался опозоренным и не получал нового «орла» до тех пор, пока не заслуживал этого каким-либо выдающимся подвигом или захватом вражеского знамени. Подобным же образом, уже в более поздние времена, вновь сформированные полки из призывников должны были заслужить право на вожделенный символ на поле брани. Столь же прославленными, как и соединения, имевшие «орла», были и многочисленные батальоны и эскадроны императорской гвардии, а самой элитной частью ее являлись ветераны Старой гвардии. Гвардия набиралась из самых достойных солдат линейных батальонов, и зачисление в нее было вожделенной честью. Существовала изрядная конкуренция — у каждого полковника был свой «лист ожидания», и после каждого сражения в нем появлялись имена тех, кто отличился на поле боя. Помимо престижа и более высокой платы, гвардия, когда не участвовала в военных кампаниях, бывала расквартирована в Париже — что само по себе было изрядной привилегией. Наполеон трясся за жизнь своих старых гвардейцев, как скупец над своим золотом. Их в основном держали в резерве и никогда не бросали в бой, кроме как в самые напряженные моменты сражений. Тогда, в четком строю, они величаво появлялись на поле боя и выбивали с него противника, уже наполовину сраженного только одной их репутацией. Внушающая благоговейный ужас поступь их колонн, которые решали исход столь многих сражений на обагренных кровью полях сражений, сотрясла землю в последний раз в сражении при Ватерлоо. И когда они, подобно многим до них, отступили под смертоносным огнем и сверкающими штыками английских воинов в красных мундирах — весть об их поражении стала подобна смертному приговору. Крики «Гвардия отступает!» разнеслись над полем битвы, и люди, которые до этого момента еще верили в конечную победу своего кумира, поняли, что сражение проиграно. Но с гвардией еще не было покончено, и три батальона строем каре, которые Наполеон бросил поперек линии отхода, стойко держали свои позиции, пока не получили приказ к отступлению. Сократив строй в глубину с трех шеренг до двух, они удерживали свою последнюю позицию на плато Бель-Альянс. Именно здесь граф Камбронн, их командир, дал классический ответ англичанам на предложение сдаться — не тот, несколько театральный, ответ, который ему часто приписывают: «La garde meurt, mais ne se rends pas» («Гвардия умирает, но не сдается»), но куда более естественный в устах солдата: «Merde!» («Дерьмо!») Ветераны Старой гвардии заслужили громкую славу, но немало пришлось ее и на долю остальной Великой армии. Вся громада ее деяний все еще не до конца освещена историей, хотя прошло уже около двух столетий с тех пор, как их божественный идол был отправлен в ссылку. Голубые мундиры ее пехотинцев, сверкающие стальные нагрудники и шлемы с плюмажем ее кирасиров, темно-синие куртки, медные нагрудные знаки и шлемы ее карабинеров блистали сквозь клубы порохового дыма самых знаменитых сражений былого. Аустерлиц, Йена, Эйлау, Фридланд — их названия все еще сияли отраженной славой наполеоновских «орлов». Тогда в Европе мнилось, что не существует предела боевых возможностей французских войск. Но предел все же нашелся, и вскоре мир услышал такие названия, как Бородино и Березина, Лютцен и Лейпциг. И наконец, с роковой неизбежностью из донесений, доставляемых посыльными, исчезли иностранные названия городов и местечек, сменившись одними только французскими — Минмираль, Шампобер, Монтро, Лан и др. С изменением географических названий в реляциях менялась и армия. Одним из первых указов Наполеона в качестве первого консула было увеличить поток призывников в армию, число которых впредь должно было составлять минимум 60 000 молодых людей в год. После самого массового призыва 1814 года в армию было зачислено 210 000 человек. Но по мере увеличения численного состава армии и ненасытной жажды императора к власти изменился сам стиль той войны, которую он вел. Если раньше он достигал победы маневром, то теперь все чаще и чаще стала проявляться тенденция давить противника массой войск, не считаясь ни с какими потерями. «Я могу использовать 255 000 человек в год», — однажды сказал он. Но такие потери, даже с учетом того, что он насытил армию солдатами из числа союзников — немцев, итальянцев, голландцев и поляков, — были слишком велики для народа Франции. В начале войны молодость нации радостно маршировала к славе под звуки флейт, а победы делали службу в армии привлекательной. Но останки ее ветеранов были разбросаны от берегов Москвы-реки и до гор Испании, а нация за все эти годы уже устала от славы. Наконец, наборы рекрутов нависли над страной подобно мрачным тучам, и с началом страшной кампании 1814 года армия, которая была в силах лишь отважно оборонять Францию, состояла в значительной своей части из гимназистов и стариков. Французы гордились национальными триумфами; они приветствовали возвращающихся с фронтов ветеранов и с удовлетворением взирали на захваченные трофеи. Однако по мере продолжения бойни гибель цвета нации стала представляться чересчур высокой ценой за изорванные знамена и разбитые пушки; так что многие, кто еще недавно возносил императора как идола, стали почитать его ненасытным Молохом, пожирающим их детей. 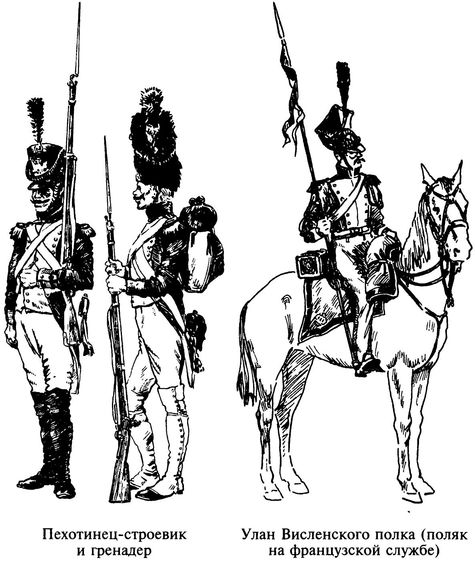 Нежелание служить в армии (к 1810 году процент уклонистов от призыва оценивался цифрой восемьдесят) имело свое влияние на эффективность французских вооруженных сил. К 1812 году армия представляла собой конгломерат из ветеранов и новобранцев — как французов; так и иностранцев. Из 363 000 человек, вторгшихся в Россию летом 1812 года, только одна треть были французы. Когда же вектор войны повернулся против императора, иностранцы дезертировали из армии не только поодиночке, но и целыми группами и подразделениями. Так, при Лейпциге все саксонцы совместно дезертировали. Очевидно, подразделения такого рода были не очень-то ценным приобретением для императора. По контрасту с достаточно ненадежным призывным контингентом 1813 и 1814 годов та относительно небольшая армия, которую Наполеон привел к Ватерлоо, была сформирована почти целиком из ветеранов, вернувшихся из госпиталей и мест заключения, а также с гарнизонной службы на всех завоеванных территориях. Но как бы великолепны ни были ветераны Великой армии, их победы были в основном все же заслугой одного Наполеона. Обстоятельства, при которых была достигнута победа, во многих случаях не позволяли признать за французскими воинами какого-либо серьезного превосходства над противником. Яростное сражение при Асперне, ставшее первым серьезным поражением Наполеона, продемонстрировало, что облаченные в бело-голубые мундиры австрийцы ничуть не растеряли своего мужества, тогда как кровавая баня при Прейсиш-Эйлау[30] напомнила Западу, что существует мало столь же отважных и сильных воинов, как русский крестьянин. По мере того как война расширяла свои пределы и становилась все более и более жестокой, недостатки военной системы, при которой один господствующий гений держит в своих руках все приводные ремни, проявлялись все более очевидно. Новые массированные военные действия становились чересчур масштабными для одного человека, будь им даже сам Наполеон. И все же не существовало никого, кто бы мог занять его место. Он был чересчур крупной фигурой, чтобы кто-либо другой мог существовать в его тени, — если он находился на своем месте, в добром здравии и бодром состоянии духа, то все шло хорошо. В его отсутствие либо когда меры по управлению империей или армией шли вразрез с его мнением, дела часто шли весьма плохо. Британские «красные мундиры»В годы, последовавшие после Маренго, Аустерлица и Йены, боевой дух французских солдат был значительным фактором на поле боя. Насколько можно судить, воздействию этого фактора были больше всего подвержены австрийцы, после них — пруссаки и немцы, в гораздо меньшей степени русские, британцы же не были подвержены его влиянию вообще. Но по мере продолжения войны войска союзников обретали уверенность в себе, а их генералы набирались боевого опыта. Когда распространились известия о поражении французов в Испании, а потрепанные и обмороженные немецкие солдаты из остатков Великой армии заковыляли обратно в Германию, миф о непобедимости французов сильно поколебался. По сравнению с громадными и постоянными усилиями континентальных держав военный вклад в борьбу с Наполеоном, сделанный британцами, представляется довольно скромным. Основная мощь Британии располагалась на водах, в тех потрепанных штормами далеких морей боевых кораблях, которых никогда не видела Великая армия. Снова и снова ее флот ломал все планы корсиканца, но великая морская держава может лишь блокировать и изнурять великую сухопутную державу, но не способна покорить ее. Такое может быть достигнуто только на полях наземных сражений, а в начале революционных войн вся мощь наземной британской армии составляла 17 000 человек. Она быстро росла количественно, но даже к концу войны достигла только 250 000 человек, причем самые боеспособные части были разбросаны на пространстве от Индии и Вест-Индии до Кейптауна и островов Карибского моря. В резком контрасте с наземными силами военно-морской флот в 1814 году насчитывал 594 корабля с экипажами численностью 140 000 матросов и морских пехотинцев. Вдобавок многочисленные угрозы вторжения вызвали к жизни активное движение добровольчества, которое в один момент, на пике своего развития, достигло 380 000 человек. Эти добровольческие организации росли, крепли, вооружались и оснащались на средства добровольных взносов, и многие волонтеры из их рядов затем переходили на службу в регулярную армию. Подобно любой другой армии, в рядах британской имелись и свои «крутые» типы, отсидевшие свой срок уголовники и тому подобные личности, но в целом качество ее было высоким, особенно в последний период Наполеоновских войн, когда в ее ряды влилось много приличных и образованных людей из чисто патриотических побуждений. Веллингтон, который известен особо ядовитыми отзывами о своих подчиненных, называл их мерзавцами, мразью земли и т. п. «Нет такого преступления в уголовном кодексе, — писал он, — которые не совершили бы эти солдаты, идущие в армию только из желания пограбить». Но он же мог сказать о своей армии, что «она представляет собой, вероятно, самый совершенный механизм такого масштаба из всех существующих в Европе в настоящее время». Резкий на слова герцог был не менее сдержан и в своих оценках подчиненных ему офицеров. Один из этих несчастных был так раздосадован отзывом своего командующего, что пустил себе пулю в голову. «Нет на земле более тупого создания, чем храбрый офицер», — высказался как-то герцог, и ему вторил Наполеон, однажды сказавший о маршале Нее, что в его армии последний барабанщик больше понимает в стратегии. Столкновение между двумя армиями было столкновением не только между двумя национальными характерами — стремительностью французов и бесстрастностью англичан, — но и столкновением двух диаметрально противоположных тактических систем. Англичане сохранили приверженность линейной тактике Фридриха, но без той жесткости, которая царила в донельзя формализованной прусской системе в течение многих лет. Их мушкетный огонь, пусть не такой быстрый, имел лучший прицел и со временем стал считаться самым эффективным во всей Европе. В нижеприведенном отрывке генерал Максимилиан Фой, служивший в наполеоновской армии в Испании, описывает французскую систему атаки: «Сражение началось с действий множества стрелков прикрытия, как пеших, так и конных… Они стремительно сблизились с неприятелем, но не вступили в непосредственный контакт с ним, а уклонялись от него за счет своей скорости и огня своих мушкетов, который они вели рассыпанным строем. Они получили подкрепление, так что теперь их огонь не прекращался и стал даже более действенным. Затем на галопе подошла конная артиллерия и открыла огонь крупной и мелкой картечью с близкого расстояния, едва ли не в упор. Линия фронта сдвинулась в ту сторону, куда ей был придан импульс; пехота действовала в колоннах, поскольку они не надеялись на огонь, а кавалерийские подразделения рассыпались по всему полю, чтобы быть в состоянии оказаться там, где и когда они будут необходимы. Когда вражеский огонь стал более плотным, колонны вдвое ускорили свое движение с примкнутыми штыками, барабаны выбили приказ к атаке, и воздух задрожал от криков, тысячекратно повторенных: «Вперед! Вперед!» Наполеоновская тактика, столь успешная при Фридланде, основывалась на «закреплении» вражеского фронта непрерывными атаками и затем подтягивании сокрушительных сил артиллерии к месту, выбранному для прорыва. Орудия придвигались на короткую дистанцию (малая дальность мушкетного огня позволяла это), и строй противника буквально выкашивался картечным огнем. Надежда Наполеона на подобную артиллерийскую «подготовку» прекрасно выражена в его изречении: «Коль скоро началась общая схватка, то человек достаточно умный, чтобы подтянуть неожиданное артиллерийское подкрепление, скрыв при этом его от противника, безусловно, решит этим исход сражения». Но если подобное решение было смертельно для войск, сошедшихся друг с другом в тесном единоборстве, то оно же было неэффективным против войск, выстроившихся в классическом веллингтоновском строю. К тому же, вместо того чтобы подставлять себя под убийственный огонь французской артиллерии, англичане, где это было возможно, всегда располагались на обратных склонах возвышенностей. После начала наступления французских колонн вперед вызывались стрелки прикрытия, и британская пехота, выстроенная в две шеренги, выдвигалась и спокойно ожидала приказа открыть огонь. Противоборство между французскими колоннами и британскими шеренгами почти всегда решалось в пользу последних. Массы французских пехотинцев отбрасывались назад огнем легковооруженных рот из состава каждого батальона или отдельными подразделениями стрелков. Говоря как-то о французской тактике, Веллингтон заметил: «У них есть новая система стратегии, посредством которой они могут перехитрить и сокрушить все армии в Европе… Они могут сокрушить и меня, но я не думаю, что им удастся перехитрить меня. Во-первых, потому, что я их не боюсь, как, похоже, все остальные; и во-вторых, если то, что я слышал об их системе маневрирования, — правда, то она не сработает против надежных войск. Подозреваю, что все континентальные армии бывали больше чем наполовину побеждены еще до того, как сражения начинались». То, что на британцев ничуть не производила впечатление репутация Великой армии, впервые стало ясно в сражении при Маиде 4 июля 1806 года. Это малозначительное сражение на материковой части Италии примечательно только тем, что превосходящие французские силы были обращены в беспорядочное бегство и потеряли в десять раз больше личного состава, чем противник, — обстоятельство весьма необычное для того времени. Атака французов на легковооруженных британских стрелков была встречена штыковым ударом, но настоящего боя не получилось (хотя, как утверждалось, отдельные схватки имели место), и противники разошлись, и нападающие отступили — этот рисунок боя потом повторялся многократно на различных полях сражений, пока такая же судьба не постигла в конце концов и ветеранов Старой гвардии при Ватерлоо. К сожалению, при несравненных боевых качествах британских войск на поле боя их всегда было незначительное количество, и их командирам вышестоящие военачальники не уставали напоминать, что не следует подвергаться риску и нести избыточные потери. Веллингтон однажды заметил в разговоре: «Я могу разбить этих парней [французов] в любой день, но это будет стоить мне 10 000 моих ребят, а это — все, что осталось у Англии, и мы должны заботиться о них». Один из французских маршалов признал, что «английская пехота лучше всех в мире. К счастью для нас, ее не так уж много». Британская кавалерия, сколь бы незначительна она ни была, располагала отличными всадниками на великолепных конях под командованием закаленных в боях офицеров, которые неслись в атаку на французов с таким хладнокровием, словно охотились на лисиц в своем поместье. Однако у кавалерии был один недостаток — излишняя горячность, и герцог часто был вынужден сожалеть о том, что, хотя она и превосходила французов, ей не хватало дисциплины. Последнее имело печальные результаты при Ватерлоо, когда после решительных атак двух английских кавалерийских бригад от них осталась незначительная кучка всадников. Об артиллерии английской армии давно уже ходили почтительные легенды, а во время Наполеоновских войн она была доведена до высочайшей степени эффективности. В 1793 году в состав армии вошла конная артиллерия, а в 1794 году появился и особый транспортный корпус для перевозки орудий, сменив собой гражданских возчиков, нанимавшихся в былые времена. Придание орудий батальонам было завершено в 1802 году, и орудия эти были сведены в батареи из шести стволов (пять пушек и одна гаубица). Подразделения конной артиллерии назвали дивизионами. Британскими артиллеристами был изобретен новый вид боеприпаса, получивший название шрапнель по имени его создателя, лейтенанта Генри Шрапнеля. Впервые она была применена на поле битвы под Вимирё в 1808 году. Она представляла собой сферический снаряд с дистанционной трубкой, содержавший в себе мушкетные пули и вышибной заряд, необходимый для разрушения стенок снаряда и разброса пуль. Когда на предварительно установленной дистанции взрыватель срабатывал, то снаряд взрывался перед целью, а мушкетные пули, которые в нем находились, разлетались в виде конуса, поражая цель. Несовершенные взрыватели и небольшой объем снарядов сферической формы, унаследованной от ядра, в значительной степени предопределяли незначительную эффективность нового снаряда, но тем не менее его воздействие на французов, как моральное, так и физическое, оказалось значительным. Но все же наивысшей оценки заслуживал сам английский пехотинец. К его скромному осознанию того, что он превосходит любых из иностранных солдат, добавлялось еще и понимание, что он вооружен и снаряжен, имеет лучшее командование и в целом лучше питается, чем его противник. Кроме этого, он был подготовлен в более гибкой системе и быстро завоевал себе репутацию (имевшую значительную моральную ценность) самого опасного и меткого стрелка в Европе. В дни, когда 64–73 метра считались максимальной эффективной дальностью стрельбы из гладкоствольного мушкета, репутация эта покоилась на способности хладнокровно ждать, пока противник не приблизится на расстояние около 46 метров, а потом открывать быстрый прицельный огонь. «Англичане, — писал один французский маршал, — обычно занимали хорошо защищенные позиции, господствующие над местностью, и демонстрировали только часть своих сил. Сначала в дело вступала артиллерия. Затем в большой спешке, без рекогносцировки позиций врага, не получив времени на изучение того, возможна ли фланговая атака, мы шли маршем прямо в лоб на врага, чтобы взять быка за рога. Примерно за километр до строя англичан наших людей охватывало волнение, они начинали переговариваться друг с другом и ускоряли шаг; колонна начинала немного терять равнение. Англичане оставались недвижимы, держа оружие в положении «к ноге». Из-за их неподвижности их строй казался длинной красной стеной. Эта неподвижность неизменно производила впечатление на молодых солдат. Очень скоро мы оказывались уже очень близко от них, крича: «Да здравствует император! Вперед! В штыки!» Мы брали на мушку их кивера; колонна начинала распадаться на две, строй ломался, смятение переходило в суматоху; наконец раздавались наши первые выстрелы. Строй англичан оставался недвижим, они стояли молча и неколебимо, с ружьем к ноге, и, даже когда мы приближались метров на 250, они, казалось, совершенно не обращали внимания на бурю, которая вот-вот должна разразиться. Контраст был поразителен; в глубине души каждый из нас чувствовал, что противник вот-вот откроет огонь и этот огонь, столь долго сдерживаемый, будет просто ужасен. Наш порыв глох. Моральное превосходство самообладания, которое ничто не нарушало (даже если это была только видимость), над беспорядком, отупляющим себя криками, воздействовало на наше сознание. В этот момент наивысшего напряжения строй англичан вскинул ружья к плечу. Неописуемое чувство охватило наших людей, когда противник открыл огонь. Сосредоточенный огонь противника косил наши ряды; при каждом залпе один из десяти падал, сраженный пулей, мы развернулись, стараясь сохранить равновесие; и тут три оглушительных крика нарушили столь долгое молчание наших противников; с третьим боевым кличем они уже бросились на нас, преследуя беспорядочную толпу бегущих». Маршалы Франции — Ней, Массена, Сульт, Жюно, Виктор, Журдан, Мармон — дорогой ценой заплатили за уроки, преподанные им невозмутимыми английскими солдатами. Их оценил даже сам Наполеон, сказавший как-то, что «французский солдат не ровня одному английскому солдату, но он не побоится сразиться с двумя голландцами, пруссаками или солдатами Конфедерации». Однако утром у Ватерлоо предупреждения его генералов, имевших опыт пиренейской войны, о том, что будет трудно выбить с поля сражения британских пехотинцев лобовой атакой, вызвали только гнев императора. Подобно своим маршалам, он мог учиться только за большую плату. Даже обычный средний британский солдат — «красный мундир» — в высшей степени был уважаем его французским противником, но все же сливками британской армии были подразделения знаменитой легкой бригады (не путать с кавалерийской бригадой периода Крымской войны). Необходимость в особых подразделениях легковооруженных солдат, которым можно было бы поручить функции прикрытия, разведки и рекогносцировки, ощущалась еще в былые времена, в период войн с Францией и в Индии. Такая необходимость стала особо насущной в период американской революции и сражений в Вест- Индии, а больше всего — с появлением французских стрелков-пехотинцев в составе революционных армий. С учетом этого в 1800 году был сформирован экспериментальный стрелковый корпус из солдат, особо отобранных в четырнадцати полках. Боевая подготовка корпуса осуществлялась двумя опытными офицерами. Побывав под огнем в Ферроле и в сражении под Копенгагеном в 1800 и 1801 годах, корпус был преобразован в 95-й линейный полк. Часть получила форму темно-зеленого цвета с черными пуговицами и нашивками и была оснащена впервые появившимися на вооружении британской армии ружьями Бейкера. Это было относительно короткое оружие, стрелявшее сферическими пулями 20-го калибра и способное, по утверждению его конструктора, поражать человека на расстоянии в 200 ярдов. В умелых руках облаченных в темно-зеленую форму стрелков 95-го полка это оружие сослужило хорошую службу в Испании и при Ватерлоо.  95-й полк был объединен с 52-м и 43-м пехотными полками (оба были преобразованы в легкопехотные полки), во главе их был поставлен сэр Джон Мур — один из самых выдающихся военачальников, которые появлялись в Англии. Он задумал сделать бригаду образцовой. Механическую муштру и парадно-строевую подготовку, соединенные с телесными наказаниями, которые превращали людей в военных роботов, он заменил системой, основанной на предпосылке, что солдат представляет собой человеческое существо, способное адекватно отзываться на разумное обращение с ним. Война, считал он, требует полнейшего использования солдатской смекалки, его моральных и физических сил. Он был сторонником строгой дисциплины, но считал, что солдат должен обладать определенной степенью свободы и иметь право думать сам при выполнении приказа. Такой комбинации индивидуального сознания и абсолютного повиновения, делающей солдата «думающей боевой единицей», трудно достичь даже в наше время. Вдвойне трудно это было сделать во времена Мура, когда мыслительные способности рядового солдата находились на весьма низком уровне, когда тяжелое пьянство было обыденным явлением и когда, в очень многих случаях, обычный офицер покупал свое место, а затем до конца своих дней предавался выпивкам и азартным играм, а весь его контакт с подчиненными ограничивался ежедневно парой часов крика и подзатыльников на плацу. Несмотря на свою приверженность к бутылке и безразличие к большинству военных проблем, обычный молодой британский джентльмен тех лет становился лучшим офицером, чем можно было бы предположить. Он представлял собой продукт своего времени и своего класса, а это означало, что он мог стойко переносить бытовые неудобства, был физически крепок, бесстрашен и, даже будучи связан множеством связей со своим классом и не лишенным высокомерия, буквально с младых лет привык к общению с более низкими социальными слоями в простой и свободной манере. Его природная сообразительность позволяла ему изучать избранную профессию и извлекать уроки из своих ошибок, а жесткий кодекс чести и приверженность принципу «честной игры» были весьма ценным качеством в его отношениях с подчиненными. Довольно странно, но несправедливая система купли офицерских должностей и званий, при которой двадцатишестилетние молодые люди становились полковниками, а мрачные и седые пятидесятилетние капитаны безнадежно тянули лямку своей службы, не только принималась всеми без излишней озлобленности, но и довольно неплохо работала на практике. Да и сам Веллингтон был прекрасным примером продвижения по службе благодаря семейным связям. Рядовой в восемнадцать лет, он в двадцать два года был уже капитаном, стал подполковником в двадцать четыре года, полковником в двадцать семь, генерал-майором в тридцать три, генерал-лейтенантом в тридцать девять, полным генералом в сорок два и в сорок четыре года получил высший чин — фельдмаршала. Мур предпринял довольно необычный шаг — его офицеры прежде всего сами постигали и оттачивали то, чему они должны были учить своих будущих подчиненных. Капитан Уильям Хэй в своих «Воспоминаниях» описывает, как он в 1808 году попал в 52-й полк в возрасте шестнадцати лет: «Я, вместе с другими свежеиспеченными офицерами, был направлен к адъютанту полка для отработки строевой подготовки. Оказалось, что в полку было заведено правило — все молодые офицеры должны были в течение шести месяцев заниматься строевой подготовкой в общем строю с солдатами, прежде чем им позволялось исполнять свои обязанности в качестве офицеров. Эта подготовка продолжалась пять часов каждый день, не считая утренних и вечерних построений…» Помимо строевых занятий вместе с рядовыми, офицерам было рекомендовано изучать своих людей с целью оптимального применения тех или иных их склонностей и способностей. Поощрялись также спортивные занятия во время отдыха, большое место уделялось подготовке в полевых условиях, приближенных к боевым. Что касается преступлений в воинской среде, то упор делался на их предупреждение, а не на наказание; гораздо чаще применялись меры поощрения за хорошую службу — денежные вознаграждения, медали, почетные нашивки и повышение в звании, — чем телесные наказания. «52-й полк в настоящее время, вне всякого сомнения, является во всех отношениях самой лучшей частью во всей армии. Плетка-девятихвостка никогда не используется, и тем не менее дисциплина в нем поддерживается на самом высоком уровне». Далеко не последнюю роль играло то, что солдат этого полка учили навыкам бытового обихода: умению шить, готовить и обходиться подручными средствами, если бы они оказались заброшенными на вражескую территорию. Основы боевой подготовки этого полка вошли в базовый курс обучения подразделений коммандос во Второй мировой войне, и современные приверженцы методов сэра Джона ничуть не удивляются тому, что его идеи возродились спустя 130 лет. Мур пал на поле боя под Коруньей — похоронен «объятый ночным мраком», но части, которые он выучил, и система боевой подготовки, внедренная им, продолжали жить в легкопехотной бригаде, а позднее распространились на всю легкопехотную дивизию. В условиях суровой, но разумной дисциплины, установленной горячим Черным Бобом Кроуфордом, она превратилась в оплот всей испанской армии. Первые в атаке, последние в отступлении, ее солдаты стали знамениты своим умением сражаться при всех обстоятельствах; своей способностью выживать в самых трудных и негостеприимных местностях; своей блестящей дисциплиной на маршах, которая позволила им прибыть, уже изрядно усталыми, на поле сражения при Талавере, преодолев более 115 километров за двадцать шесть часов. (Хотя этот бросок был осуществлен в самый разгар жары испанского лета, а каждый солдат нес на себе от пятидесяти до шестидесяти фунтов снаряжения, лишь одиннадцать человек не смогли добраться до пункта назначения.) Ничуть не хуже были они подготовлены и в качестве стрелков прикрытия. При Фуэнте-де-Оноро их стойкость, предотвратившая отход всего строя, заслужила общее восхищение, их атака в прорыв при Сьюдад-Родриго, где сам Кроуфорд пал на поле брани, покрыла их заслуженной славой, и даже в кровавой битве при Бадайозе дивизия потеряла только треть убитыми и ранеными. Таковы были войска, которые вытеснили французов из Испании на территорию Франции; и Провидению было угодно, чтобы именно отважный 52-й полк в пятнадцатый день июня 1815 года нанес coup de grace (смертельный «удар из милости») в последней атаке французских егерей.  Конный гренадер французской армии Кавалерия в те дни применялась в массовом порядке, а в особенности французами (в знаменитой атаке сквозь снегопад в сражении при Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии участвовало 14 000 кирасиров, карабинеров, гусаров и егерей). Пехотные каре, столь часто упоминаемые в повествованиях о Наполеоновских войнах, выстраивались подобным образом в качестве оборонительной меры именно против кавалерийских атак. Отдельные пехотинцы или рассеянные по полю группы их никоим образом не могли противостоять верховым воинам. Кавалерийская атака обычно повергала в ужас даже самых храбрых пехотинцев, и крупные подразделения пехоты часто отступали при одной только угрозе атаки всадников. Если атака осуществлялась против пехотной колонны на марше или с фланга по развернутому в шеренгу строю, то судьба пехотинцев была незавидна — им предстояло быть порубленными и пасть на поле боя, почти не имея шансов нанести хоть малейший урон противнику. Потери, которые несли пехотные подразделения при встрече с кавалерией, зачастую были огромными и несоизмеримыми с численностью атакующей кавалерии. Во время войны на Пиренейском полуострове шесть кавалерийских эскадронов обратили в бегство и рассеяли целую дивизию испанской пехоты, которую они захватили врасплох, и не дали ей возможности развернуться из маршевой колонны в боевой порядок (если бы три эскадрона испанской кавалерии и артиллерийская полубатарея исполнили свой долг, вместо того чтобы бежать с поля боя, катастрофы можно было бы избежать). В результате этого столкновения несколько сотен конников наголову разгромили и обратили в бегство 4000 человек. Грозная английская пехота тоже не была защищена от подобных несчастий. Из-за безрассудности дивизионного командования три пехотных батальона из состава бригады в битве при Альбуере были построены в линию, имея неприкрытые фланги и без поддержки на расстоянии в пределах полумили. Два кавалерийских полка французов нанесли им внезапный удар во фланг, вследствие чего англичане отступили и за несколько минут потеряли 1200 человек из 1600, врагу также достались пять боевых знамен. С появления конных воинов и до принятия на вооружение нарезных мушкетов и казнозарядных ружей единственным спасением пехотинца от угрозы кавалерийской атаки было объединение в группы, образующие кольцо из оружия, направленного в сторону вражеских всадников. Пехотные каре при Ватерлоо были прямыми наследниками ощетинившихся копьями «ежей» феодальных войн. Позднее к этим стальным «ежам» добавилась огневая мощь гладкоствольных мушкетов. Вновь обретенная британцами стойкость их пехотных каре при Ватерлоо и то значение, которое историки по праву отводят им в этой победе, может создать впечатление, что это некий особый тактический прием британской армии. На самом же деле этот строй широко применялся всеми армиями того периода, и ветераны-пехотинцы прекрасно знали, что, построившись полым квадратом, они обретают надежную защиту против кавалерии. «Самая лучшая кавалерия не вызывает ничего, кроме презрения, у уверенного в своих силах и хорошо вооруженного пехотного полка; даже наши люди понимали это и начинали сожалеть о бесполезной настойчивости противника, и, когда те снова пускались в атаку, наши пехотинцы ворчали: «Ну вот, снова прутся эти идиоты!» Лишь в одном-единственном случае в ходе войны на Пиренейском полуострове должным образом сформированный строй пехоты, доселе не раз отражавший атаки конницы, был ею прорван. На следующее утро после сражения при Саламанке два французских батальона были построены в каре на хорошей позиции в открытом поле, на склоне с легким уклоном. Здесь они были атакованы тяжеловооруженными драгунами из Королевского германского легиона, которых французский генерал Фой называл лучшими из кавалеристов, которых ему приходилось когда-либо видеть. Залп французов нанес изрядный урон атакующим, и атака, вероятно, была бы отбита, но одна смертельно раненная лошадь, неся на себе уже мертвого драгуна, последним усилием перепрыгнула через припавших на одно колено для выстрела пехотинцев первой шеренги. Упав на землю, она принялась биться и лягаться в смертельной агонии и сбила на землю полдюжины человек, проделав в строю брешь, через которую тут же прорвался конный офицер, ведя за собой клин конных драгун. Строй был разрушен, каре дрогнуло, большинство солдат просто побросали оружие на землю. Солдаты во втором каре, потрясенные зрелищем уничтожения своих друзей из первого батальона, изготовились к стрельбе. Огонь, которым они встретили атакующих их строй драгун, был неистов, но все же первая шеренга каре была смята, а спустя несколько минут и со вторым батальоном все было покончено. Свидетельством тому, что до того, как произошел инцидент с лошадью, первый батальон упорно оборонялся, стали пятьдесят четыре погибших драгуна из числа нападавших и шестьдесят два раненых из общего числа в семьсот человек. Офицер драгунской бригады Томкинсон, бывший свидетелем этого инцидента с лошадью, написал о полке британской пехоты следующее: «Они были атакованы внезапно, и им пришлось выстроиться в каре, не теряя времени, прямо в пшеничном поле. Враг отважно атаковал их, но они встретили его столь хладнокровно и в таком образцовом строю, что было невозможно прорвать его, лишь только главными силами (что было вещью неслыханной; пехота либо ломала строй еще до того, как кавалерия приближалась, либо конников отбрасывал огонь пехотинцев). Для пехотинцев всегда представляется ужасным зрелищем вид несущейся на них на полном галопе кавалерии: солдаты в строю часто начинают пытаться укрыться за спинами своих товарищей, и этим начинается паника. Она же не дает им встретить кавалерию залповым огнем. Кавалеристы же видят все это, и начинающаяся паника побуждает их пришпоривать своих коней, а это повышает вероятность того, что им удастся прорвать строй и прорубиться внутрь каре, тогда уже все заканчивается за несколько минут. Если строй пехоты прорван, тогда у нее уже не остается никаких шансов на спасение. Но если она будет держать строй, то кавалерии почти невероятно добиться успеха против пехоты; и все же я всегда был настороже, командуя пехотинцами, которых атаковывала кавалерия, поскольку мне уже приходилось видеть, как самые лучшие части боялись кавалерии куда больше, чем всего прочего». Лошадь обычно невозможно заставить броситься на стену штыков, за которыми стоят несколько шеренг кричащих людей. Если ее все же и удастся побудить приблизиться к такому барьеру, то в последний момент она неизбежно откажется сделать попытку преодолеть его, и многие всадники, более отважные, но менее разумные, чем их скакуны, бывали выброшены головой вперед прямо на поджидающую их сталь. При Ватерлоо французские кавалеристы использовали любую возможность прорвать строй британских пехотинцев. «Часть эскадрона отступает, но более смелые все же понукают своих лошадей двинуться на наши штыки. Во время следующей атаки, предпринятой кавалерией, они намеренно погнали своих лошадей прямо на наши штыки; и один из всадников, перегнувшись через холку лошади, сделал палашом выпад, целя в меня. Я не мог избежать его [Томкинсон находился в первом ряду, опустившись на одно колено, держа мушкет наперевес и оперев его приклад о землю, а цевье — о колено] и непроизвольно закрыл глаза. Когда я снова открыл их, то мой противник лежал прямо перед мной, так что я мог дотянуться до него. Когда он пытался нанести мне удар, он был ранен одним из моих товарищей из задней шеренги… Хотя враг не отступал, но никто особо и не хотел познакомиться поближе с остротой наших штыков… Отдельные всадники сближались с нашими людьми и старались отбить в сторону наши штыки. Однако единственным результатом этих попыток были их тела и туши их лошадей, которые вскоре образовали целый вал вокруг нашего каре. Я просто не могу решить, чем восхищаться в большей степени — хладнокровным бесстрашием наших каре, ничем не защищенных от смертоносного огня французской артиллерии, или отвагой тяжелой кавалерии врага, сближавшейся с нами едва ли не до упора в дула наших мушкетов. Но храбрость их была бесполезна, ни одного каре они не смогли прорвать и всегда должны были отступать под прицельным огнем наших солдат». Если кавалерия не могла прорваться внутрь каре, она оставалась более или менее беспомощной и могла только в ярости кружить вокруг каре. Об этом свидетельствовал и герцог Веллингтон: «Французская кавалерия некоторое время кружила вокруг нас, словно она была нашей собственной». То, что кавалеристы, кружившие вокруг пехоты, не были в краткий срок уничтожены ее огнем, можно объяснить только малой точностью гладкоствольных мушкетов. Если бы она была высокой, то атакующие, безусловно, понесли бы тяжелые потери. Каре обычно формировались по четыре человека в глубину, при этом передняя шеренга опускалась на одно колено. Принятая в британской армии дистанция между солдатами в строю составляла 2,5 сантиметра, так что батальон в восемьсот штыков выстраивался в каре со стороной примерно в 27 метров. Но с началом военной кампании мало какие батальоны имели полную численность, так что соответственно сжималось и каре. Если в батальоне оставалось слишком мало солдат, то два ослабленных батальона могли быть слиты вместе, чтобы выстроить одно каре. Батальон указанной выше численности мог перестроиться из линии в каре примерно за сорок пять секунд. Поскольку кавалерия, идя галопом, покрывала расстояние в одну сотню ярдов примерно за пятнадцать секунд, это оставляло не так уж много времени для организации обороны, и часто батальоны, захваченные врасплох, погибали, не закончив перестроение. 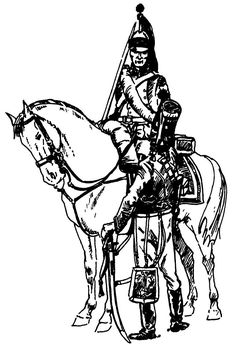 Французские драгун (верхом) и гусар  Французский кирасир Если костяк батальона составляли ветераны, то каре могли маневрировать, свидетельством чему было организованное отступление с поля битвы при Ватерлоо батальонов императорской гвардии. В сражении при Фуэнте-де-Оноро знаменитая легкопехотная дивизия построилась в каре — три британских и два португальских — и неторопливо отступила, пройдя около четырех километров; при этом она отбивала атаки двух бригад французской кавалерии, потеряв только одного человека убитым и имея тридцать четыре раненых. В другом случае каре французских гренадер, атакованное на открытой местности британской кавалерией, успешно совершило, обороняясь, планомерный отход, несмотря на столь яростные атаки конницы, что в одной из них один эскадрон потерял десять человек убитыми и раненными ударами штыков из первой шеренги. Занимая боевую позицию, чтобы противостоять серии кавалерийских атак, подобных тем, которые провел при Ватерлоо Веллингтон, каре часто располагались в шахматном порядке, так что огнем из боковых шеренг можно было простреливать пространство между каре. Артиллерия обычно располагалась между каре, чтобы орудийная прислуга могла укрыться от налетающей конницы внутри каре; орудийные же передки и лошади отводились в тыл. Осуществление сложных маневров, необходимых для передвижения значительных масс людей, требовало интенсивного обучения, а если эти маневры осуществлялись под огнем неприятеля и в грохоте битвы — то и крепких нервов. Все то же самое было необходимо и для поддержания строя, когда подразделение несло тяжелые потери. Хотя каре было неуязвимо для конницы, оно было практически открытым для орудийного огня. Одной из задач кавалерии было заставить вражескую пехоту перестроиться из линии, в которой ее ружейный огонь имел максимальный эффект, в каре, когда число мушкетов, могущих быть нацеленными на какую-либо определенную цель, значительно уменьшалось. Причем кавалерия должна была не только заставить пехоту образовать каре, но и, продолжая угрожать ей своим присутствием, удерживать этот строй, тогда как артиллерия, действуя согласованно с кавалерией, своим огнем выбивала пехоту. Пока над пехотой нависала угроза атаки кавалерии, она не осмеливалась тронуться с места ни для того, чтобы атаковать вражеские орудия, ни для того, чтобы отойти. Малейшая неуверенность, едва заметный признак слабости — и кавалерия набрасывалась на нее, как волк на скотину. Томкинсон продолжает: «Хотя мы постоянно повергали на землю наших закованных в сталь противников, нам гораздо больше досаждала картечь, которая все время обрушивалась на нас с ужасающим эффектом и полностью отомстила за поверженных нами кирасиров. Часто, когда особо удачный залп вражеских артиллеристов пробивал брешь в нашем каре, в нее устремлялась было конница, но всякий раз бывала отбита… Для своей следующей атаки они подтянули несколько орудий с прислугой, которые были установлены прямо против нас и открыли почти в упор огонь картечью, пробивавшей в наших рядах целые просеки, а затем в эти зияющие дыры устремились конники. Но еще до того, как они приблизились, мы сомкнули ряды, отбросив в стороны трупы наших погибших товарищей и укрыв раненых за нашими спинами, так что вражеская кавалерия снова была вынуждена отступить. Они, однако, не предприняли больше ничего, как продолжить артиллерийский огонь, полагаясь больше на картечь». Войска, часами выдерживавшие яростный огонь артиллерии, на который не могли ответить, проявляли невиданную отвагу. Безусловно, огромную роль играла воспитанная в них дисциплина, но мало кто в их рядах был ветераном; большинство же было едва обстрелянными солдатами, чуть больше чем недавними рекрутами. Эндрю Барнард, командовавший первым батальоном 95-го полка, отмечал впоследствии: «Лучшими подразделениями, которые были при Ватерлоо, оказались все вторые батальоны, едва покинувшие учебный плац. Они стояли и отбивали атаки, как и обстрелянные бойцы, но было бы весьма опасно попытаться проделать ими какой-либо маневр под огнем неприятеля, как это можно было бы с ветеранами войны на Пиренейском полуострове». Стоять в строю всю вторую половину долгого летнего дня открытыми смертоносному граду шрапнели и картечи столь противоречит современной практике войны, что нельзя не задаться вопросом: не обладали ли наши предшественники некой особой внутренней силой духа? Пишет сержант: «…наши люди падали дюжинами при каждом залпе вражеских орудий. Примерно в это же время прямо перед нами упало большое ядро, и, пока горел его фитиль, мы могли только прикидывать в уме, сколько из нас будут убиты при взрыве. Когда же он взорвался, около семнадцати человек были убиты или ранены его осколками; на мою долю пришелся рваный кусок чугуна размером примерно с конский боб, который нашел себе место в моей левой щеке…» Рядовой 52-го полка поведал следующее: «…я видел, как орудийный ствол был направлен на наше каре, и, когда прогремел выстрел, я успел заметить вылетевшее из него ядро, которое, казалось, несется прямо на меня. Я подумал: может, сдвинуться? Нет! Я собрал всю силу воли и остался стоять, сжимая в правой руке древко знамени. Я не знаю точно, с какой скоростью летят пушечные ядра, но, как мне кажется, прошло секунды две с того момента, как я увидел вспышку пламени из ствола до того, как ядро ударило прямо в первую шеренгу нашего каре…» После общего наступления в конце дня позиции, которые занимали каре, можно было определить по телам убитых, лежавших рядами там, где они стояли. «Наша дивизия, — писал Кинкейд, рядовой 95-го полка, — которая состояла из более чем пяти тысяч человек в начале сражения, постепенно уменьшилась до одиночной линии стрелков прикрытия; 27-й полк полег буквально до последнего человека, занимая позицию каре в нескольких метрах от нас». Подсчитанные после сражения потери полка составили 478 человек из 698, бывших в нем на начало сражения. ВатерлооЗаключительное сражение между войсками Наполеона и союзниками описано во множестве источников. Это было исключительно солдатское сражение — кровавая рукопашная, в которой при всем желании нельзя усмотреть проявлений полководческого гения Наполеона. Исследователи его жизни могут только удивляться странной апатии императора, которая охватывала его в самые напряженные моменты сражений, совершенно очевидно сковывая его искушенный стратегический ум и безграничную энергию. Ватерлоо был именно таким случаем, и действия императора в этот день вызвали горькое разочарование у тех, кто помнил его былые триумфы. Веллингтон, напротив, выбирал свои позиции с особой тщательностью и провел свое сражение с хладнокровием и мастерством. То, что Веллингтон оставил относительно большие силы (18 000 человек и 30 орудий, из которых только 3000 человек были англичанами) у Хала, считается стратегической ошибкой. У герцога, однако, были основания полагать, что часть французских сил может попытаться осуществить атаку во фланг, обогнув его позиции с тыла. Приказ Наполеона, отданный маршалу Груши, имевшему под своим командованием 33 000 человек и 110 орудий, преследовать пруссаков после их поражения при Линьи был более серьезным просчетом, в особенности потому, что маршрут отхода пруссаков был разведан совершенно недостаточно. Кампания в целом была великолепно спланирована, а концентрация французских войск — осуществлена быстро и втайне. Однако все преимущества мастерски проведенных первоначальных маневров были сведены на нет ошибками маршала Нея при Катр-Бра и маршала Груши при Диле. Наполеон в данном случае тоже сплоховал, поскольку для него было совершенно необходимо сохранять гораздо более строгий контроль за маневрами своих маршалов, чем он это делал в тот день. Он, по существу, пожал урожай своей собственной самоуверенности. Он так долго настаивал на необходимости быть в курсе самых малейших деталей, лично отдавать все приказы, что лишил подчиненных ему военачальников какой-либо инициативы. В результате редко кому из них — Ней точно не принадлежал к числу таковых — он мог доверить действовать по своему собственному усмотрению. Кампания, вкратце, сводилась к концентрации французских сил (которые были рассредоточены по линии Лилль — Мец — Париж) в районе Шарлеруа, откуда они должны были продвинуться в Бельгию в проходах между разбросанными союзническими войсками, расквартированными на пространстве 166,7 на 55,6 километра. Французская армия должна была действовать тремя частями, двумя фланговыми группами и резервом (гвардия). Все три группы должны были держаться на расстоянии короткой маршевой дистанции друг от друга. При встрече с противником одно крыло должно было соединиться с резервом и обрести численность, достаточную для сокрушительного удара, тогда как второе крыло должно было занять позицию между местом возможного сражения и любым соединением союзных войск, которое могло бы прийти на выручку к своим товарищам. 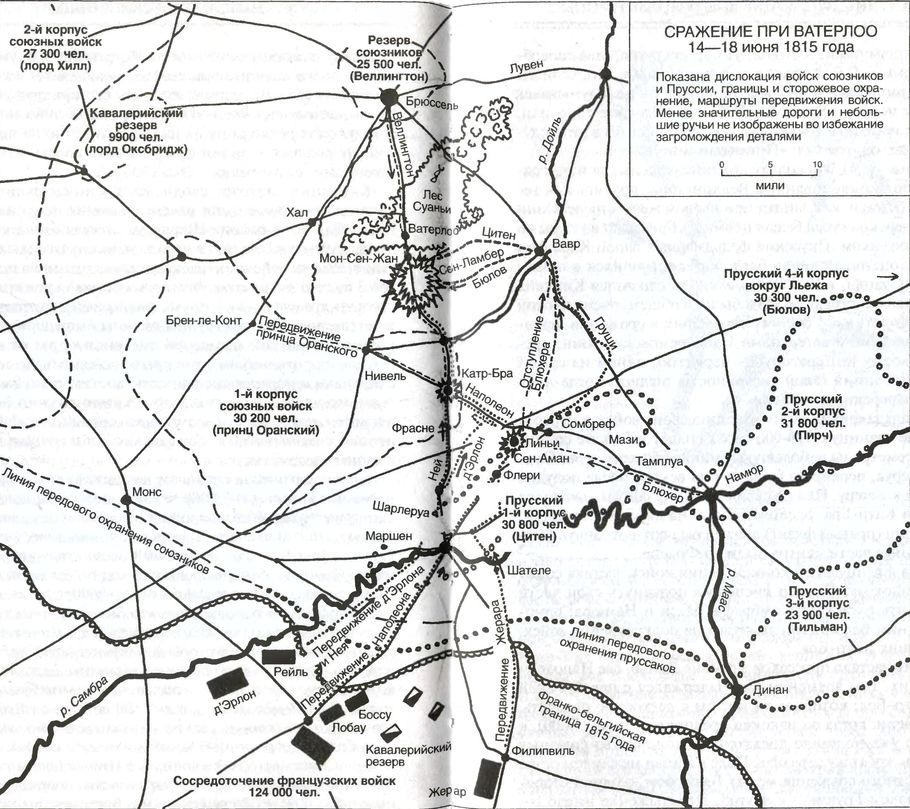 Силы союзников состояли из английских и голландских войск численностью 93 000 человек под командованием Веллингтона, со штаб-квартирой в Брюсселе, и пруссаков численностью 116 000 человек, которыми командовал фельдмаршал Гебхард фон Блюхер, державший свою штаб-квартиру в Намюре. Пруссаки были в своей неизменно высокой готовности к сражению, хотя после Линьи около 8000 человек из их рядов дезертировали (в основном те, кто был набран на территории, еще недавно принадлежавшей империи). Личный же состав сил герцога представлял собой целую коллекцию различных народов; здесь были нассаусцы, голландцы, бельгийцы, ганноверцы, брауншвейгцы и британцы, притом что британцев было только 24 000 человек, да еще 5500 ветеранов Королевского германского легиона, весьма надежных в бою. Из числа же британцев обстрелянных воинов имелось весьма немного — большая часть ветеранов войны на Пиренейском полуострове была отправлена в Америку. Большинство подразделений, принимавших участие в сражении при Ватерлоо, были вторыми и третьими батальонами, состоявшими из рекрутов, едва способных к обучению. После сражения герцог сказал, что, если бы его старая армия была с ним при Ватерлоо, он не задумываясь атаковал бы первым. Когда же его после этих слов спросили, сколько времени, по его мнению, продержались бы в этом случае французы, он ответил: «Примерно минуты три». Некоторые из 41 000 солдат континентальных войск, сражавшихся под командованием Веллингтона, дрались как герои; другие бежали, как зайцы, при первом же выстреле. Один полк ганноверских гусар бежал прямо до Брюсселя во главе со своим полковником. Прусский фельдмаршал барон Карл фон Мюффлинг оценивал число беглецов, скрывшихся в одном только лесу Суаньи, в 10 000 человек. Как отозвался Кинкейд в «Приключениях стрелка»: «Мы были, в общем, очень плохой армией». Напротив, 74 000 участвовавших в сражении французских солдат были ветеранами Наполеоновских войн, преданными своему императору, — вероятно, одной из самых великолепных армий такой численности, шедших когда-либо в бой под имперскими «орлами». Император закончил концентрацию своих войск и пересек бельгийскую границу с 124 000 своих солдат на закате солнца 15 июня. Несмотря на небольшую заминку на мосту через Самбру у Шарлеруа, переправа была начата вскоре после полудня и закончена к вечеру. Ней со своим левым флангом находился у деревушки Катр-Бра, расположенной на перекрестке дорог, маршал Груши (правый фланг) должен был вот-вот занять Флери, а отдельные части центра были во Фрасне. Быстрота французской концентрации войск застала союзников врасплох, но Блюхер поспешил подтянуть свои части и расположить их вокруг Сомбрефа, Мази и Намюра; одновременно с ним Веллингтон двинулся на подкрепление войск, удерживающих Катр-Бра.  Утро 16-го застало пруссаков в районе Линьи, где Наполеон и атаковал их. Тем временем Ней задержался с переброской войск к Катр-Бра, которым он мог бы с легкостью овладеть. К тому времени, когда он наконец предпринял атаку (14.00), к этой ферме уже подошло достаточное количество союзных войск, чтобы эту атаку отразить. Поле у Линьи между тем стало ареной яростного сражения между Блюхером, с одной стороны, и маршалом Груши — с другой. Это сражение имело гораздо более важное значение, чем действия у Катр-Бра, и Наполеон отдал приказ 1-му корпусу (которым командовал граф д'Эрлон) выйти из состава сил Нея и следовать маршем на усиление войск у Линьи. Однако Ней, ввиду изменения соотношения сил после появления на поле боя войск Веллингтона и понуждаемый приказами императора как можно быстрее взять Катр-Бра, отдал приказ д'Эрлону вернуться. И хотя войска генерала уже подходили к окраине поля сражения при Линьи (где их появление вызвало мгновенную панику у части французских войск, ошибочно принявших их за пруссаков), он послушно развернул их на 180 градусов и повел обратно к Катр-Бра. Они прибыли туда к 19.00 (уже когда Ней отошел после окончания сражения), бесцельно потеряв драгоценное время в переходах туда и обратно между двумя полями сражений и не сделав ни единого выстрела. Сражение за и вокруг Линьи, Сомбрефа и Сен-Амана было ожесточенным и кровопролитным и завершилось поздним вечером, когда гвардия Наполеона пошла в решающую атаку, закончившуюся поражением пруссаков. Они потеряли 12 000 человек и 21 орудие, но и потери французов тоже были весьма значительными (8500 человек). К тому же — Наполеон не знал этого — разбитое войско пруссаков отступило не на восток, что сразу же отрезало бы их от сил Веллингтона, а на север, где они сохранили возможность соединения с основными силами. На следующий день, 17 июня, императору было бы логично поспешить от Линьи на соединение с Неем, и тогда их объединенных сил оказалось бы достаточно, чтобы сокрушить Веллингтона, который все еще продолжал удерживать перекресток дорог, не зная (до 7.30 утра), что его прусский союзник потерпел поражение. Однако по неизвестным причинам Наполеон не предпринял никаких действий, кроме отправки сообщения Нею (примечательному своей неопределенностью), что он оставляет новую атаку на войска Веллингтона на его, Нея, усмотрение. В результате этого, когда Наполеон наконец пришел в себя (по свидетельствам его окружения, он страдал от перенапряжения и бессонницы) и отдал приказ о наступлении, Веллингтон начал спокойно отходить, прикрывая этот маневр кавалерией и артиллерией. Ливень, едва ли не тропической силы, препятствовал преследованию, и войска герцога благополучно прибыли на подготовленные позиции вокруг Мон-Сен-Жана. Французы совершали переход весь вечер, некоторые подразделения прибыли на место лишь к полуночи, и две армии провели ужасную ночь — голодные, мокрые и холодные. Сержант Вилер из 51-го легкопехотного полка писал: «…почва была слишком влажной, чтобы можно было на нее лечь, и мы сидели на наших ранцах, не разжигая костров, не было никакого укрытия от непогоды; дождь хлестал прямо за шиворот наших мундиров… Утешала нас только мысль о том, что и противник находится точно в таком же положении». Неглубокая холмистая ложбина шириной не более 1100 метров разделяла две армии. Общая длина поля боя составляла около 6,4 километра, но большая часть сражения происходила на фронте длиной менее 3,2 километра. На этом небольшом пространстве площадью менее двух квадратных миль было сосредоточено более 140 000 человек и около 411 орудий. Со стороны французов местность полого понижалась от фермы Бель-Альянс, а потом снова поднималась, образуя гряду, на которой и за которой располагался лагерь Веллингтона. Дорога Шарлеруа — Брюссель проходила прямо через эту ложбину. На ней, чуть ниже северного, или британского, гребня, располагалась ферма Лa-Хе-Сент. Поблизости, почти в километре от нее, находился замок Угумон, садам и обнесенным каменными стенами паркам которого предстояло стать сценой яростных схваток. По правую сторону от него находились фермы Паплотт и Ла-Хе. Вдоль вершины северного хребта проходила немощеная дорога, в нескольких местах пересеченная канавами глубиной 1,5–2 метра и частично обсаженная живой изгородью. За северным гребнем, на дороге в Брюссель, на одноименном холме расположилась деревушка Мон-Сен-Жан, а в нескольких сотнях метров за ней начинался лес Суаньи. Несмотря на всю выгодность занятой позиции, Веллингтон не смог бы эффективно сражаться здесь с тем сборищем разнородных войск, которое пребывало под его командованием, если бы Блюхер продолжил отступление. Но мужественный старый маршал, хотя и был обескуражен своим поражением под Линьи и едва смог уйти от преследования французских кирасир, все же прислал в два часа ночи известие о том, что с рассветом он намеревается подойти на помощь к основным силам Веллингтона. Рассчитывая на это, герцог распределил свои силы (67 650 человек и 156 орудий) вдоль гривки возвышенности, причем большую часть расположил на обратном склоне вне досягаемости огня французских орудий. (Утром в день сражения при Линьи Веллингтон верхом подъехал к Блюхеру согласовать свои действия и обратил внимание на то, что пруссаки в массе своей выдвинуты на обращенный к неприятелю склон возвышенности и открыты огню французской артиллерии. «Если они будут сражаться здесь, их изрядно потреплют», — заметил герцог.) Ферма Ла-Хе-Сент и замок Угумон были забиты войсками, равно как и фермы Ла-Хе и Паплотт. 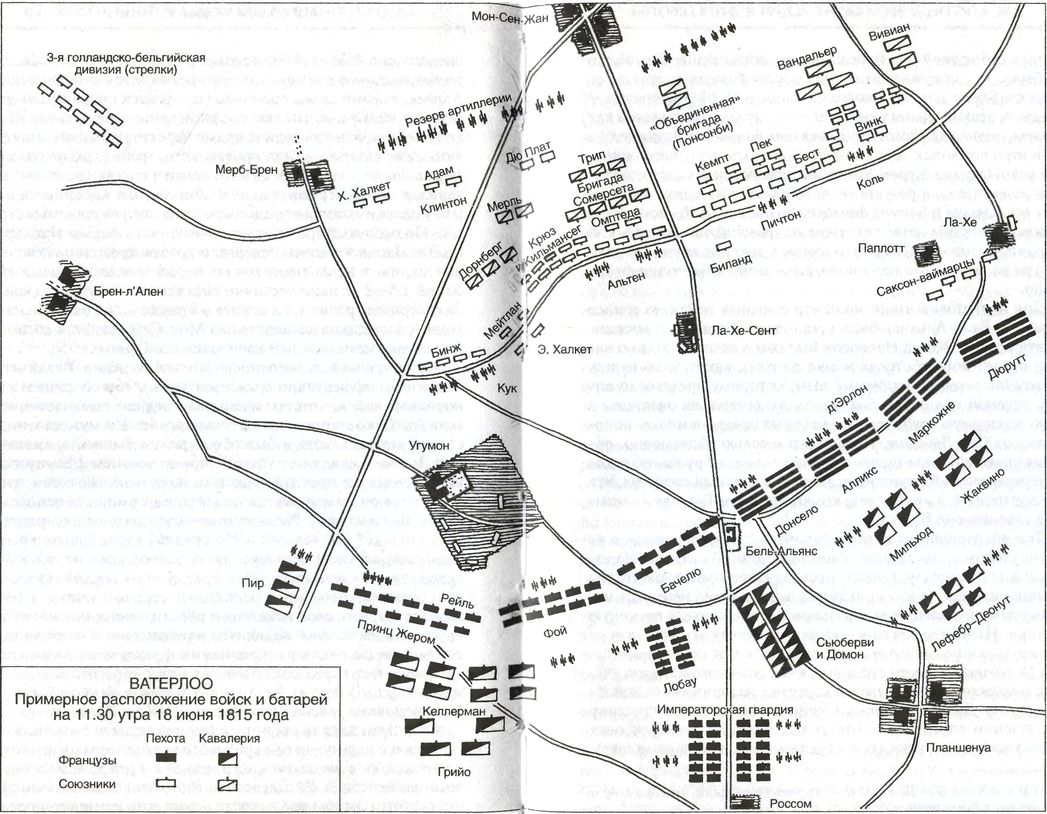 Французы заняли свои позиции под музыку полковых оркестров и с неумолчными криками в честь своего императора, но прошло еще довольно много времени, прежде чем начались военные действия. Впоследствии Наполеон объяснял это тем, что он хотел, чтобы земля после ливня хоть немного просохла и стала пригодной для передвижения артиллерии. Как бы то ни было, эта задержка позволила основным силам пруссаков подойти ближе к полю сражения. Лишь в 11.30 утра сражение началось атакой французов на Угумон, правда задуманной как ложная, только для того, чтобы отвлечь внимание Веллингтона от центра его войск, куда и предполагалось направить основной удар. Однако Жером Бонапарт[31] превратил эту ложную атаку в подлинную, в результате чего в битву за замок втягивалось все больше и больше французских войск. В Угумоне были расквартированы легкопехотные подразделения британской гвардии, которые удерживали замок в течение всего дня, несмотря на постоянно возобновляемые отчаянные атаки французов. Для подготовки атаки на центр союзных войск на гривке справа от Бель-Альянса была установлена батарея из восьмидесяти орудий. Когда Наполеон был готов отдать приказ о начале орудийного обстрела и еще до того, как стволы пушек изрыгнули огонь и пороховой дым, которому предстояло висеть пеленой над полем боя до самого вечера, он разглядел в свою подзорную трубу темную массу на северо-востоке, неподалеку от Сен-Ламбера. Первой его мыслью (безусловно, обнадеживавшей) была та, что это возвращается Груши, но вскоре перехваченный прусский всадник-посыльный сообщил, что это подходит 4-й корпус под командованием Бюлова — авангард главных сил Блюхера. Тем обстоятельством, что эти войска были прусскими, а не французскими, последние обязаны в равной степени Наполеону и его маршалу. Груши, преследуя пруссаков, растратил драгоценное время и был введен в заблуждение неверными и неполными донесениями, что и предопределило его неверную тактику. Наполеон, со своей стороны, будучи убежден в том, что пруссаки не смогут быстро оправиться от своего поражения 16-го числа и через столь краткий срок снова принять участие в сражении, отказывался серьезно воспринимать подобную угрозу. Даже получив от Груши сообщение, что пруссаки совершенно определенно отступают к северу, он не отдавал приказ маршалу следовать на соединение с основными силами армии вплоть до 13.00, пока не увидел собственными глазами атаку прусского авангарда. Но было уже слишком поздно. Груши в это время уже вступил в бой с прусским арьергардом (3-й корпус под командованием барона Иоганна фон Тильмана), да и в любом случае не мог подойти к полю битвы ранее полуночи. Появление пруссаков, совершенно нежелательное, все же почти не повлияло на уверенность Наполеона. Шансы в его пользу, заявил он, до этого были 90 против 10, теперь они все же оставались в соотношении 60 на 40. Отправив корпус графа Лобау и несколько кавалерийских подразделений сдерживать пруссаков, он предпринял атаку на позиции Веллингтона. Корпус графа д'Эрлона, тридцать три батальона, четырьмя плотными колоннами двинулся в наступление уступом слева. Одна из колонн, левая, атаковала союзные силы в Лa-Хе-Сенте, другая, правая, вытеснила нассаусцев из Паплотта. Последние, которыми командовал принц Бернгард Саксен-Веймарский, получили подкрепление и отбили ферму, и после этого события на левом фланге позиций союзников представляют для нас весьма малый интерес. Соперники сражались и погибали всю вторую половину дня у амбразур, в траншеях, в зданиях и в рвах на этой части поля, но никаких решительных маневров здесь предпринято не было, и в конце концов бой переродился в перестрелку между противниками. Остальные силы брели по насквозь промокшей скользкой земле, через полегшую под тяжестью влаги пшеницу, и поднимались вверх по склону перед левым центром войск Веллингтона. Орудия союзников своим огнем прорубали кровавые просеки в наступающих плотных колоннах, но французы только смыкали ряды над павшими и продолжали двигаться вперед под дробь барабанов, подбадривая себя боевыми криками, а их артиллерия вела яростный огонь поверх их голов. Столь упорного наступления и стены сверкающих штыков оказалось слишком много для голландско-бельгийской бригады, которая как один человек пустилась в бегство. «Маневр этот оставил такое впечатление, как будто он выполнен по команде». 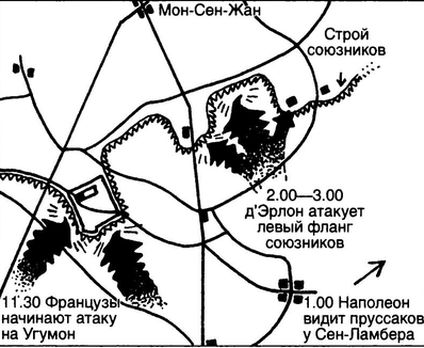 Но британская пехота на гривке была сделана из более прочного материала. Когда часть французов все-таки поднялась на гребень, их встретил мушкетный залп и холодная сталь штыков. Через несколько минут они были сброшены обратно, вниз по склону. Остальные успели только услышать оглушительный топот множества копыт и, не успев перестроиться в боевой порядок, были атакованы соединенной бригадой и в полном беспорядке сметены в долину, а торжествующие всадники продолжали работать палашами, догоняя их. Одновременно с этими событиями по другую (западную) сторону дороги Брюссель — Шарлеруа крупные силы французской кавалерии (главным образом кирасир под командованием Келлермана), поднимаясь вверх по склону, смяли батальон ганноверцев, пытавшихся прийти на помощь защитникам Ла-Хе-Сента, и достигли гривки возвышенности, громыхая доспехами и упряжью. Там они были встречены атакой Королевской бригады: «…словно сошлись две стены, столь совершенны были их ряды», и в грохоте боя англичане смешали ряды французов, оттеснив их обратно на прежние позиции. Торжествующие британские солдаты объединились со своими товарищами из соединенной бригады и, обрушившись на французские позиции, вырубили всю орудийную прислугу тридцати пушек большой батареи. Но когда они смешали ряды, а кони их сгрудились в кучу, по ним ударили свежие силы кирасиров и пикинеров и нанесли им тяжелые потери. Несмотря на организованный и быстрый отход, понесенные потери были столь значительны, что Веллингтон, и так уже с самого начала сражения испытывавший недостаток в кавалерии, до самого конца его был сильно ограничен в своих маневрах. 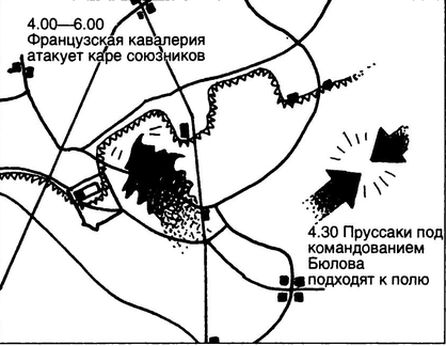 Но все же первая крупная атака была отражена, и Ней получил от императора приказ снова идти на приступ Лa-Xe-Сента. Приступ этот, довольно слабый, был отбит, но Ней, считая, что он заметил определенные признаки отхода центра британцев, приказал возобновить атаку силами трех дивизий кирасир и драгун. Пытаться прорвать неразбитый строй пехоты при подобных обстоятельствах, не имея должной пехотной или артиллерийской поддержки, было неосмотрительно, но Ней настаивал, и сорок эскадронов заполнили пространство между Ла-Хе-Сентом, поднимаясь вверх по склону. Союзная пехота была построена в несколько каре, размещенные в шахматном порядке; пространство между ними занимала артиллерия. Командиры батарей получили приказ не отводить свои орудия во время боя, при приближении кавалерии орудийная прислуга должна была укрываться внутри ближайшего каре. Их огонь совершенно смешал стройные ряды французских конников. Так, одна из батарей, которой командовал Мерсье, уничтожила столько врагов, что ее позицию на следующий день можно было определить по грудам мертвых лошадей и всадников. Свою долю, причем изрядную, внес в эту бойню и огонь построенной в каре пехоты, но даже видимая бессмысленность этого кровопролития не отвратила Нея от его решения. Когда первый приступ захлебнулся и солдаты скатились обратно по склону в долину, их снова построили в шеренги и снова повели в пекло. Воспоминания Мерсье дают нам точную картину происходившего тогда на поле боя, столь чуждую нашим нынешним представлениям о военных действиях, что она представляется невероятной. «Вражеские всадники приближались к нам плотными эскадронами, один за другим, столь многочисленные, что когда последние из них были еще ниже бровки, то передовые находились ярдах в 60 или 70 от наших орудий. Они шли медленной, но ровной рысью… С равной решимостью держали строй и мы… Каждый воин недвижимо стоял на своем месте, орудия были изготовлены к стрельбе, заряжены картечью, запальные отверстия засыпаны порохом, в руках у прислуги трещали пальники… Вражескую колонну вел на этот раз офицер в богато украшенной форме, на груди его сверкали ордена, его горячая жестикуляция странным образом контрастировала с угрюмой решительностью тех, к кому она была обращена. Поэтому я позволил им невозбранно приблизиться к нашим позициям и, когда голова колонны находилась примерно ярдах в 50 или 60 от нас, отдал приказ: «Огонь!» Эффект орудийного залпа был ужасающим. Почти вся передовая шеренга была тут же сражена в одно мгновение; картечь, хлестнувшая по колонне, расстроила ее ряды по всей ее глубине. Земля, и так уже усыпанная жертвами первого приступа, стала почти непроходимой. И все же эти преданные своим командирам воины рвались вперед, пытаясь добраться до нас. Зрелище было совершенно невероятное. Наши орудия не переставали изрыгать свинец, наш дух поддерживал также беглый огонь двух наших каре. Те из наших противников, кому удалось пробраться сквозь груды тел павших солдат и туши лошадей, могли сделать не более нескольких шагов вперед, как в свою очередь падали, сраженные нашим огнем, и создавали новые препятствия для тех, кто шел за ними. Каждый выстрел каждого из наших орудий повергал наземь людей и коней, точно какая-то гигантская коса…» Теперь Наполеон уже прекрасно мог оценить всю безрассудность Нея, бросившего кавалерию в столь широком масштабе в эту атаку. Но, однажды предприняв ее, отступать было уже поздно, и не оставалось делать ничего другого, как только продолжать и продолжать пытаться взломать оборону противника, бросая на нее все новые и новые эскадроны. В конце концов 9000 кавалеристов стеснились на пространстве столь малом, что местами ни люди, ни лошади просто не могли повернуться. Склоны возвышенности и земля вокруг каре были завалены грудами мертвых и умирающих, и все же отважные всадники упорно стремились вперед. Редко когда кавалерия сражалась столь преданно и предпринимала столь настойчивые усилия, и все же каждая новая волна нападающих лишь увеличивала число их жертв. Если бы атаки были скоординированы с наступлением пехоты и выдвижением артиллерии, самопожертвование кавалеристов дало бы этим родам войск возможность более или менее безопасно приблизиться к вражеским каре на дистанцию, с которой они могли бы нанести удар. Но в сложившейся ситуации лишь несколько орудий смогло выдвинуться, чтобы поддержать кавалеристов. Они нанесли весьма чувствительный урон союзной пехоте, которая, будучи непрестанно атакуема конницей, не могла сменить строй и оставалась стоять в каре и принимать на себя удары вражеских орудий. «Около шести часов я обратил внимание на несколько артиллерийских упряжек, поднимающих орудия на нашу высоту. По цвету кепи прислуги я понял, что они принадлежат императорской гвардии. Едва я успел указать на них своим коллегам-офицерам, как два орудия шагах в семидесяти от нас были развернуты и быстро изготовлены к стрельбе. Первый же их залп смел семь человек прямо в центре нашего каре. Прислуга быстро перезарядила орудия, которые стали вести беглый огонь, стоивший нам многих жертв. Но мы могли только гордиться, видя, как наши товарищи встают на место павших при каждом орудийном залпе… Мы хотели было предпринять атаку на эти орудия, но, едва мы развернулись к ним, кавалерия, прикрывавшая их, тут же изрядно проучила нас». Довольно странно, но не было сделано никаких попыток увести или привести в негодность временно брошенные орудия. Поэтому, когда атакующие были в очередной раз отброшены и скатились по склону, британские артиллеристы добрались до своих орудий и с новой энергией обрушили их огонь на неприятеля. После ночного ливня почва размокла, и артиллерия могла передвигаться с величайшим трудом. И все же ее можно было бы использовать с гораздо большим эффектом, в особенности такому знатоку ее применения, каким был Наполеон. До сих пор трудно понять, почему этого не было сделано. Но факт остается фактом: артиллерия использовалась далеко не в полную силу, и в результате великолепная французская кавалерия была перемолота союзниками в ходе ее бессмысленных атак. 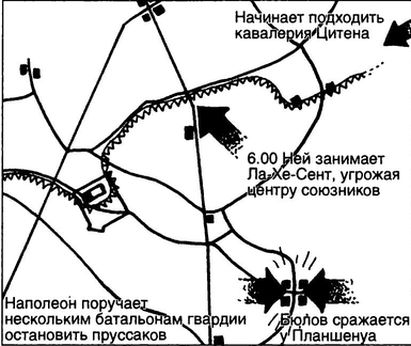 Пруссаки подходили медленно, поскольку все дороги развезло после ливня, а из-за пожара в городке Вавр нельзя было двигаться телегам с боеприпасами до тех пор, пора не справились с огнем. В результате вместо предполагавшегося часа дня авангард сил Бюлова лишь в 16.30 прошел узкой ложбиной у Сен-Ламбера и атаковал правый фланг французов. Их появление, пусть даже запоздавшее, положило конец всем надеждам Наполеона разбить Веллингтона до подхода основных сил Блюхера. Была предпринята новая попытка овладеть Ла-Хе-Сентом, и на этот раз она увенчалась успехом. Отважные защитники фермы расстреляли все свои боеприпасы. Отбивать атаки было нечем, и в ходе яростного штурма наступавшие заняли ферму. Майор Бэринг и сорок два человека — остатки девяти рот — смогли прорваться к позициям герцога. Все значение этих позиций немедленно стало понятным. Французы подтянули батарею конной артиллерии и установили ее под прикрытием строений фермы, всего лишь в 300 ярдах от передней линии союзников. Под прикрытием ее огня и заслона из стрелков остатки колонны д'Эрлона снова атаковали все больше слабевший центр союзных сил. Давление на этот участок сил герцога было столь велико, что судьба его висела на волоске. Если бы Наполеон решился бросить на чашу весов четырнадцать батальонов Старой и Средней гвардии, сражение могло бы закончиться в его пользу. Одного удара свежих войск было бы достаточно, чтобы прорвать линию английских войск, ослабленных потерями и дезертирством. Таковым мог стать удар элитного корпуса Старой гвардии, если бы только он получил возможность оправдать свое существование. Но пойти на такой шаг Наполеон не был готов. Когда Ней, нерасчетливо расточавший свои силы всю вторую половину дня, стал выпрашивать у Наполеона хоть немного свежих войск, чтобы прорвать оборону англичан, император раздраженно бросил ему в ответ: «Откуда я их вам возьму?» Наполеон дней Аустерлица тоже не мог создавать войска из воздуха, но он мог бы бросить в бой свои последние резервы и, может быть, победить. Наполеон 1815 года колебался — и проиграл.  Оба полководца понимали, что настал критический момент сражения. Под все усиливающимся напором наступающих пруссаков корпус Лобау был вынужден отступить; селение Планшенуа, находящееся правее и сзади французских позиций, было захвачено, но вскоре отбито силами дивизии Молодой гвардии. Ее солдаты, в свою очередь, были выбиты оттуда, и лишь великолепно проведенная атака двух батальонов Старой гвардии вернула селение французам и стабилизировала линию фронта. Ядра прусских орудий стали падать вокруг фермы Бель-Альянс, и возникла опасность того, что изрядно потрепанные силы Веллингтона будут прорваны еще до того, как Блюхер сможет обрушить все свои основные силы на французский фланг. Но промедление Наполеона дало Веллингтону время, необходимое для реорганизации его центра, а корпус прусского фельдмаршала графа Ганса фон Цитена уже появился на левом фланге сил герцога, когда Наполеон отдал гвардии запоздалый приказ атаковать. В парадном строю, с Неем во главе, с мушкетами, взятыми «на караул», ветераны в последний раз промаршировали перед своим императором. Когда темно-синие мундиры поднялись по обильно политым кровью склонам, их встретил смертоносный шквал картечи из последних оставшихся в строю орудий союзников. Картечь повергала французских пехотинцев наземь целыми шеренгами; но, смыкая свои ряды, они упорно двигались вперед двумя колоннами, под рокот барабанов, выбивавших приказ «ускорить шаг», заглушаемых криками: «Да здравствует император!» Разделившись в дыму и неразберихе, батальоны одной из колонн первыми вступили в соприкосновение с передовой шеренгой англичан. После краткой схватки британские пешие гвардейцы оттеснили их. Пока они перестраивались, вторая колонна двинулась в атаку. Но 52-й полк, прославленный своими подвигами в ходе войны на Пиренейском полуострове, почти в полном своем составе уже стоял на правом фланге британской гвардии. Захватив инициативу, их полковник, Джон Калборн, вывел своих людей из строя герцога и развернул их вдоль фланга французской колонны. Сосредоточенный огонь батальона привел в смятение императорских гвардейцев. Сбившись в толпы, они попытались было восстановить свой строй, но тут же оставили эти попытки и побежали. 52-й полк, усиленный приданными ему 71-м и 95-м полками, обратил в бегство первую колонну, которая все же сделала еще одну попытку перейти в наступление. Поражение гвардии (около 20.00) стало сигналом для общего отступления вдоль всей линии фронта, отступления, быстро перешедшего в бегство, как только герцог отдал приказ о наступлении всех союзных войск. Предводительствуемые двумя бригадами легкой кавалерии, союзные войска пошли, набирая скорость, по склону холма, сметая перед собой уже обратившуюся в дезорганизованную толпу французскую армию. Одновременно с этим корпус Бюлова окончательно положил конец всем попыткам Лобау удержать Планшенуа и тыл французского правого фланга, а пруссаки на левом фланге герцога вытеснили французов из Паплотта. Несколько раньше Наполеон приказал распространить в войсках известие о том, что маршал Груши идет к ним на помощь. Именно на правом фланге французских войск это известие сначала вызвало временный подъем боевого духа, но его ложность особенно тяжело воздействовала впоследствии на личный состав. Во всех подобных ситуациях осознание неправды, когда она становится явной, производит сокрушительное действие. Психологическая уловка Наполеона не удалась, и защитники Паплотта и Ла-Хе первыми возопили о «предательстве», за чем неизбежно последовало окончательное: «Спасайся кто может!» Вскоре находившиеся в резерве батальоны гвардии остались единственными французскими подразделениями, сохранившими свой строй. Все поле было полно толпами отступающих, на которые то и дело налетали английские и прусские кавалеристы, а союзная артиллерия и пехота обрушивали свой убийственный огонь. Сам же Наполеон покинул поле боя верхом, во главе двух батальонов 1-го гренадерского полка Старой гвардии. Это была элита ветеранов армии, и они спокойно и размеренно двигались медленным шагом сквозь толпы бегущих солдат и отступающих всадников, время от времени останавливаясь только затем, чтобы дать залп из мушкетов, а затем возобновляли свое движение под звуки «Марша гренадеров». В своей книге «Ватерлоо» Эркман-Шатриан писал: «В отдалении звуки полкового оркестра гренадеров звучали погребальным звоном посреди хаоса смерти; но было в нем нечто еще более ужасное, чем это, — над полем разносился последний зов Франции… рокот барабанов Старой гвардии среди нашего поражения был одновременно и трогательным, и ужасным». Так уходила в историю Старая гвардия. Редко какая воинская часть так полно соответствовала своей славе, как эти овеянные ею усачи-ветераны. Память о них жива и поныне, и сочетание слов «старая гвардия» ассоциируется со всем твердым, непреклонным, бескомпромиссным и неколебимым. Вошло в историю и понятие «Ватерлоо» — ставшее, в свою очередь, синонимом окончательного и сокрушительного поражения. Даже по меркам тех времен число участников сражения было не таким уж значительным, а пространство, на котором произошла эта битва, — просто мизерным клочком земли. И все же в тот день пало более 40 000 человек, а победа союзников над когда-то непобедимым блистательным императором изменила ход истории либо предотвратила ее изменение. Исследователь истории со временем может испытывать чувство, что поражение Наполеона было и крушением, и благодеянием, а победа герцога Веллингтона и Блюхера, представлявших монархов Европы, — триумфом status quo. Безусловно, яркие обещания первых лет правления Наполеона вселяли большие надежды в тех немногих интеллектуалов, которые понимали, что постоянное деление Европы на массу суверенных государств может привести только к окончательной катастрофе. Но лишь немногие люди способны, обладая громадной властью, все же сохранять в себе гуманизм и уважение к другим народам. Наполеон подобным человеком не был. Для своих современников он был либо демоном, либо полубогом. Он так возвышался над своей эпохой, влияние его на нее было столь сильным, а перевороты в обществе, которое он привел в движение, столь кардинальными, что никто не мог оставаться нейтральным в своем отношении к нему. Для одних он был воплощением мудрости и славы, и умереть за него почиталось честью. Для других он был Антихристом, и они страстно желали ввергнуть его в геенну огненную. Победы его превратились в легенду; военные кампании его сеяли смерть и разрушение по всему континенту, а грабежи и насилия его солдат сделали французов объектом проклятий и ненависти всей Европы. И все же, в соответствии со свойствами человеческой природы, по прошествии времени все ужасы наполеоновского нашествия забылись, и в памяти людской осталась только слава великого полководца, сверкающие золотом «орлы», боевые подвиги ветеранов императорской гвардии, начинавших свой воинский путь под знаменами свободы. Военная история XIX века представляет собой процесс постепенного исчезновения небольших армий с их безликим профессионализмом, состоящих из солдат, служивших в них почти всю свою жизнь, и замены их свободной вербовкой и всеобщей воинской повинностью. Из вооруженных граждан, вырванных из своей обычной апатии и ввергнутых в гущу сражения, не будучи как следует к нему подготовленными, не получались хорошие солдаты. Однако если такому человеку случалось попасть под командование достойных военачальников и компетентных командиров, если у него было время проникнуться кастовым духом и получить практический опыт боев, то из него мог получиться вполне удовлетворительный воин. Именно из такого исходного материала и вышли те воины, которые сражались в великих войнах первой половины XX века. Естественно, среди миллионных армий разных стран невозможно сделать выбор и назвать солдат той или другой страны в качестве олицетворения идеального воина. И потому, что многие прекрасные солдаты и многие военные подвиги были совершенно забыты, автор и обратился к написанию следующих глав, чтобы хотя бы в малой степени отдать им должное и восстановить историческую справедливость. Примечания:2 Берсеркер (берсерк) — викинг, посвятивший себя богу Одину, перед битвой приводивший себя в ярость. В сражении отличался большой силой, быстрой реакцией, нечувствительностью к боли, безумием. 3 Тинг — народное собрание у скандинавов в Средние века. 28 Грибоваль — французский артиллерист, усовершенствования и преобразования которого в артиллерии составляют эпоху в истории развития этого оружия. 29 Директория — правительство Французской республики, существовавшее с 4 ноября 1795 до 10 ноября 1799 г. Состояло из 5 членов (директоров), избиравшихся Советом пятисот и Советом старейшин. Выражало интересы крупной буржуазии. 30 Прейсиш-Эйлау — город в Восточной Пруссии. Здесь, в генеральном сражении 26–27 января 1807 г., русские войска успешно отразили атаки наполеоновских войск, однако не смогли нанести им поражение. 31 Бонапарт Жером — король Вестфалии, младший брат Наполеона I Бонапарта. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
