|
||||
|
|
II. Викинги в Скандинавии
1. Европейский север во второй половине I тыс. н. э В первой половине I тыс. н. э. Скандинавия была периферийной областью мира германских культур римского времени, уходящих корнями в середину I тыс. до н. э., к ясторфской культуре Северной Германии и Дании [409, с. 21]. На протяжении тысячи лет в недрах этого мира шло постепенное и неуклонное формирование германской этнической общности, северную ветвь которой составили скандинавы. Основой хозяйства было пашенное земледелие и скотоводство. Население сосредоточивалось в наиболее благоприятных ландшафтах Южной и Средней Швеции (Вестеръётланд, Эстеръётланд, Упланд), юго-западной Норвегии, побережья Ютландии, осваивало датские острова, а также Эланд и Готланд на Балтике. В середине I тыс. н. э., после некоторых колебаний в заселенности, связанных с миграциями II–IV вв., и возможно, объясняющихся кризисом интенсивного земледельчески-скотоводческого хозяйства [320, с. 380–432; 246, с. 79–91], меняется система расселения [300, с. 47–55; 378, с. 61–66; 361, с. 43–47; 400, с. 10; 363, с. 213–214; 45, с. 231]. Прежние деревни, многодворные поселения первых веков нашей эры сменяют обособленные большие дворы хуторского типа. Складывается экономика этих хозяйств, с населением около 50-100 человек, ставшая характерной затем для Севера на протяжении ряда столетий: большой удельный вес скотоводства (стойловое содержание скота — зимой, выпас на горных и луговых пастбищах — летом); единообразная структура посевных культур (устойчивое преобладание ячменя, постепенное распространение ржи и пшеницы, отсутствие проса — обычного для хозяйств Средней Европы); аграрная деятельность со значительным дополнением охотой, рыболовством, морским промыслом, добычей и обработкой металла, соли [376, с. 16; 323, с. 157; 396, с. 14–16; 395; 272, с. 29; 300, с. 283–285]. Технической базой этой экономики стали распространившиеся с VI в. железные хозяйственные орудия: рабочие части плуга, мотыги, лопаты, представленные в сериях погребений и кладов VII–VIII вв. В это время появляются серпы, косы-горбуши, ротационные жернова [300, с. 94–104; 154, с. 44–47]. Социальной базой северного «комплексного хозяйства» был «одаль» — неотчуждаемое наследственное владение большой семьи, домовой общины, состоявшее из усадьбы и прилегающих к ней пашен, лугов, лесных участков, водных угодий [44, с. 70–96]. По размерам и структуре одаль отличен и от земельных наделов, археологически засвидетельствованных у германцев в начале нашей эры, и от синхронного крестьянского аллода па континенте [300, с. 94–104; 154, с. 44–47]. Перестройка социально-экономических институтов, по-видимому, произошла в середине I тыс. после переселения части избыточного населения, выразившегося в движениях готов, гепидов, герулов — из южной Скандинавии, англов и ютов — из Ютландии, что и проявилось в колебаниях заселенности этих областей [363, с. 160–172; 409, с. 81]. Эти переселения способствовали установлению более прочных связей с континентом. Мигранты сохраняли какие-то связи с соплеменниками на родине: так, около 512 г. в южную Швецию вернулась часть герулов [Procop., VI, 15]. Поток римских импортов, который в I–V вв. был представлен монетным серебром, в кладах насчитывающих до 1500 монет (Синдарве, Готланд), бронзовыми сосудами (около 700 находок), стеклом (свыше 260 находок), в конце римского периода наполняется золотом [401, с. 274–295, 332–333]. Начинается «золотой век Севера» (вторая половина V–VI вв.). В нескольких десятках кладов Готланда, Элаида, Борнхольма найдено свыше 700 восточно— и западноримских золотых монет — солидов (чеканка которых началась после 395 г.). Наиболее ранние клады сосредоточены на Эланде (450–490 гг.), клады Борнхольма зарыты между 475–525 гг., клады Готланда датируются 500–560 гг. Ранние вещи дунайско-фракийского круга, например гривна из Бурахус, указывают на связи с восточноримскими провинциями (где к этому времени относится знаменитое «сокровище готов», золотой клад в Петроасе) [368]. Основным источником поступления золота на Север были дани, добыча, выкупы, полученные германцами в ходе готских, гуннских, лангобардских войн с Империей. Захваченное золото дошло до нас главным образом в виде массивных изделий местного ремесла: спиральных колец, витых браслетов, шейных гривен Они известны как по одиночным находкам, так и в составе кладов, достигающих веса 12 кг золота (Турехольм, Сёдерманланд). Наиболее эффектные шарнирные воротничковые гривны из Ханненов (Фюнен), Оллеберга и Мене (Вестеръёталанд), Фьерестадена (Эланд) богато украшены в раннем германском «зверином стиле» [231, с. 16–17]. Процесс переработки драгоценных изделий местными мастерами, создания нового мира образов и форм отразился в эволюции северных брактеатов, возникших в подражание западноримским медальонам IV в. [359]. Около 400 г появляются местные медальоны группы А (по Моптелиусу) с профильным изображением, заключенным в концентрические орнаментальные зоны; композиция и сюжет этих брактеатов напоминают латинские образцы. Брактеаты группы С — сложившийся местный тип и образ. Римский кесарь преображен в скандинавское божество, аса: профиль мужчины со вздыбленными волосами, выкатившимися глазами, энергично сжатым ртом (напоминающий образы кельтского искусства) высится над фигурой скачущего животного с рогами и козлиной бородой: можно угадать в нем древнесеверного бога-громовержца Тора с его козлами. На этих брактеатах встречаются рунические надписи: «Хьяльд начертал для Кунимунда руны на вельском жите» (римском золоте) (Чюркё, Блекинге); «Вигар, герул, сделал этот оберег» (Фьорес, Халланд). Последняя надпись перекликается с известием Прокопия о возвращении герулов. Руны, асы, магическая сила золота — этот круг представлений вводит нас в мир скандинавской мифологии и эпоса, песен «Эдды». Большинство кладов — сакрального характера, продолжающих древнюю северную традицию. Многие из драгоценных вещей связаны с традиционными германскими святилищами, продолжавшими функционировать (Хавур на Готланде, Вимозе, Торсбьерг, Нюдам, Иллеруп, Порскер в Дании, Шеруп в Сконе, Шедемоссе на Эланде и многие другие). Вокруг этих центров, расположенных обычно посреди сгустка поселений и могильников [401, с. 257, 278, 333; 300, с. 288–290; 409, с. 195, 322], объединялись культовые союзы, которые со времен Тацита, если не раньше, были у германцев, видимо, ведущей формой социально-политической организации [321, с. 106–107]. Архаический пласт верований сохранялся на Севере по крайней мере до V в. н. э. [160, с. 14]. Итак, в области и экономики, и идеология V век был переходным временем. Комплексное хозяйство одаля, как и эддическая религия, характерные для эпохи викингов, уже как будто складывались; но они сосуществовали с более архаичным укладом, постепенно вызревая в его недрах. Яркие новые явления — клады золота, каменные общинные укрепления, звериная орнаментика (I стиль, по Салину [384]) рождались словно на столкновении традиций, восходящих к раннему железному веку, и тенденций, уводящих в средневековье. Первым, ближайшим следствием этих тенденций, общего подъема хозяйства, притока заморских ценностей, было укрепление и расцвет традиционного племенного строя. Один из его центров, может быть, крупнейший, возник в Упланде (Средняя Швеция). Это — Старая Упсала, с VI по XI в. главный храм Одина, Тора и Фрейра, резиденция королевского рода конунгов племени свеев. По преданию, здесь правила восходящая к главе богов Одину династия Инглингов, от которой происходили все «легитимные генеалогии» конунгов Швеции, Норвегии и Дании IX–XI вв. Храм и его идолы, священная роща, обряды и жертвоприношения в Упсале известны по описанию Адама Бременского, составленному около 1070 г. [Adam, IV, 27]. Ко временам легендарных Инглингов относятся «Великие курганы» Упсалы, самые знаменитые из серии монументальных насыпей, сооруженных в Средней Швеции в эпоху Великого переселения народов и последующие столетия [401, с. 349–353]. Три кургана, расположенные цепочкой к юго-западу от упсальского святилища, однотипны по устройству и погребальному обряду. На естественном возвышении устраивалась площадка, перекрытая слоем глины и служившая местом кремации; среди вещей, уничтоженных в пламени костра — драгоценное оружие (золото с гранатовой инкрустацией), парча, стекло; в составе жертвоприношений — кости собаки, лошади, быка, свиньи, овцы, а также кошки и петуха (петух Сальгофнир будит эйнхериев в Вальхалле, дворце Одина; кошка — священное животное Фрейи, его жены; собака сопровождает всадника в Вальхаллу на изображениях готландских стел VIII–XI вв.). Остатки сожжения помещали в глиняную урну или сгребали в кучку на кострище. Над погребением сооружали каменную насыпь высотой 1–2,5 м, а затем насыпали земляной курган (самый высокий из них, западный в Упсале, достигал 12 м). Эпическая традиция связывает курганы Упсалы с конунгами племени свеев Ауном, Эгилем и Адильсом. Сын Эгиля Оттар (упомянутый в «Беовульфе») погребен, по преданию, близ Венделя в кургане Оттарсхёген. Курган раскопан [351]. По обряду он близок упсальским, среди вещей — золотой солид Василиска (476–477 гг.). Курган Оттара датируется временем около "500 г.; для остальных «курганов Инглингов» предлагались различные датировки; наиболее вероятные из них — в интервале 500–550 гг. [259]. В погребальном обряде упсальских курганов черты ритуала, типичные для Средней Швеции, гиперболизированы до монументальности: «Великие курганы» выделяются и размерами, и конструкцией (требовавшей большого труда), и роскошью погребального инвентаря, и обилием жертв. Безусловно, Упсала в VI в. была центром довольно крупного объединения, в «Великих курганах» погребены, видимо, конунги свеев, вожди, возглавлявшие сложившийся к середине I тыс. н. э. союз племён. Среднешведское племенное объединение, реальная, а не эпическая «Держава Инглингов», представляло собою высшую ступень развития традиционного племенного строя, основы которого у германцев зафиксированы еще" на рубеже нашей эры, а закат наступал в середине I тысячелетия. К этому времени традиционные институты, власть королей-жрецов достигла небывалой мощи. Упсальские курганы воплощали тот же идеал конунга, выражая его в погребальном обряде, в величественности монументальных насыпей, что и строфы «Эдды»; Будешь велик([Пророчество Грипира, 7]) Не только хронология событий (гибель бургундского королевства на Рейне в 437 г.) сближает по времени эпос и «древности Инглингов». Песни «Эдды» пронизаны тем же мироощущением, которое запечатлели эти древности. Мир сверкающих золотых колец, гривен и браслетов, кроваво-красного оружия с гранатовыми инкрустациями, величественных королевских курганов создавал этот эпос. Только современник Инглингов Упсалы мог воскликнуть: Не знаю я золота([Гренландская песнь об Атли, 6, 7]) В середине I тыс. Север создал эпос, клады золота и звериный стиль, «Великие курганы». Сформировалась законченная и завершенная общественная структура, которая казалась вечной, как мир эпической героини: Брюнхильд в покоях([Плач Оддрун, 17]) Но в этом мире зрели уже силы, готовые взорвать его изнутри. В «Песне о Хлёде», одной из ранних в «Эдде», молодой герой вступает в спор с конунгом: Я хочу половину Конунг отвечает: Скорее расколется([Песнь о Хлёде, 7–9]) Копья столкнулись, и воины пали. Согласно эпической традиции, переданной в «Хеймскрингле», династия Инглингов пресеклась в годину кровавых распрей. Эти обобщенные и отрывочные сведения не противоречат общему впечатлению, которое оставляет археологический материал: довольно единодушно археологи пишут о «цезуре», разрыве в древностях после 550 г.: нет кладов золота, прекращается развитие I звериного стиля (лишь на рубеже VI–VII вв. возникает II стиль); распространяются укрепленные поселения (в пределах бывшей «Державы Инглингов» их насчитывается около 700 — в Средней Швеции, Эстеръётланде, на Готланде и Эланде) [396, с. 213–215; 323, с. 120–121; 343, с. 147–148; 401, с. 355–356]. «Золотой век» Севера заканчивается трагическим финалом. Однако несмотря на гибель многих поселений в огне внутренних войн, запустения не происходит. В третьей четверти I тыс. плотность населения в освоенных областях Скандинавии возрастает. К VII–VIII вв. лингвисты относят обособление норманнов от германской языковой общности. Именно в это время распространяются два важнейших технических новшества: железный лемех плуга, и прямоугольный парус на килевых судах. Экономика одаля обретает прочную основу и дальнюю перспективу. Два столетия, непосредственно предшествующие эпохе викингов, в Швеции называют вендельским периодом (550–800). Среднешведские памятники (иногда выделяемые в «вендельскую культуру»), однако, лишь в концентрированной и яркой форме выразили тенденции, общие для всех скандинавских стран в период, который в Норвегии называют «меровингским», в Дании — «германским временем» [355, с. 10; 349, с. 20; 390; 300]. Резко возрастает экономический потенциал хуторских хозяйств. Социальной основой их остается объединение родственников, принимающее облик «домовой общины» [47, с. 15–18]. Родовые отношения внутри основного производственного коллектива естественным продолжением имели родовые отношения вне его: народное собрание, тинг у скандинавов выступает прежде всего как коллективный орган родовых союзов. Отношения родовой иерархии пронизывали все сферы жизни скандинавов: экономической (право выкупа земли сородичами), социальной (кровная месть, вооруженная полицейская поддержка) идеологической (общие культы). Союзы родичей решали исходы тинга еще в Исландии XI в. [Сага о Ньяле, 134–146]. Вплоть до эпохи викингов народное собрание не имело иных внеродовых форм социальной организации, прежде всего — организации военной. Периодически, по мере надобности созывавшееся ополчение было механическим соединением сил родовых союзов, пронизывалось отношениями родовой иерархии, и его использование для целей, не совпадающих с целями родовых предводителей — невозможно. Мы не знаем в вендельский период военачальников-"херсиров" эпохи викингов, опирающихся на обособленную от родовых союзов дружину. Имущественная дифференциация, естественная в условиях экономического подъема, неизбежно принимала форму дифференциации родовой, выделения знатных, богатых и могущественных родов. Их главенствующее положение определялось прежде всего отношениями родовой иерархии и, в свою очередь, давало им несомненное преимущество в укреплении своей экономической и политической мощи. Во главе этой иерархии в конце VI — начале VII в. оказались, видимо, сменившие вождей крупных племенных союзов, легендарных Инглингов, «малые конунги» — smakonungr [Olafs saga ins helga, 78–80]. Новые тенденции экономического и социального развития в VII–VIII вв. наиболее отчетливо проявились в центральной области Средней Швеции — Упланде. Здесь, на оз. Мелар появляется первое поселение устойчивого неаграрного характера, с отчетливо выраженными ремесленно-торговыми функциями. Оно возникло на о. Хельгё («Святом острове»), заселенном с III в. по X — начало XI в. Неаграрный характер Хельгё приобретает в середине I тыс. Судя по составу импортов, поселение уже в VII в. было включено в систему связей, охватывавшую практически весь европейский континент и выходившую за его пределы; в то же время стабильными и интенсивными были отношения с соседними внутрискандинавскими областями: из Норрланда и Смоланда ввозилось железо, из Скоие и Норрланда — шлифовальные камни; Хельгё опиралось на густо заселенную и хорошо организованную округу [330; 331, с. 23–24]. В этой округе начиная с рубежа VI–II вв. распространяется новый вид погребальных памятников: могильники с ингумациями в ладье. Этот обряд бытовал до середины XI в. Всего в Швеции известно около полусотни таких погребении, в основном они сосредоточены в Упланде [404; 349; 276; 268406; 399, с. 610–618]. Уже в первых по времени упландских комплексах новый ритуал представлен в сложившемся виде и остается неизменным на протяжении всего вендельского периода. К VII–III вв. в Упланде относится 12 датированных могил, из них 10 — полностью опубликованы. За пределами Упланда достоверно датируются вендельским периодом лишь могилы в Аугерум [Блекинге] и Набберор [Эланд]. В Упланде ингумации в ладье составляли в VII–III вв. небольшие замкнутые кладбища. В могилах вендельского времени на полностью раскопанных кладбищах Вендель и Вальсъерде похоронены только мужчины. Погребения женщин в ладье появились в Средней Швеции только в эпоху викингов [403; 404; 285; 277; 362, с. 104]. В каждом могильнике этого круга на одно поколение приходилось по одному мужскому захоронению в ладье. От рядовых могил эти погребения отличались пышным и сложным ритуалом. Покойника укладывали (или усаживали) в кормовой части ладьи, рядом с ним в определенном порядке складывали парадное оружие, в средней части ладьи, в ларцах или на скамьях — остальные вещи. Вдоль бортов и у форштевня ладьи хоронили жертвенных животных (от 3 до 17 голов скота, а иногда и соколов). В каждом погребении найдены обязательные наборы вещей: роскошное парадное оружие, пиршественная посуда, орудия труда, парадная конская сбруя. Графическая корреляция археологических признаков погребального обряда позволяет выделить «вендельский тип» погребений (Vt): мужские ингумации в ладье, в грунтовых могилах, с парадным вооружением, пиршественными и кузнечными наборами, верховыми лошадьми и большим количеством жертвенных животных [106, с. 155–180], Этот тип обряда надежно зафиксирован не ранее 570–600 гг… [276, с. 70–72; 287, с. 64; 273, с. 30]. Он резко отличен от традиционного для Средней Швеции обряда кремации, с захоронением под курганной насыпью. Погребения вендельского типа занимают совершенно особое место во всей совокупности погребальных обрядов Скандинавии VII–VIII вв. К этому времени обычай ингумации мертвых широко распространился в южной части Скандинавии (Ютландия, Зеландия, Вендсиссель, Борнхольм Эланд, Готланд, Сконе), нигде однако не вытеснив полностью обычая кремации (в Средней Швеции остававшегося господствовавшим) [298, с. 82–216; 300, с. 282–312; 406, 38–47; 398, с. 30–91; 399, с. 602–610; 390, с. 109–168]. Чрезвычайно однороден инвентарь погребений (в мужских могилах — детали одежды, иногда — фибулы, бытовые вещи, привешенные к поясу — ножи, оселки, отдельные предметы вооружения; в женских — наборы украшений; две фибулы на плечах, третья — на груди, ожерелья, подвески, булавки, и привешенные к поясу игольники, ключи, ножи). Эти вещи найдены в погребениях с различными способами захоронения (кремация — ингумация), и разнообразными погребальными конструкциями (курганы, каменные оградки-от прямоугольных до ладьевидных, намогильные стелы — поминальные камни, bautastenar); они представляют собой развитие местных, племенных традиций, как правило, зафиксированных на каждой из территорий еще в раннем железном веке. Картина осложняется, правда, общескандинавским процессом постепенного распространения с юга па север обычая ингумации мертвых, а также различными взаимными влияниями, естественными в условиях соседства. Однако для каждой области можно выделить особый, только ей присущий, или ведущий, тип могил (в Средней Швеции — урновые сожжения под невысоким курганом, в Сконе — «могилы с очагами» и т. д.). В то же время другие встречающиеся здесь варианты обряда имеют точные соответствия в соседних областях (так, в Сконе из Норвегии проникает традиция каменных оградок, из Средней Швеции — обычай возводить курганы, и пр.). Пестрота обряда объясняется, во-первых, различием древних племенных традиций, во-вторых, их взаимодействием. Социальная структура, стоящая за всеми этими вариантами — сравнительно однородна. Различия в оснащении могил (от мужских погребений с отдельными предметами вооружения, и женских — с ключами, до безынвентарных) не выходят за пределы различий внутри большесемейных домовых общин. Общество, зафиксированное «ансамблем некрополя» Скандинавии VII–VIII вв., состояло из таких, в общем, равноценных больших семей, объединенных в родовые союзы [110, с. 24–30]. Нет никаких признаков выделения более или менее широких общественных групп, не вписывающихся в эту структуру. Упландские ингумации в ладье вендельского типа на этом фоне выступают как погребальный обряд немногочисленной, но господствующей социальной группы. Замкнутые, состоящие только из погребений вендельского типа кладбища — это династические могильники местных вождей. Социальные функции вендельских династов, новым по характеру обрядом противопоставленных основной массе общинников, обрисовываются с достаточной полнотой. Наборы защитного и наступательного оружия, вероятнее всего, связаны с руководством военной организацией, ополчением. Вендельские мечи, копья, щиты, шлемы отделаны с исключительной пышностью и великолепием [283]. Особенно показательны шлемы. Их конструкция восходит к поздним восточноримским образцам [260, с. 158–166], а декор связан с сюжетами скандинавской мифологии или эпоса [288]; при этом изображенные на чеканных бронзовых позолоченных пластинах божества или герои вооружены, снаряжены и одеты точно так, как (если судить по инвентарю погребений) носители этих шлемов — вендельские династы. Торжественное, парадное вооружение и конская сбруя вряд ли предназначались для боя. Скорее, они служили для церемониальных выездов и ритуалов, связанных с регулярными сборами народного ополчения, которые совпадали как с религиозными праздниками, так и с собраниями тингов. Стрелы (без луков, но связками до полутора десятков), как и остальное оружие, следует рассматривать как символы власти (посылая стрелу, скандинавские конунги собирали ополчение и тинг [215, с. 307]). Пиршественные наборы в погребениях также, видимо, маркируют некие административные функции: в варварском обществе пир, начальная форма норвежской «вейцлы» или шведского «ёрда», был важной формой социальной связи вождя с подвластными ему общинниками [47, с. 30–31; 234, с. 76]. Пир одновременно выполнял и ритуальные функции. Гривна с привесками — «молоточками Тора», найденная в одном из погребений Вальсъерде вместе с кузнечным набором (древнейшая в Швеции) [285, I, t. 36], возможно указывает на особую роль вендельских династов в сфере культа: в упсальском храме идол громовержца, покровителя кузнецов Тора, занимал центральное место, между Одином и Фрейром. Концентрация в могилах вендельского типа импортов и роскошных ремесленных изделий (посуда, оружие, сбруя) указывают на монополию внешней торговли. Продукция местного и зарубежного ремесла, представленная в синхронных материалах Хельгё, поступая через этот и, может быть, другие подобные центры, сосредотачивалась в распоряжении вендельской знати. Ее особое экономическое положение подчеркивает и обилие скота в могилах — с гомеровских времен характерная черта родовой аристократии на раннем этапе ее возвышения. Для определения социальных функций вендельских династий исключительную ценность представляют наблюдения о связи между могильниками вендельского типа, и поселениями с топонимами на — tъn («ограда», «укрепление», ср. слав, «тын»); эти локальные центры ремесленно-торговой активности по средневековым источникам известны как административные центры территориальных округов Средней Швеции, хундаров [311, с. 47; 354, с. 37; 286, с. 34–35]. Среднешведский hundar, также как harad в Гаутланде, генетически — «сотенный округ» (bar — «войско», hund — «сотня»), т. е. организационная единица военно-демократического ополчения. Каждый такой округ выставлял сотню воинов. В эпоху викингов на основе этих ополчений (выставлявшихся первоначально родовыми союзами) формируется общенародное ополчение, ледунг, в XI–XII вв. приобретающий характер своего рода государственной повинности; «коммутация ледунга», замена службы в ополчении денежным налогом, и в Швеции, и в Норвегии, и в Дании стала одним из проявлений феодализации и обусловила сохранение этой территориально-административной системы в эпоху средневековья [48, с. 173]. Выросшая па родовой основе система территориальных округов, возглавленных династиями местной знати, пришла в VII–VIII вв. на смену централизованной племенной организации V–VI вв., с королями-жрецами во главе. Сходные территориальные структуры в более раннее время археологически фиксируются в Дании, а в более позднее время по письменным источникам известны в Норвегии (где до конца IX в. существовали независимые мелкие королевства-фюльки) [409, с. 194–197; 47, с. 93]. В одном из норвежских фюльков, Рогаланде [390, с. 220, 223], исследован курган VIII в. с погребением в корабле (Гуннарсхауг), хронологически предшествующим знаменитым «королевским курганам» Вестфольдингов (Усеберг, Гокстад, Туне); норвежский обряд, в эпоху викингов ставший привилегией высшей знати, генетически, по-видимому, связан со шведскими погребениями вендельского типа. Знать, возглавившая возникшие в VII–VIII вв. локальные объединения, не только сосредоточила в своих руках небывалую экономическую, политическую, идеологическую власть, но и создавала адекватные этой власти новые формы культуры. До нас дошли наиболее яркие ее проявления в художественном ремесле («вендельский стиль» [284]), ювелирном производстве, основывающемся на англосаксонской и франкской технологии (золото с гранатовыми инкрустациями в перегородчатой технике [280, с. 186–193]). Погребальный обряд вендельского типа относится к явлениям того же порядка, но генезис его остается неясным [362, с. 192–203]. Истоки вендельской традиции не удается опознать в немногочисленных ингумациях в ладье более раннего времени (Слусегорд на Борнхольме, Конгсхауг в Мере, Норвегия) [305, с. 213–239; 294, с. 175–194]. Наибольшее сходство вендельские погребения имеют с англосаксонскими курганами в Саттон-Ху и Снэп. Первый из них, с кораблем, погребальной камерой, оружием, королевскими регалиями, золотыми монетами и прочим исключительно богатым инвентарем, датируется не позднее 625–630 гг. [302; 312, с. 103–104]. Обычно английские памятники рассматривают как производные от среднешведских; однако детальный анализ основных компонентов культурного комплекса, представленного в Саттон-Ху и памятниках «вендельской культуры» позволяет в ряде аспектов допустить если не независимое развитие, то, по крайней мере, опору на некий общий, континентальный источник [414, с. 212–218]. В этом случае показательно, что англосаксонская традиция рано возникает, и рано обрывается по сравнению со шведской; но при этом она представлена намного более яркими и насыщенными образцами. В это время был создан «Беовульф», англосаксонский эпос, связь которого с памятниками круга Саттон-Ху не вызывает сомнений [301, с. 85–98]. Содержание эпоса между тем полностью связано со скандинавскими странами, с племенами гаутов и данов, свеев и ютов; здесь упоминается Оттар, конунг из рода Инглингов, похороненный в кургане близ Венделя; повествуется о кровавых межплеменных распрях, о междоусобицах в королевском роде свеев [Беовульф, 2922–3000, 2379–2399]. Осведомленность английских дружинных сказителей в скандинавских делах может свидетельствовать о направленности культурных, а может быть и политических импульсов в Северной Европе начала VII в. После цезуры, сбоя в развитии культуры Скандинавии, вызванной распадом племенного строя «державы Инглингов», выдвинувшаяся на ведущие социальные роли местная свейская племенная знать в своих новых культурных нормах могла ориентироваться на стереотипы, складывающиеся в среде близкой знати англосаксонской, — где, однако, эти стереотипы были быстро вытеснены христианской церковной культурой. Можно допустить, что одной из таких норм, заимствованных у англосаксов, стал богатый «королевский» антураж «кораблей мертвецов». Дальнейшая эволюция этого обряда выявляет глубокий кризис социальных позиций вендельской знати [106, с. 169]. Ингумации в ладье эпохи викингов (тип обряда Bg) отличаются от могил вендельского типа отсутствием роскошного парадного оружия и сбруи, жертвенных животных (кроме лошадей и собак), резко сокращается количество погребальных приношений. Из кризиса, прервавшего в IX в. развитие ритуальных традиций, вендельская знать вышла лишь в X в., утратив свое господствующее положение: из могил исчезли важнейшие атрибуты власти и могущества. В то же время внутренняя консолидация знатных родов проявилась, возможно, в том, что родовитым женщинам в эпоху викингов воздавали не меньшие почести, чем мужчинам: появляются женские ингумации в ладье, которые можно сопоставить с рассказом о погребении Унн Мудрой [Сага о людях из Лаксдаля, 7]. Видоизмененный обряд типа Bg перестал быть монополией вендельской знати. Сходные погребения появляются в Вестманланде, в Трендалаге, Согне, Хордаланде, Мере, распространяясь из Швеции в Норвегию [362, с. 162–180]; одновременно здесь появляются подкурганные ингумации в ладье (тип Nt). В Средней Швеции наряду с ингумациями возникает новый, сравнительно широко распространившийся обряд [105, с. 185–190] — сожжения в ладье под курганной насыпью (тип Birka — В]. По ряду признаков ритуал этих погребений близок поздним формам погребального обряда вендельской знати. Изменения в ансамбле некрополя, деградация элитарного и появление новых, сравнительно массовых вариантов обычая захоронения в ладье, отражают определенную социальную динамику: выдвижение новых общественных групп, конституированных новыми типами обряда, связано с упадком могущества и власти родоплеменной знати. Можно предполагать, что возвышение этой знати в VII–VIII вв. сопровождалось нарастанием внутренних противоречий между родоплеменной верхушкой, и свободными общинниками. Косвенным показателем такого противоречия были медленная мирная экспансия, эмиграция населения из Норвегии на острова Северной Атлантики [334, с. 51] и начавшееся в VI–VII вв. движение шведов на Аландские острова и восточный берег Ботнического залива. Эта эмиграция продолжалась на протяжении всего VII–VIII в., и к концу вендельского периода ее возможности, фонды безлюдных и слабозаселенных земель на островах и побережьях были исчерпаны. Именно в среде шведских поселенцев на Аландах появились самые ранние сожжения в ладье. В наиболее изученном могильнике Кварнбаккен 2 кургана с обрядом типа В относятся к VII в., 4 датированы VII–VIII в., 1 — VIII в., 6 комплексов рубежа VIII–IX вв., 6 — эпохи викингов. Серия сожжений в ладье открыта на финляндском побережье [314; 362, с. 56–58, 151–152]. Новый обряд, выработанный за пределами сферы гегемонии вендельской знати, с начала IX в. широко распространяется в материковой Швеции, а затем — и за ее пределами; аналогичные процессы прослеживаются и в других районах Скандинавии. С ними связана существенная и глубокая перестройка общественной структуры. Вендельский период окончился. Наступила эпоха викингов. 2. Общество эпохи викингов: бонды Исходное звено общественной системы Скандинавии IX–XI вв. — унаследованный от предшествующих столетий родовой коллектив, aett (шв. kind, kyn), союз родичей, объединяющий (если буквально следовать «Эдде» Снорри Стурлусона) всю генеалогическую протяженность мужских родственников. Прежде всего сюда входили кровные законные родственники (люди, рожденные в юридически нормативном браке), когда род (aett) невесты получал за ее приданое денежный выкуп — mund. Потомки от такого брака назывались aettborinn и вместе с принадлежностью к роду наследовали всю совокупность родовых прав. Кроме прямых, кровных, потомков в. состав aett входили люди, введенные в род, acttleidiigr, принятые в число членов клана с соблюдением особой ритуальной процедуры, которая давала право till gialls ос til giavar — На деньги и дары till sess ос til saetes — на место и сиденье til bota oc til bauga — на платы и кольца til allz rettar — на все права (G. 58) — [Законы Гулатинга, 58] Полный круг располагавших всей этой совокупностью прав членов клана выражало понятие fraendr (franta, frinta) — «родичи» [72, с. 101–105]. Самым существенным правом, сплачивавшим воедино всех членов aett, было право-обязанность отстаивать и защищать жизнь каждого из родичей, или мстить, или получать плату, законную виру за эту жизнь от убийцы и его рода [53, с. 47, 184]. Ядро клана составляли те, кто в средневековых судебниках назывался bauggilldsmenn — «люди, получающие (или платящие!) кольца (золота) = возмещение». Родовым правом на возмещение обладали также более отдаленные родичи. В «Законах Фростатинга» они обозначены как nefgilldismenn — «получающие деньги родичей» (от nefi — «родственник»). Сходным термином (от nef — «нос») называлась nefgilldi — «подать с носа», налог, по преданию введенный Одином, а в государственной практике утвердившийся во времена Харальда Прекрасноволосого. Не только расчеты с другими родовыми союзами, но и — позднее — выплаты государству, подати, налоги и дани конунгам распределялись более или менее в соответствии с родовой иерархией; baugar в Норвегии (как и аналогичные платежи в Англии) были не просто вирой, но, в более широком смысле, штрафом за различные тяжкие преступления, который взимался в пользу короля. Родовой коллектив, объединявший родичей совокупностью взаимных прав и обязанностей, обеспечивающих существование каждого из сородичей til brannz ос til bals — «до огня и костра» [G. 239], то есть до посмертного сожжения, базировался на глубоких, уходящих корнями в первобытность основаниях (генетически, видимо, хозяйственного характера). В позднем железном веке экономическая исходная общность в значительной мере трансформировалась; в сфере непосредственного материального производства ее значение снижается, но в характере обитания, внутригрупповых, межличностных и межгрупповых отношениях родовые связи остаются определяющими. Ими задана вся базирующаяся на aett общественная структура, по отношению к которой род, клан выступают как субсистема. «Двор» — hus, gar?r, bu, bo — («усадьба», «ограда») был основной единицей измерения социальной общности. Она включала семью (в норме — большую, разрастающуюся в патронимную иерархию малых), состоящую из кровных родственников (бонда, мужа — maid, его жены — kona, сыновей — sonar и дочерей — dottir), а также домочадцев и рабов, huskarlar ok thraclar. Все они в пределах ограды имели право на fri?helgi — неприкосновенность, священный домашний мир. Дом (bus), находившийся под покровительством богов и под защитой родичей, гарантировал безопасность: «at frjalser menn sculo aller fri?halger at heimile sino» — «все свободные люди должны быть неприкосновенны в жилищах своих» [F, IV, 5]. Залогом единства родичей, обеспечивавшего их неприкосновенность, было неотчуждаемое, священное, как и дом и домашний мир, родовое земельное владение — o?al (одаль). Занимая землю в не освоенных еще местностях, переселенцы обносили границы участка огнем; это называлось helga ser landit — «освятить землю», сделать ее своей собственностью (eign). Перейдя по наследству в течение четырех поколений, такая собственность превращалась в одаль. Одаль представлял собою наследственное владение, состоявшее из пахотных земель, луговых, пастбищных, лесных, водных и других угодий, которое, в принципе, находилось в нераздельной собственности aett. Даже в случаях временного раздела пашен в целях их посемейной обработки (hafnscipti) одаль оставался одалем, и находился в коллективном владении fraen?r, baugarmenn. Для окончательного раздела требовалась особая юридическая процедура o?alsskipti, с ритуальным действием skeyting сбрасывания земли в полу одежды (skaut) нового владельца. От этого обряда некоторые исследователи производят прозвище конунга шведов Олава Шетконунга (Scautkonungr); правда, не связывая его прямо с разложением родовой земельной собственности [88, с. 90–92]. Fastae faethaerni ok aldac othal — «прочная отчина и старый одаль» — оставались основой структуры землевладения в Швеции вплоть до XIII–XIV вв. [89, с. 79]. Несколько раньше эта структура сдала позиции перед надвигающимся новым порядком землепользования в Дании [77, с. 27–28]. Детальная кодификация прав, связанных с одалем, в средневековых судебниках Норвегии свидетельствует, что до XIII–XIV вв. он оставался социальной реальностью, связывая землевладение феодального средневековья непрерывной цепью владельцев с дофеодальными временами [53, с. 68]. Правом на родовое владение располагали o?alnautar, кровные родичи, круг которых совпадал с bauggilldsmenn: сюда входили ближайшие родственники трех поколений по мужской линии, которые в отдаленном прошлом, видимо, являлись членами одной патриархальной семьи, и вели в силу этого одно совместное хозяйство [44, с. 73]. В эпоху викингов они, как правило, уже экономически разобщены; однако именно им принадлежит преимущественное право на покупку, и даже выкуп (в случае продажи) наследственной земли [G. 276, 277, 287, 289, 293]; право выкупа земли — jar?arbryg? — было закреплено внутри рода [F. XII, 8; цит. по: 72, с. 71–73]. Являясь одним из коллективных совладельцев одаля, каждый из этих полноправных общинников мог рано или поздно претендовать на титул landsdrottinn — «господин земли», «хозяин», полноправный бонд. Имущественное состояние такого бонда определялось понятием eign — «собственность»; eignar buanda, противопоставленная общинным владениям (almenningr), пастбищам, лугам, лесам, водам, находившимся в общесоседском пользовании [F. XIV, 7], была значительно шире понятия «одаль». То, что определялось как land ос lauss eyrir — «земля и имущество его» [F. IV, 2], включало, во-первых, родовое владение, haugo?al, «одаль с курганных (т. е. языческих, восходящих к эпохе викингов, если не к более ранней поре) времен» (от haug — «курган, могильный холм»); во-вторых, сюда входила приобретенная за деньги, «купленная земля» — kaupa jor? (полученная в обмен па движимое имущество); в-третьих, сама эта движимость — aurar, fe (ценности, которые могут находиться «под замком, и запором» — i ladom eda i lokom) [G. 255]. Fe прежде всего — ближайшее по смыслу обозначение для археологически опознаваемой составной части экономического потенциала общества эпохи викингов. Серебро и золото, ювелирные изделия и оружие, ткани и меха, орудия труда и дорогая посуда входили в состав этого имущества в первую очередь. Все это представляло собой «товар», ценности, свободно обращающиеся, переходящие из рук в руки и суммирующиеся. К эпохе викингов восходит понятие felag. В семейном праве XI–XIII вв. оно обозначает общность имущества супругов [72, с. 29]; генетически, однако, это общность — внесемейная, когда «два человека совместно имеют один кошелек» [G. 112]. «Фелаги», «сотоварищи», компаньоны по торговой поездке, а то и по викингскому походу — частые персонажи рунических надписей X–XI вв. во всех скандинавских странах [140, с, 186, 192–193]. Сформировавшаяся на основе: 1) земельного фонда родовых владений; 2) движимого имущества, fe, включавшего торговые накопления и военную добычу, поступления от различных межродовых платежей — baugar (и служившего, в свою очередь, источником для таких платежей); 3) наконец, земель, приобретенных в обмен на движимость, — собственность, eign, внутри семейного ядра родового коллектива передавалась из поколения в поколение как fa?urerf? — «отцовское наследство»; какая-то часть ее могла перейти в порядке дарения (gjaferf?); обмен собственностью между родами осуществлялся и в виде выкупа за приданое невесты — mund. Все эти формы движения ценностей позволяли сохранять единство клана, его экономической базы и прочность совокупности его прав. Центральным субъектом скандинавского обычного права, восходящего к эпохе викингов и кодифицированного в X–XI II вв., был o?alsbondi, одальсбонд, глава самостоятельной семьи, хозяин усадьбы, полноправный владелец одаля [53, с. 157–178], Именно он служит эталоном при характеристике свободного и правоспособного человека, обозначаемого в судебниках также словом ma?r — «муж» (которое в сагах употребляется и в более узком значении — «человек конунга» «королевский вассал» — ср. G. 76, 77, 78 и, напр., Olafs saga ins helga, 96; подобная эволюция косвенно свидетельствует об одном из направлений общественного развития). Bondi, buandi, boandi (от bu — «усадьба, хозяйство, двор») в рунических надписях употребляется изредка также в значении «муж, супруг» — maki [140, с. 185–186]; наиболее точным переводом этого термина, обычно понимаемого как «общинник», было бы «домохозяин» (т. е. от усадьбы, двора, хутора как основного структурного звена правовой сферы, «фокуса» реализации юридических норм). Двор, полный родственников, домочадцев, рабов, закрепляет социальный статус бонда, обозначаемого в этом случае термином fuller bonde — «полный бонд». Однако основные элементы этого статуса распространяются и на малоимущего бонда, «работающего в одиночку» (einvirki), и на бессемейного бобыля (einloypr ma?r). Все градации крестьянского статуса охватывало собирательное понятие karl (спектр значений: «крестьянин», «мужик», «парень»). Karlfolk ok sva jarla — «карлы и их ярлы», «простонародье и знать» — формула саг, сжато передающая представления об общественной структуре. Корень — karl-, сохраняющий, в отличие от bondi, некий уничижительный оттенок, стал продуктивным и за пределами крестьянской среды, точнее, — над нею: словом huskarlar, обозначавшим изначально работников, «дворовых», в рунических надписях эпохи викингов названы королевские дружинники [140, с. 186, 188]. Бонд, будь он «полным» или «одиночкой», принадлежит к автономной крестьянской общественной структуре, когда она иерархически замыкается на домохозяина, когда вся полнота прав и власти в доме принадлежит тому, кто занимает в этом доме ondvegi, почетное хозяйское сиденье [G. 35, 266; F. X, 2, 8]. Высшим воплощением этой полноты крестьянских прав стала категория storbondi, «могучих бондов», представляющая собой не только особый социальный тип [53, с. 245], но и одну из ведущих сил эпохи. «Могучие бонды», опиравшиеся на крупные наследственные земельные владения, многочисленные собственные семьи (включавшие домочадцев, зависимых работников и слуг, рабов), обладавшие разветвленными родовыми связями в округе наряду с потомственной родоплеменной знатью, tignir menn (хавдингами, херсирами, ярлами, «малыми конунгами»), выступали своего рода «узлами прочности» социальных связей. Они в состоянии были выставить собственные вооруженные силы, организовать военный поход или торговую экспедицию, как Оттар в IX в. [King Alfred's Orosius, Periplus], Брюньольв в X в. [Сага об Эгиле, 32], Торир Собака в XI в. [Сага об Олаве Святом, 123]. Они были если не постоянными участниками (хотя в молодые годы случалось и такое), то организаторами походов викингов; они же выступают во главе наиболее упорного сопротивления королевской власти, утверждавшей в северных странах новые порядки и новую религию (Олав Святой при Стиклестаде в 1030 г. пал от рук именно «могучих бондов», Торира Собаки и Кальва Арнарсона). Социальный статус «могучих бондов» обеспечивала незыблемость сложившейся локальной военно-демократической структуры в пределах небольшой, охваченной прямыми родовыми связями древней племенной области. Но по мере того, как развертывались процессы, этой областью не ограниченные: походы викингов с их возрастающей масштабностью и организованностью (черпавшие ресурсы из множества мелких племенных областей и объединявшие их в единую надплеменную стихию); регулярное движение товаров по международным торговым магистралям и их циркуляция в крупных центрах; укрепление королевской власти и ее вооруженной силы, опиравшейся на новый социальный потенциал; по мере того, как формировались интересы и определялись средства новых общественных групп, слой «могучих бондов» оказывается на одном из трудных перекрестков социальных коллизий. Он, в принципе, выдерживает столкновение с королевской властью, которая уничтожила племенную структуру, но пошла на определенные компромиссы с бондами, сохранив и приспособив к своим целям сложившуюся административно-территориальную организацию, народное ополчение, обычное право. Однако устои родового землевладения были подорваны; в XI–XII вв. разворачивается процесс дифференциации бондов, многие из них теряют свой одаль. Те, кто сохраняет его, одальманы («могучие бонды» прежде всего) превращаются в условиях прогрессирующей феодализации в мелких вотчинников, хольдов — рыцарей [53, с. 178–214]. Эпоха викингов, — и в этом ее историческое своеобразие, — была временем появления, наивысшего подъема и начала разложения слоя «могучих бондов», временем полного и последнего расцвета общественного строя, основанного на крестьянском землевладении. В рамках эпохи викингов можно проследить начало его подчинения господствующей феодальной иерархии и перерождения в уклад угнетенного класса феодального общества, — правда, угнетенного, но, в отличие от других европейских стран, никогда не закрепощенного [4, с. 352–353]. В IX–XI вв. скандинавские бонды, опираясь на родовое землевладение, одаль, создали достаточно стройную систему правовых норм, их гарантий, административно-территориальную организацию (обеспечившую эффективность функционирования правовой системы) и, наконец, военную организацию, интегрировавшую силы бондов в разных масштабах (от уровня первичного территориального округа, объединявшего несколько семей или родовых союзов, до уровня области или страны). Стимулируя в определенной степени внешнюю экспансию, движение викингов как производной от общества бондов новой военно-социальной силы, эти общественные институты прежде всего обеспечивали прочность социального статуса бондов в IX–XI вв., а затем, перейдя в средневековье, сохранили определенный комплекс прав, личную свободу, политическую самостоятельность скандинавского крестьянства, что и определило своеобразие северного феодализма. Bonda rette, народное право, охватывало сферу личной безопасности, имущественных отношений, пользования общинными угодьями, участия в работе народного собрания, вооруженной защиты личности, родовой группы, области, страны. Его действенность обеспечивал классический военно-демократический механизм, когда субъект права, землевладелец-общинник, член народного собрания и воин совмещаются в одном лице. Это совмещение выразилось в такой общественной гарантии, как обязательное вооружение folkvapn — «народное оружие», атрибут полноправия бонда, сохранявший свое значение вплоть до XIII–XIV вв. В первом норвежском общегосударственном судебнике Landslov (1274 г.) «народное оружие» дифференцировано в зависимости от имущественного состояния бондов [L. III, 11]. Сама по себе показательная, эта градация позволяет сопоставить военный потенциал норвежского крестьянства с потенциалом правящего класса, представленного в дружинном уставе XIII в. [Hir?skra, 35]: это соотношение характеризует общественные силы, сформировавшиеся и как результат, и как своего рода диалектическое отрицание эпохи викингов. В XIII в. даже высший слой бондов уступал низшей категории королевских дружинников, хотя и приближался к ней по вооруженности. Тем не менее, как и в IX–XI вв., бонд «с копьем и мечом» (med odde ос eggiu) являлся для выполнения важнейших общественных функций [G., 66, 121, 238]. 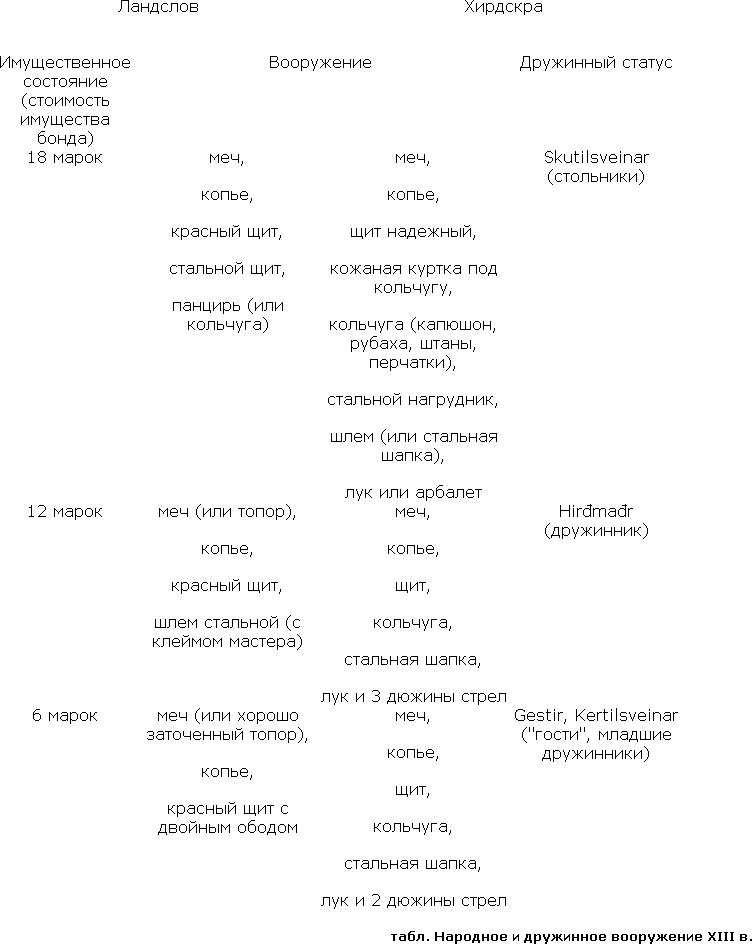 Вооруженные свободные группировались в сложную территориально-административную структуру. По мере разрастания родовых союзов от первичной, главной усадьбы hofud bol (остававшейся своего рода центром aett) отпочковывались дочерние хутора; возникала чересполосица поселений, относящихся к разным кланам. Первичная родовая организация дополняется территориальной. Дворы группируются в объединения, называвшиеся grend (в Трандхейме — sambu?), куда входили соседи-одальманы пользовавшиеся одними общинными угодьями almenningr [53, с. 66, 100–122; 89, с. 134–149]. Жизнь такой соседской общины регулировалась сходками, религиозными обрядами, совместными пирами. Olhus, «дом для пира», был ее центром каждый полноправный домохозяин-бонд был участником пира-братчины (olfoer); древний индоевропейский напиток ol, пиво, как и у германцев Тацита, и у персов Геродота был средством общения с божествами [Тацит, 22; Геродот, I, 133]. Ты сказал мне воин — издевательски спрашивал бонда скальд Эгиль, оказавшийся нежеланным гостем на такой пирушке. Дисы — языческие божества плодородия, disaething назывался весенний тинг свеев в Упсале когда совершались жертвоприношения «во имя мир: и за победы конунга», устанавливался «мир дистинга» (disaethings fri?er) и устраивалась ярмарка (marka?r ok kaupstefna) Этот комплекс функций дублировался и на других уровнях — областного, местного тинга, соседской сходки [89, с. 45–46]. Несколько соседских общин, grannar, объединялись в byg? — бюгд заселенную местность, ограниченную естественными рубежами или необитаемым пространством; бюгды объединялись в hera?, (hundari). Херады составляли области, земли — fylki, или land, иногда — riki. Тенденция к интеграции этих в прошлом независимых территорий проявилась в становлении гаутского и свейского племенных союзов в Швеции, в Норвегии, возможно в образовании так называемых «судебных областей», в названиях которых есть корень — lag—"закон" (Трендалаг — букв, «область, где действует закон трендов»; Данелаг, в Англии, — «область датского права»). Бюгды, херады, фюльки (ланды, рики) управлялись — каждый — тингом соответствующего уровня. По крайней мере, с херада можно проследить и позиции племенной аристократии, «предводителей» — (hof?ingi), из числа которых выдвигался для племенного ополчения воевода (hersir), а для области правитель (jarl) или даже король (konungr). Смысл существования этой многоступенчатой системы заключался в поддержании того, что выражалось основным значением слова lag, lon, log — «закон». Me? logum skal land byggja —"на праве страна строится". В принципе, верховное право, landslog, вершить суд, блюсти log ok landsrett, законы и обычаи страны, принадлежало конунгу в качестве его древней, сакрально-социальной функции [Half?. saga svarta, 3; Haralds saga ins harfagra, 6]. Вероятно, какая-то часть этих функций в древности распределялась и по остальным ступеням аристократической племенной иерархии. Но в эпоху викингов реальной законодательной властью располагал прежде всего тинг, народное собрание (ting). Именно сюда, на placitum, выносит rex — konungr свеев, скажем, такой вопрос, как принятие христианства [Rimbertus, XXIV]; конунг выступает, скорее, как власть исполнительная, верховный функционер племенной организации. Положение дел на тинге контролировали лагманы (logma?r — «законник»). И самый известный из них, свейский лагман Торгнюр, запечатлённый в «Хеймскрингле», еще в начале XI в. мог от лица бондов и при их поддержке заявить конунгу: «А если ты не пожелаешь сделать то, что мы требуем, мы восстанем против тебя и убьём тебя… Так раньше поступали наши предки: они утопили в трясине на Мулатинге пятерых конунгов за то, что те были такими же высокомерными, как ты» [Сага об Олаве Святом, 80]. Не отражает ли это воспоминание одну из коллизий, положивших конец вендельскому периоду? Во всяком случае, в эпоху викингов «карлы и ярлы» в политическом плане составляли нечто целое: родовитая знать ничем, кроме своей родовитости (выраженной в поэтических генеалогиях, возводящих владельцев к мифо-эпическим персонажам, а то и божествам) и периодических, ритуального характера приношений (gjof — «дары», veizla — «угощения») со стороны других общинников, не выделяется. Регулирование работы военно-демократического тинга — функция лагмана, основанная не на каком-либо аппарате принуждения, а на его авторитете как знатока, помнящего правовые нормы (аллитерированные, как стихи) и знающего их наизусть, умеющего «сказывать закон» (logsaga); в Исландии это нашло выражение в титуле главы альтинга — logsoguma?r — «законоговоритель». По инициативе лагмана могло происходить rettarbot — «улучшение права» (с такого рода предложением мог выступить и конунг); однако основой деятельности тинга был прежде всего si?r, обычай. Именно сохранение неизменным «обычая прежних конунгов» (si?r inna fyrri konunga) было постоянным условием «социального партнерства» между бондами и королевской властью. Гарантией демократичности тинга был принцип его всеобщности, allsherjarting. В исследованиях А.Я.Гуревича детально прослежен процесс постепенного сужения числа участников тинга по мере прогресса феодализации Норвегии во второй половине XI–XIII вв. [47, с. 151–166; 48, с. 193–213; 53, с. 178–212]. Военно-демократическое право постепенно, по мере разложения элементов родовой организации, парцеллизации хозяйств и имущественной дифференциации бондов, для части из них становилось обременительной повинностью, которой стремились избежать или передоверить ее другим, более имущим. Для бондов, сохраняющих это право, оно превращалось в политическую привилегию, как и вооруженная служба, сближавшая верхушку бондов с господствующим классом, постепенно втягивавшим одальманов-хольдов в свой состав. Наряду с тингом и в функциональной связи с ним вторым основополагающим институтом скандинавского общества было народное ополчение, ледунг (норв. lei?angr, дат. leding, др. — шв. le?unger). В источниках этот термин выступает в двух значениях: более раннем (связанном с вооружением folkvapn) как lei?angr fyr landi — народное ополчение для защиты страны; и более позднем, в XII–XIII вв., как коммутированная воинская повинность, денежный налог, в государственной практике Дании, Норвегии и Швеции утвердившийся примерно одновременно [47, с. 69, 188–189; 89, с. 108–110; 378, с. 31–32]. В основе ледунга — местные (областные, племенные) ополчения довикингской поры. Процесс их активизации, связанный с началом походов викингов, в течение IX в. подготовил постепенную консолидацию, а затем подчинение централизованному королевскому управлению. В середине X в., в правление Хакона Доброго (945–960 гг.) были заложены основы военно-территориальной организации, сохранявшиеся па протяжении последующих столетий. Конунг получил право сбора ополчения в различных масштабах — в виде halfs almenningr (полуополчения) или полного, allan almenningr [F., Ill, 3]. Исходной единицей мобилизации был manngor? (маннгёрд) — 3 усадьбы, выставлявшие одного человека в лейданг, в то время как два других следили за его хозяйством; могло быть и наоборот — в поход уходили два, оставался один [F. VII, 7; G. 299]. Маннгёрды объединялись в «корабельный округ», skipreidi (в Трендалаге — skipsysla, в Швеции — hamna, в Дании — havn) [47, с. 168; 181; 89, с. 31]. Корабельную команду-дружину возглавлял styrima?r, кормчий, который нередко назначался конунгом; флотилиями округов командовали королевские ленники-лендрманы (сменившая позднее титул lendrma?r форма sysluma?r образована от названия корабельного округа sysla —"служба, работа"). Самым крупным подразделением лейданга был фюльк, fylki: «У норвежцев фюльком называется округ, который выставляет 12 полностью снаряженных кораблей с людьми и вооружением, и на каждом корабле обычно по шести или семи десятков человек» [Цит. по: 47, с. 181]. Фюльк возглавлял хавдинг или ярл, выставлявший обычно собственный корабль с дружиной [89, с. 109–110, 155]. Таким образом, по крайней мере в XI в. командные посты в структуре ледунга сохраняла за собою на всех основных уровнях феодальная иерархия с ее вооруженной силой. В течение всей эпохи викингов, с начала IX до середины XI в., между народным ополчением, ледунгом, постепенно приобретавшим все более государственно-организованный характер, и королевской дружиной (hir?), развивавшейся в военно-феодальную иерархию, оставалась своего рода социальная ниша, исчезнувшая лишь по мере завершения обоих указанных процессов. Заполнялась она деятельностью относительно свободных (и от государственной власти, и от традиционной племенной структуры) дружин викингов, внутренняя организация которых, именно в силу этой свободы, наименее освещена в источниках. 3. Викинги Социальная структура хундаров и фюльков вендельского периода не оставляла места для зарождения и консолидации новых общественных сил: элементы, вступавшие в противоречие с племенной знатью, опиравшейся на сакрализованный авторитет, словно «выдавливались» из общества, устремляясь на пустующие, не освященные племенными божествами земли, свободные от контроля местных вождей-жрецов; выходом поэтому стала не внутренняя колонизация (физически возможная, и много позднее осуществленная конунгами), а эмиграция на ближайшие острова к востоку и западу от Скандинавии. К исходу VIII в. фонд доступных для колонизации островных земель был исчерпан. Норманны вышли к прибрежным границам европейских государств, защищенным феодальной властью и недоступным для свободного заселения. Однако расположенные вдоль побережья, неукрепленные сельские церкви и монастыри оказались легкой добычей, раскрывая перед несостоявшимися переселенцами новые возможности: не случайно в ряду импортов Хельгё найден епископский посох, который вряд ли был предметом торговой сделки. Доступ к источникам движимых ценностей (fe), традиционные каналы поступления которых были монополизированы родовой знатью, позволял общественному слою бондов быстро и глубоко перестроить свой экономический потенциал, упрочить и повысить статус, создать военно-демократическую социальную организацию и затем интегрировать в нее старую знать. Однако чтобы воспользоваться этими новыми источниками, необходима была особая форма объединения широких общественных сил; а поскольку потребность в ценностях, определявшаяся «экономической емкостью» всего совокупного слоя бондов, динамично нарастала, эта динамика вела и к количественному росту, и к самоорганизации сил и групп, взявших па себя выполнение новых социальных функций. Широкий диапазон этих функций выявляется уже при анализе военной стороны норманнской экспансии; морские разбойники, завоеватели, переселенцы, военные наемники, королевские дружинники, наконец, феодалы (типа Хастейна или Рольва) — вот спектр «социальных ролей» викингов. Легендарная биография завоевателя Нормандии Роллона (Рольза, Хрольва Пешехода, — в исландских сагах) показательна для характеристики социальной природы викингов [215, с. 93–98]. Младший сын в знатном роде, вступивший в конфликт с конунгом; пират, грабитель, торговец, военный предводитель, постоянно ищущий места для поселения (от небольшого острова Вальхерен — до обширного герцогства Нормандского); подобное сочетание столь разнородных качеств — не исключение. Среди вождей викингов мы находим Атли, сына ярла, изгнанного из Норвегии [Сага об Эгиле, 76; Сага о людях из Лаксдаля, 5]; викинг Гуннар после походов в Швецию, Курляндию, Эстонию прибывает в Хедебю, для сбыта захваченной добычи в большом торговом городе [Сага о Ньяле, 29–31]. Эгиль Скаллагримссон и его брат Торольв в викингском походе торгуют с куршами до истечения установленного срока, а потом нападают на куршские селения и хутора [Сага об Эгиле, 46]. Как правило, эти «вожди» находятся иной раз в прямой зависимости от родителей — хавдингов или «могучих бондов»; в свой первый поход Торольв; сын Квельдульва, отправляется за счет отца [Сага об Эгиле, 1]. Другой герой той же саги, Бьярн, сын Брюиьольва, который «плавал по морям иногда как викинг, а иногда занимаясь торговлей», повинуясь воле отца, меняет свои планы и отправляется в торговую поездку вместо викингского похода: «И не надейся, — сказал Брюньольв, — боевого корабля и людей я тебе не дам» [Сага об Эгиле, 32]. Достаточно редки случаи превращения викингов в знатных хавдингов у себя на родине — именно потому, что викингами, как правило, становились младшие сыновья. Старший брат Рольва унаследовал отцовский титул ярла — Хрольв Пешеход отправился в изгнание. Хавдинг Скаллагрим, отец Эгиля, никогда не ходил в походы, а его младший брат Торольв с молодых лет — в викинге; Берганунд и Атли в той же саге наследуют высокое положение отца, о брате же их Хадде говорится мельком, что он «ходил в викингские походы и редко бывал дома» [Сага об Эгиле, 37]. Такие реплики — вряд ли просто стереотипный литературный прием: «Сага об Эгиле» сохранила в своем составе целую самостоятельную повесть, которая представляет собой прекрасный образец социальной психологии викинга, позволяя представить расстановку социальных сил в период крушения племенной системы и объединения страны при конунге Харальде Прекрасноволосом. Эту повесть можно назвать «Сага о Торольве, сыне Квельдульва»: она рассказывает о начале вражды исландского рода «людей с Болот» с норвежскими конунгами, и предваряет историю Эгиля, сына Скаллагрима и племянника Торольва [Сага об Эгиле, 5-27]. Здесь рассказывается о войне Харальда, в ту пору конунга одной из южных областей Норвегии, Вика, с конунгами других фюльков. Дед Эгиля, отец Скаллагрима и Торольва, Квельдульв, один из хавдингов фюлька Фирдир, отказался выступить против конунга Харальда, но после его победы отказался и пойти к нему на службу. Предложение конунга отверг и Скаллагрим — «при жизни отца, потому что он должен стоять выше меня, пока жив». Представители племенной верхушки, Квельдульв и Скаллагрим, таким образом, весьма сдержанно отнеслись к новым порядкам, создаваемым основателем норвежского государства. Но при этом Квельдульв прозорливо заметил, что младший его сын, Торольв, который сейчас «в викинге», наверняка не откажется пойти к конунгу на службу. Вернувшись, Торольв обрушивается на отца и брата с упреками — в дружине конунга «самые выдающиеся мужи», которых «уважают больше, чем кого бы то ни было здесь в стране». Ни племенная солидарность, ни родовая иерархия Торольва не останавливают, вообще — не принимаются в расчет: «Я очень хочу попасть в их число, если только они пожелают меня принять». Вместе со «своими людьми», сопровождавшими его в походе, Торольв вступает в дружину Харальда. Перед нами — новое социальное явление: викинг, в оппозиции к родовой знати, становится опорой королевской власти. Для него это — единственная возможность повысить свой статус на родине, поднявшись над племенной иерархией и вне ее. Впрочем, не обязательно на родине: социальная мобильность связана с территориальной. Позднее, уже после крушения «феодальной карьеры» Торольва, отец не без иронии советует ему покинуть страну: «Может быть, ему больше посчастливится, если он попробует служить английскому, датскому или шведскому конунгу». Добившись нового статуса, викинг стремится его укрепить и расширить. Товарищ Торольва умирая, завещает ему имущество и жену — помимо родичей, в силу каких-то внутридружинных отношений. Конунг не только утверждает это завещание, но и поручает Торольву сбор даней с лопарей, облекая его властью и правами «лендрмана», королевского вассала. Блестящая феодальная карьера викинга связана с разрушением родовых отношений во всех аспектах: в частности, нарушенный порядок наследования привел в конечном счете к гибели Торольва, оговоренного «законными» наследниками. Но пока попрание родовых прав викингом, пожелавшим стать «выше отца», вознаграждено королевским пожалованием, также вопреки родовому праву. Став королевским ленником, Торольв однако не утратил привычек и представлений викинга («ведь ты все равно никому не уступишь!» — предостерегал его отец). Это привело в конечном счете к конфликту с конунгом, ибо натура викинга никак не могла безболезненно принять ограничения и дисциплину феодальной иерархии. Торольв резко увеличивает дань с лопарей, разъезжая по Финмаркену с сильным отрядом. Объединяя, по обычаю викингов сбор дани с торговым промыслом, Торольв, как и конунг, его покровитель, стремится не только к интенсификации, но и к экстенсивному расширению сферы эксплуатации, к монопольному праву на неё. Он заезжает в отдаленные земли: уничтожает конкурентов — «колбягов»; вторгается с викингским набегом в земли карел. Затем заключает союз с князьком финского племени квенов, «конунгом Фаравидом». Они объединяют свои силы (при этом Торольв выставляет десять дюжин воинов, а Фаравид — тридцать дюжин, добыча же делится поровну). Сперва защищаясь от карел, а затем перейдя к грабительским нападениям на них, викинги Торольва и дружинники Фаравида быстро превращаются в силу, господствующую в Финмаркене. Возникает своего рода «квено-норманнское протогосударство». При этом нет и не может быть речи ни о численном перевесе, ни о завоевании, или хотя бы захвате норманнами каких-то ключевых пунктов [264, с. 1–12]. Союз вождя дружины викингов с князьком чужого племени, когда военно-техническое превосходство норманнов («У них были более крепкие щиты, чем у квенов», — поясняет сага) оказывается решающим фактором победы в межплеменной распре, — модель отношений, реализованная, видимо, не только в Фенноскандин, но и в Прибалтике, и на Северо-Западе Руси. Можно допустить, что именно связи такого рода объединили в IX столетии летописных варягов, северную «русь», словен ильменских, кривичей, чудь, мерю, весь. Никаких признаков «норманского завоевания» (подобного завоеваниям викингов в Ирландии, Англии, Нейстрии) здесь нет, как нет их и в предании о призвании варягов «Повести временных лет». Неизвестно, как развивался бы этот альянс дальше: конунг Харальд вмешался в события, не без оснований заподозрив, что Торольв «решил сделаться конунгом Халогаланда и Наумудаля» (северных областей страны). Торольв отправляется в почетную ссылку на юг, «где вся его родня» и «где можно будет следить, чтобы он не стал чересчур могущественным». Убедившись, что он утратил доверие конунга, находясь «в опале», Торольв пытается заняться торговлей; его торговый корабль с грузом товаров конфискуется конунгом. И викинг, перебравший все возможные в эту эпоху социальные роли — королевского дружинника, ленника, полунезависимого «феодала», купца, — возвращается к исходной своей ипостаси. Снарядив дружину, Торольв отправляется «в викинг», и после грабежей в Дании и Прибалтике начинает опустошать норвежские побережья, грабит поместья конунга и его «мужей», — т. е. вернувшись к привычным средствам, вступает в последнюю фазу борьбы. Викинги вроде Торольва, опустошающие скандинавские побережья и острова — типичное для эпохи явление. Но в «саге о Торольве» важна развернутая политическая мотивировка этой направленности «викинга», как формы борьбы с укрепляющейся королевской властью; викинги как социальная сила здесь солидаризируются с бондами, ропщущими на «отнятие одаля». Торольв естественным образом оказывается во главе своего рода «демократической оппозиции». Глубокая тайна, которой был окружен рейд королевской дружины, позволила напасть на Торольва врасплох и покончить с ним. А возвращаясь, дружинники конунга «увидели множество гребных судов во всех проливах между островами. На этих судах люди шли к Торольву на помощь… Здесь собралось множество вооруженных людей». Некоторые из них продолжили борьбу с «королевскими мужами» и затем покинули страну. Так поступили и родичи Торольва. Двойственность, точнее, многоплановость роли викингов в развитии социальных процессов выступает вполне отчетливо. «Социальная отчужденность» от племенной системы оборачивается высокой социальной мобильностью; собственно «викинг» — состояние временное, переходное (как и внутри «викинга» — временная, ограниченная и обычно вынужденная его форма — торговля). Ценностная направленность — обретение нового социального качества: феодала, королевского дружинника, купца, так или иначе принадлежащего к иной, новой, средневековой общественной структуре. Викинги — ее потенциальный «надстроечный элемент», при этом во многом избыточный. Новая структура ограничена, возможности ее невелики. Для многих «викинг» в силу этого становится пожизненным занятием, профессией. Несмотря на ее славу и привлекательность (впрочем, судя по сагам и руническим надписям, общественное отношение к викингам было более чем сдержанным; всевозможные хвалебные эпитеты в их адрес принадлежат скальдической поэзии, развивавшейся прежде всего в собственно дружинно-викингской среде), профессия эта оставалась непостоянной, рискованной. Отсюда — разнообразные формы активности викингов, все они суть социальный эксперимент, попытки реализации новых социальных качеств. Эти новые социальные качества появились как естественное следствие высвобождения и организации значительных социальных сил. Высвобождение, точнее, переключение «социально избыточного» элемента в новые, ранее незадействованные каналы деятельности произошло на рубеже VIII–IX вв.; организация в существенных чертах складывается уже в середине IX столетия. И то обстоятельство, что с этого времени в деятельности викингов на первый план выступает переселение (860-е годы — в Англии, 890-е — во Франции, Исландии, позднее — далее, за Атлантикой), раскрывает социальную базу движения. Основным, заинтересованным в нем общественным слоем были свободные общинники, бонды. Появление же в среде викингов «предфеодального элемента» — результат развития сложившейся, особой социальной структуры, дружин викингов с их устойчивой внутренней организацией и разнообразными функциями; эволюция этой структуры происходит постепенно, возможности ее реализуются не всегда, не сразу, и далеко не полностью. Массовый характер движения, его связь с широким общественным слоем бондов, дифференциация в ходе экспансии викингов различных новых социальных функций, активно воздействующих на революционное преобразование «варварской» племенной структуры в феодальную, государственную, — все это позволяет определить «движение викингов IX–XI вв.» как социальное движение, охватившее значительные, в том числе ведущие, общественные слои Скандинавии и так или иначе связанное с кардинальными, революционными общественными изменениями. Внутренняя организация этого движения, куда вошли представители разных социальных сил, слоев и групп, восстанавливается по отрывочным и разрозненным данным. Устойчивой реальностью дружины викингов, несомненно, стали только после 793 г. Лишь с этого времени можно допустить существование в качестве особого социального института «морских князей», saekonungr (Снорри относил их появление к глубокой древности). Титул этот, объединявший тех, у кого er re?u li?i ok attu engi lond — «было много дружины, и совсем никакой земли» [Ynglinga saga, 30], фиксировал высший разряд дружинных предводителей, «вождей», foringi, gramr, как они назывались в скальдических песнях и рунических надписях [140, с. 196]. Следовавшие за ними воины обозначались термином li? — «люди, дружина, войско» [47, с. 130, 171, 174]; реже применялось собирательное имя fjolmenni — «бойцы, дружина, дружинники» [Olafs saga ins helga, 22]. Оба термина — достаточно неустойчивые (примерно как древнерусская «рать»), применялись и к другим воинским объединениям, от народного ополчения до королевских отрядов; за дружинами викингов они закрепляются, скорее, в силу отсутствия нового специализированного термина, такого, как lei?angr или hir?. Правда, в рунических надписях XI в. появляется термин tingali?, от tinga — «наниматься на службу», который на Западе и Востоке Европы обозначает генетически восходящие к викингам наемные Дружины на иноземной службе [140, с. 196]; но это — лишь финал жизни викингских объединений, понятие (как и vaeringr для обозначения отдельного участника такого отряда), возникшее на поздних этапах эпохи викингов [189, с. 139, 248]. Вероятно, ближе к самосознанию дружинников IX–XI вв. часто употреблявшееся в скальдической поэзии название hol?r, hol?r, haul?r в его изначальном значении «воитель, герой, воин» (ср. нем. Held) — оно акцентировало военный аспект деятельности полноправного свободного человека. После упадка движения викингов, превращения военной службы либо в государственную повинность бондов, либо — в служебную обязанность королевских вассалов термин «хольд» закрепляется именно за полноправными, «могучими бондами», а в XIII в. по мере врастания вотчинников-одальманов в состав феодального господствующего класса вытесняется новым, осознававшимся, по-видимому, как эквивалентное, понятием riddari — «рыцари» [53, с. 178–212, 267]. В песнях «Эдды», как и в поэзии скальдов, термин «хольд» встречается исключительно в первичном, военном, значении. Скальды IX в. употребляют выражения hraustra vikinga — «храбрые викинги» и hol?a — «хольды» как синонимы [47, с. 171–172]. Этим именем называли себя полноправные, заслуженные участники походов, не стремившиеся отождествиться ни с bondir ни с huskarlar. К нижнему уровню этого же социального слоя принадлежит также эддическо-скальдический термин drengr, зафиксированный в рунических надписях и расшифрованный в «Младшей Эдде» Снорри: «Drengir зовутся лишенные надела юноши, добывающие себе богатство или славу; fardrengir (от far — „поездка“. — Е.М.) те, кто ездят из страны в страну. Konungsdrengir (королевские. — Е.М.) — это те, кто служат правителям. Drengir зовут и тех, кто служит могущественным людям либо бондам. Drengir зовутся люди отважные и пробивающие себе дорогу» [140, с. 187–188]. Этимологически dreng восходит к очень древнему семантическому полю; в основе — герм. *drangja, откуда готск. driugan, слав, «дружина», а с другой стороны — очень продуктивный корень drott, drotts [89, с. 105]. В языке саг и судебников drott выступает в значении «хозяин», drottinn, охватывая все ипостаси владельцев и повелителей, от бонда до конунга. Более древнее значение — первичный титул свейских конунгов Drott, со времен Одина и до времен Дюггви [Ynglinga saga, 17], возможно, связанный не только с drotts — «дружина», но и с Idrott ithrott — «искусство» (дар Одина!), охватывавшим все виды высшей, с точки зрения человека варварского общества, деятельности — от умения слагать стихи-заклинания до искусства владеть мечом; drottkvett — особый, «дружинный» размер в поэтике скальдов [206, с 21–24]. Drotts — верховный судья в феодальной Швеции XIII в. [77, с. 31]. «Дренг» внутри этого пласта представлений, так или иначе раскрывающих отношения «вождь — дружина», фиксирует важный и трудноуловимый момент социального сдвига: все приведенные Снорри характеристики точно соответствуют аспектам социального статуса викинга, каким он восстанавливается по другим источникам. С другой стороны, в судебниках XI–XIII вв. дренг — это либо свободный человек без своего хозяйства, «добывающий богатство и славу», имеющий при этом право жить в чужой усадьбе [G. 35]; либо, короче, — неженатый молодой человек, обязанный владеть неполным набором folkvapn, без лука и стрел [F. VII, 13, 15]. Расшифровка Снорри была не просто ретроспективой, а опиралась на реальности XIII в., отражавшие заключительный этап жизни явлений, расцвет которых относится к эпохе викингов, когда в рунических надписях «дренг» выступает синонимом терминов «дружинник, хускарл, фелаги» (по походу викингов), вообще заключает в себе идею «братства по оружию» [378, с. 41]. В сознании людей IX–XI вв., видимо, именно «дренги» отождествлялись с тем комплексом представлений, который для нас связан со словом «викинг», и который обозначил высвобождение из под власти племенного сакрализованного вождя, Дротта, выход из подчиненной божественному авторитету племенной дружины на свободное поле деятельности; правда, с оттенком неполноправия и незавершенности. Термин vikingr в социальной практике дренгов и хольдов употреблялся чаще в значении i vikingu — «в заморском походе» [140, с. 196]. Снорри объясняет его как «морская рать» (ср. saekonungr!). Исконная семантика слова, впрочем (если отвлечься от ее дискуссионности), близка значениям haul?r и drengr — «воитель, витязь» (ср. фризск. и англ. — сакс. viting, vicing) [407, с. 101–104]. При всей скупости данных, социальная терминология древне-северных памятников позволяет представить себе, во-первых, достаточно устойчивую, с элементами иерархичности внутреннюю структуру дружин викингов: li? возглавили вожди, составлявшие иерархию (gramr, foringi, saekonungr); их влияние, видимо, было достаточно ограниченным, заметное место в дружинах занимали заслуженные, самостоятельные воины, может быть, ушедшие в поход бонды-одальманы или, скорее, их ближайшие полноправные наследники, haul?ir; основной контингент состоял из молодежи, drengir, многие из которых были связаны в микрогруппы отношениями товарищества, felagi. Во-вторых, особенно в характеристиках последней группы выступает амбивалентность этого социального организма по отношению и к общинному ополчению, из которого он вышел, и к королевской дружине, в которую не вошел (в лучшем случае, на позднем этапе — как наемный временный контингент). Социальная незавершенность — на всех уровнях: «морские князья» — не вполне конунги (хотя и конунг может возглавить «морскую рать»; но в этом случае saekonungr — лишь одна из многих граней полного его статуса). Также и «лютые» — грамы, «вожаки» — форинги не тождественны херсирам и хавдингам (которые тоже могут и с большими основаниями собрать в поход морские дружины); «хольд» в конце концов из воина превращается в зажиточного крестьянина; «дренг», если не добился «богатства и славы», остается плохо вооруженным приживальщиком. Военная организация, принадлежность к ней были лишь одним из условий прочного социального статуса. В состязании племенных ополчений, отрядов викингов и королевских дружин исход определялся тем, какая из сил поставит под свой контроль основные механизмы распределения совокупного общественного продукта. 4. Конунги. Образование государства в северных странах Преимущества конунгов были предопределены их принадлежностью к высшему звену административного аппарата, генетически — племенного, но без резкой ломки преобразовывавшегося в государственный. Конунг в полном объеме своих прав наряду с титулом herkonungr («вождь рати», как и saekonungr, акцентирующим военный аспект) именовался tjo?konungr — «вождь народа», от tjo? (готск. thiudas — «народ-войско»), обозначавшего всю целостность общественного организма [3, с. 142–144]; отсюда же исландское «народовластие» — tjodveldi [208, с. 1619]. Власть конунга выражалась понятием riki — «держава, господство, государство»: Харальд Прекрасноволосый hann vann riki under sik «взял всю державу под себя» [Haralds saga ins harfagra, 6]; тем же словом обозначалась подчиненная этой власти область: Sveariki — Свейская Держава. Эта власть восходила к племенным институтам: tjo? осуществлял konungstekja, выборы конунга; даже в XIII в. «принять и прогнать конунга» — taga och vraka konung оставалось исконным правом. Свободу выбора, правда, ограничивали во-первых, сакральность королевского рода, через Инглингов восходящего к божествам, к Одину, Ньерду, Фрейру; во-вторых, реальная мощь этого рода, отношения претендента на престол со знатью, «могучими бондами», состояние его дружины; и в-третьих, эффективность тех мероприятий, которые конунг осуществлял во время своего правления, закрепляя право избрания за своими наследниками. Превратить в полной мере tjo? в yrtjo?, «народ-войско» — в «подданных» — подчиненное конунгу ополчение, а затем и в плательщиков даней и податей, ly?skyldir, — вот цель, к которой из поколения в поколение стремились скандинавские конунги эпохи викингов. И достигали ее: Haraldr hafdi allan ly? ilandi traelkat ok atjat — «Харальд [Прекрасноволосый] весь народ в стране поработил и подчинил», — так оценивает первые успехи королевской власти «Хеймскрингла» [Hakonar saga go?a, 1]. Начиная борьбу за объединение страны, Харальд поклялся подчинить ее med skattum ok skyldum ok forradi — «с данями, поборами и правлением»; достижение этой цели и воспринималось бондами как «отнятие одаля», когда они вынуждены были платить подати, landskyldir [Haralds saga ins harfagra, 4, 6]. Skyld ok skattr — «подати и дани», — вот основная цель государственной политики королевской власти на протяжении эпохи викингов. Поступления эти по форме традиционны, и восходят к племенным институтам чуть ли ни времен Тацита [89, с. 110 |, но в Скандинавии до конца IX в. они распределялись между родовой знатью разрозненных племенных областей. В конце IX — первой половине X в. в распределении этих поступлений происходит резкий количественный сдвиг: они концентрируются в распоряжении конунга, а это создает возможность для качественных политических и общественных преобразований. Обозначаемые чаще всего собирательным именем skattr и действительно восходящие к племенным skattgjafir, добровольным приношениям, дарам (gjafir), известным еще во времена Инглингов [Ynglinga saga, 9-10, 26], «дани-подати» включали и так называемые «носовые деньги», некий вид подушного обложения, tegngildi ok nefgildi [Olafs saga ins helga, 136]. В распоряжение конунга поступали и сборы bor?lei?angr, сдача продуктов для корабельных команд, собиравшаяся с части домохозяев во время ополчения; и всевозможные штрафы за преступления — sakeyrir; конунгами были монополизированы и некоторые специфические, локальные сборы, такие, как finnfor ok finnkaup, право сбора дани и торговли с лопарями (вспомним о конфликте Торольва, сына Квельдульва, с конунгом!); а при внутренних конфликтах с непокорных областей взимался herskattr, военная контрибуция. Все эти сборы, безусловно, давали конунгу значительные дополнительные средства. Основой же существования королевской власти и подчиненной ей вооруженной силы, на раннем этапе — в буквальном смысле одним из источников ее пропитания — стал скандинавский вариант «полюдья», «кормления» — вейцла (veizla, шв. gaer?). Первоначально — пир, который бонды периодически устраивали в честь своего местного конунга или хавдинга, вейцла после «отнятия одаля» стала исключительно королевской прерогативой, которой конунг либо пользовался сам, либо мог пожаловать кому-то из своих приближенных. Со времен Харальда Прекрасноволосого конунги с дружиной регулярно разъезжали по стране, и население каждой местности обязано было к указанному времени доставить строго регламентированное количество продуктов. Численность дружины постепенно возрастала: при Олаве Святом (1016 г.) она возросла от 60 до 100 дружинников, затем превысила этот порог. Олав Тихий (1066-93 гг.) возил с собою уже 240 человек. Господствующий класс, складывающийся и объединяющийся вокруг конунга, существовал во многом за счет ресурсов крестьянского хозяйства бондов: «…вейцла послужила специфической организационной формой выкачивания из крестьянского хозяйства прибавочного продукта, первоначально — в виде натуральных поставок для королевских пиров» [47, с. 142]. Наряду с вейцлой хозяйственной базой конунга и его дружины становится своего рода «домен», комплекс земельных владений конунга, обозначавшийся термином konungsgardr, букв, «королевская ограда» [Magnuss saga ins go?a, 15]; в Швеции он назывался «Упсальский удел», Upsala o?, и был связан с главным языческим храмом и королевской резиденцией свеев [89, с. 111]. На протяжении всей эпохи викингов происходит рост королевских владений. Со времен Харальда Прекрасноволосого норвежские конунги строили в разных областях страны «королевские усадьбы», konungsbu (husabu, husbu). Выполняя определенные податные функции, они образуют сеть независимых от традиционной племенной структуры, непосредственно подчиненных конунгу административных центров. Процесс их формирования в Дании начался еще в первой половине IX в. [378, с. 31, 80], в Норвегии — после середины IX в. [47, с. 119]. В Швеции Снорри приписывает создание подобной системы одному из Инглингов, Онунду-Дорога (Braut— Onundr), который setti bu sini hvert storhera? a Svitjo? ok for um allt landit at veizlum — «поставил усадьбу себе в каждом большом хераде Свитьод и ездил по всей стране по вейцлам» [Ynglinga saga, 33]. Не исключено, что с персонажем «Перечня Инглидов» здесь контаминированы загадочный король свеев Anondus, помянутый в Vita Anskarii, составленном не позднее 888 г. [Rimbertus, XVI], и отец конунга Эйрика Эмундссоиа (Анундссона), правившего до 882 г. Если так, то Браут-Энунд реорганизовал шведскую вейцлу в середине или второй половине IX в., а его наследник закрепил эти реформы созданием общегосударственного ледунга. В таком случае укрепление государственной власти конунгов в Дании, Норвегии и Швеции проходило одни и те же фазы, и примерно одновременно. Создание прочной экономической базы в виде королевских имений позволяло конунгу распоряжаться землями, контроль над которыми осуществлялся в виде вейцл и даней. Земли, точнее, право на доходы с них конунги раздают своим приближенным в виде ленного пожалования. Термин len — «лен» и кеннинг конунга lanar-drottinn впервые встречаются в висах скальда Сигвата Тордарссона (до 1038 г.); Кормак Одмундарссон (вторая половина X в.) называет конунга jar?hljotr — «дающий землю» [47, с. 106, 137]. Об условном, служебном характере пожалований свидетельствует и рассказ о конфликте Олава Святого с оркнейцами, опирающийся на какие-то местные предания, где сказано: er jaltar hofdu haft jafnan si?an lond tau at leni en aldrigi at eign — «ярлы получали у него [Харальда Прекрасноволосого] эти земли как лен и никогда — как собственность» [Olafs saga ins helga, 100]. Граница между условным пожалованием (len) и собственностью (eign) четко проведена. Известны различные виды королевских земельных пожалований: dreckulaun — вознаграждение за устроенный для конунга пир; hei?laun — почетное пожалование земли, которое «свидетельствует о начавшемся уже вмешательстве королевской власти в отношения землевладения» [53, с. 75–76]. Однако основным видом лена оставалась раздача вейцл, и само слово veizla из обозначения пира постепенно превратилось в название годовых доходов феодала. Отчуждая права старой родовой знати на традиционные, в общем, дары, дани, вейцлы, конунги не просто эксплуатировали древние племенные институты варварского общества, остававшиеся при этом, как иногда представляется, неизменными. Они предопределили целую серию глубоких социальных сдвигов, которые в конечном счете вели к преобразованию общества варварского в феодальное. Во-первых, это отчуждение подрывало позиции племенной аристократии, которая была вынуждена либо вступить с конунгами в борьбу и погибнуть, либо бежать из страны, либо получить вновь свои собственные, традиционные права, но уже в качестве королевского пожалования, т. е. адаптироваться к требованиям феодальной иерархии. Во-вторых, — конунги создавали единый государственный фонд средств, который позволял обеспечить постоянное содержание вооруженной раннефеодальной военной касты — королевской дружины и, опираясь на нее, повысить интенсивность эксплуатации, изымать часть экономического потенциала бондов, остававшегося раньше в их распоряжении. В-третьих, этим изъятием королевская власть существенно сужала возможности военной деятельности бондов, и прежде всего — дружин викингов (базировавшихся в конечном счете на ресурсах бондов и частично — родоплеменной знати); ограничивались и возможности поставленного под государственный контроль, превращавшегося в воинскую повинность народного ополчения — ледунга. В-четвертых, по мере развития этих процессов и стимулированной ими имущественной дифференциации бондов прогрессировала коммутация ледунга, который в XII–XIII вв. превратился (в Дании — полностью, в Норвегии и Швеции — частично) в денежный государственный налог. Разрушая таким образом традиционную племенную структуру (свободные общинники — знать), конунги формировали новый господствующий слой, скандинавский феодальный класс. Специфика этой общественной группы в Северной Европе заключалась в том, что вплоть до XIII в. сохранялась тесная консолидация феодалов — вокруг короля. «Основная часть господствующего класса составляла hir? — дружину, свиту короля; в нее включались и служилые люди, которые сидели в своих владениях и вейцлах» [47, с. 149]. Королевская дружина, «хирд», первоначально называлась просто li?, а члены ее — menn, fjolmenn или huskarlar («люди», «бойцы», «домочадцы»). Специализированный термин hir? (шв. gri?) на датских рунических камнях известен с X в. [140, с. 188, 195; 378, с. 22]. Распространяется и производное от него hirdmenn (наряду с более употребительным huskarlar, а в Дании — hemtegi). Дружинников, подчиненных ярлам и херсирам, посаженным по фюлькам конунгом Харальдом Прекрасноволосым, Снорри называет her menn [Haralds saga ins harfagra, 6]; этот термин позднее стал названием рыцарского сословия в Дании [77, с. 35]. Дружина Харальда Сурового в «Хеймскрингле» названа sveit, свита [Haralds saga Sigur?arsonar, 49]; в «Хирдскра» от близкого корня sveinn («парень», «юноша») образованы названия дружинников разных рангов: skuti lsveinar, kertilsveinar. Так же в XIII в. назывались вооруженные вассалы в феодальной Швеции: svenae til vapn (калька латинского armiger) возглавляли собственные дружины и сами были конными рыцарями [89, с. 159]. В связи с завершением феодальной стратификации, созданием конного рыцарского войска, вооруженного по западноевропейским нормам, раннефеодальная титулатура вытесняется новыми терминами: herreman — в Дании, fraelse, hofmaen — в Швеции, riddari — в Норвегии [77, с. 35; 89, с. 161; 53, с. 211]. Наряду с основой формирующегося рыцарства (в XIII–XIV вв. пополненного слоем одальманов-вотчинников) в составе «хирда» подготавливались кадры королевской администрации; получая от конунга вейцлы на свое содержание, они со временем составили среднее звено феодальной иерархии: правители областей landhyrde (в Дании) [378, с. 23]; управители в королевских поместьях — bryti, arma?r, следившие за охраной порядка, сбором штрафов, устройством пиров для конунга; сходные функции выполнял umbottsma?r (древнерусское «ябетник»), управляющий поместьем, в котором владелец постоянно не проживал [F. XIV, 1]. Опираясь на выделенный из дружины раннефеодальный государственный аппарат — брюти, арманов, лендрманов, распоряжаясь значительными средствами королевского домена и выросшими из племенных приношений фискальными поступлениями, располагая постоянной и квалифицированной военной силой, конунг мог успешно решить задачу соглашения с tignir menn, знатью. Сохраняя старые титулы ярлов, херсиров, хавдингов (а порою, по воле конунга и меняя социальный статус), они превращались в королевских ленников, получая иной раз прежний, традиционный объем прав, — по с обязанностью выставлять конунгу войско и выплачивать дань. Основное, среднее звено вассальной иерархии, непосредственно связывавшее конунга с податным населением области, округа (херада) — лендрман. Звание lendr ma?r впервые появляется в скальдической поэзии в первой половине XI в. [47, с. 137, 250]; Сигват Тордарсон (ок. 1038 г.) называет лендрманов greifar — «графы», этим заимствованием (англ. gerefa, нем. Graf) словно подчеркивая феодальный характер нового титула. Источником власти лендрмана было королевское пожалование: lends manns rett — «право лендрмана, полученное от конунга», включало lan ok yfirsokn — «лен (вейцлу) и управление», прежде всего — сбор в свою пользу податей, landskyld, до пожалования причитавшихся конунгу. Лендрман был обязан предоставлять конунгу определенное количество воинов, содержать их за счет получаемой вейцлы, а при сборе ледунга — руководить народным ополчением. По нормам XIII в. лендрману подчинялось 40 дружинников, huskarlar (Hir?skra, 35). Дискуссия о численности лендрманов «Хирдскры» длится более ста лет; их количество в Норвегии определяли в пределах от 20–30 до 120 человек. Ведущий советский исследователь скандинавского средневековья А.Я.Гуревич, основываясь на собственном анализе письменных данных, полагает, что количество королевских вассалов было, безусловно, больше трех десятков, и если и не достигало 120, то «во всяком случае, оно было довольно значительно» [47, с. 138]. Можно допустить, что в Норвегии XI–XIII вв. одновременно функционировали 60–70 лендрманов, управлявших 2500–3000 дружинниками (при численности ледунга в 12–13 тыс.). Аналогичные отношения для Швеции дадут ту же картину (12 тыс. — ледунг, следовательно, около 3 тыс. дружинников при 60–70 лендрманах). В Дании соответствующие показатели — в три раза больше (35 тыс., 9 тыс. и 250 человек). При этом общая численность датского «королевского войска» (9 тыс.) совпадает с предельной вместимостью королевских крепостей, так называемых «лагерей викингов» конца X в. (Аггерсборг — 3000–4500 воинов, Треллеборг, Фюркат и Ноннеберг — по 1000–1500 воинов). Общая численность феодального класса Норвегии, Швеции и Дании не превышает 12–15 тыс., из них не более 400 — лендрманы, находящиеся в вассальной зависимости от конунга, а остальные — воины-профессионалы, дружинники, состоящие на службе у лендрманов. В первой половине XI в. в основном завершилось формирование этой раннефеодальной общественной структуры во всех скандинавских странах. Данные письменных памятников в сочетании с немногочисленными руническими надписями эпохи викингов позволяют констатировать, что к этому времени конунги добиваются единовластного контроля над территорией своих стран; подчиняют и в значительной мере перестраивают административную структуру; обеспечивают регулярное поступление налогов, платежей и повинностей, выступающих в виде начальной формы феодальной эксплуатации; создают иерархически организованную военную силу и обеспечивают ее частью изымаемого у бондов общественного продукта. Сложившаяся в конце IX — первой половине XI в. общественная система представляет собою особый, отмеченный еще К.Марксом вариант феодального строя, характеризующийся ленами, состоящими только из дани; исследования советских ученых подтвердили справедливость и обоснованность этой характеристики [226, с. 9–12, 87–99; 227, с. 52–53, 258, с. 76]. Созданный на этой основе феодальный класс был немногочисленным по сравнению с воинскими контингентами ледунга или «движения викингов». 12–15 тыс. профессиональных воинов, обеспеченных королевскими вейцлами, не в состоянии были успешно продолжить экспансию викингов, да и не слишком нуждались в завоеваниях, в изнурительной борьбе с рыцарством других стран. Для решения же внутриполитических задач этих сил было вполне достаточно. Новая общественная структура в письменных источниках фиксируется лишь в XI в., уже в сложившемся виде. Динамику ее формирования в IX–X вв. можно представить только на основе археологических данных. Соотношение этих данных для разных скандинавских стран будет различным. В Норвегии (а именно исландско-норвежские письменные памятники составляют основной фонд древнесеверных исторических источников) наиболее детально изучен процесс сельского расселения [370; 374; 323; 361; 382]. Изданы материалы норвежского «вика», Каупанга-Скирингссаля [292], однако сам этот центр значительно менее репрезентативен, чем шведская Бирка или датский Хедебю. Всемирно известные «королевские курганы» с погребениями в кораблях (Усеберг, Гокстад, Туне) [297; 366; 391] дают важный материал для истории королевской династии Вестфольдингов [296]. Массовые норвежские погребения изучены значительно менее систематично [390]. Таким образом, норвежские памятники позволяют детально проследить формирование усадебной системы, характеризующей положение бондов и в IX–XI вв. сравнительно стабильной, и дают яркие, во многом уникальные данные о погребальном обряде высшей знати, однако эти данные необходимо рассматривать в более широком контексте. Такой контекст для эпохи викингов создают прежде всего материалы шведского торгового центра IX–X вв. Бирки [269]. Их анализ на фоне всей совокупности древностей Швеции [399] позволяет выделить некоторые общие закономерности развития погребального обряда и стоящих за ним социальных изменений [109; 319]. Датские древности, систематизированные в сводной работе И. Брендстеда, недавно стали объектом новаторского исследования датского археолога К.Рандсборга, результат которого — реконструкция социально-экономических аспектов процесса образования государства [300; 378; 380]. Социально-политические процессы, изменения общественной структуры, производные от базисных социально-экономических, наиболее детально могут быть восстановлены по изменениям системы взаимосвязанных типов и вариантов погребального обряда, «ансамбля некрополя»; типы ритуала, восстановленные по материальным остаткам, отражают эволюцию определенных социальных норм, конституирующих те или иные общественные группы [110, с. 24–31]. Ансамбль некрополя скандинавов эпохи викингов объединяет несколько разновидностей более или менее массовых (статистически характеризуемых) вариантов и типов обряда: кремации типа А (в урне); В (в ладье); С (без урны, на кострище); ингумации типа D1 (в грунтовой могиле, в гробу); в погребальных камерах — типы D2, Е, F; в ладье (производный от вендельского обряда Vt тип Bg, и подкурганные погребения типа Nt). Каждый тип и вариант обряда характеризуется особым набором признаков, относящихся к виду погребения (кремация — ингумация), способу захоронения (в урне, гробу, камере и т. д.), конструкции погребального сооружения (размеры и структура насыпи, грунтовой могилы), составу и размещению погребального инвентаря. Материальные признаки, наблюдаемые археологами, есть не что иное как результат целенаправленных действий («ступеней ритуала»), состав, последовательность и количество которых позволяет, во-первых, связать типологически родственные варианты обряда в цепочки типов; во-вторых, определить тенденции их развития (усложнение или упрощение ритуала); в-третьих, выделить хронологические пласты, отражающие изменение социальных норм в раннюю, среднюю и позднюю эпохи викингов. За пределами рассматриваемой совокупности погребальных памятников остаются «королевские курганы» Норвегии, сосредоточенные главным образом на юге страны и связанные единым ритуалом в особую группу «погребений в корабле», тип Sg. Эти комплексы следует рассмотреть каждый в отдельности: Гуннарсхауг (или Сторхауген) в Рогаланде, самое раннее из погребений типа Sg (VIII в.). Под курганом высотой 6 м, диаметром 40 м в яме длиной более 20 м находился корабль, ориентированный с севера на юг. Вокруг корабля — защитная каменная кладка. В средней части судна устроена погребальная камера; среди разнообразных вещей — богатое оружие. Грёнхауг (там же, поблизости) — разграбленный курган аналогичной конструкции; оба, видимо, связаны с династией местных конунгов, одному из которых, противнику Харальда Прекрасноволосого, народная молва и приписывает «курган Гуннара», Гуннарсхауг [362, с. 67–79]. Усеберг в Вестфольде (дата по C14 760 плюс/минус 60). Курган высотой б м диаметром 44 м; корабль в основании насыпи перекрыт защитной каменной кладкой. В средней части судна — погребальная камера с захоронением двух женщин (около 30 и около 60 лет). Погребение сопровождали захоронения 14 лошадей, 4 собак и быка. Исключительно богатый сопроводительный инвентарь включает кровати, кухонную утварь, сундуки и бадьи, постели, украшения, ручной ткацкий станок, украшенные резьбой сани и четырехколесную повозку. Этот курган приписывают Асе, дочери конунга фюлька Агдир, Харальда Рыжебородого, жене конунга Вестфольда Гудрёда Великолепного, матери конунга Хальвдана Черного, бабке Харальда Прекрасноволосого. Гокстад в Вестфольде, середина — вторая половина IX в. Курган высотой 5 м, диаметром до 50 м скрывал яму, в которой находился корабль длиной 20 м, ориентированный с севера на юг. В средней части — погребальная камера, в древности разграбленная. По бортам висело 32 щита, вдоль бортов — костяки 12 лошадей и 6 собак. Сохранившийся в камере скелет высокого мужчины (рост 178 см), страдавшего хроническим суставным ревматизмом, идентифицируют с конунгом Олавом Гейрстадальфом, сводным братом и соправителем Хальвдана Черного (по Снорри, он был высокого роста и умер от «болезни ноги» [Сага об Инглингах, 49]). Туне в Остфольде, середина X в. Глиняная насыпь высотой 4 м и диаметром 80 м перекрывала установленный в основании корабль, ориентированный с северо-северо-востока на юго-юго-запад. Погребальная камера помещалась на корме, здесь находились скелеты человека и лошади; могила разграбленная. Ладбю (Дания). Единственное известное за пределами Норвегии погребение типа Sg — курган X в. представляет собою позднюю модификацию норвежского погребального обряда [408]. Королевские ингумации в кораблях маркируют статус высшего слоя раннефеодальной иерархии (использовавшей при этом вендельскую традицию). Основной слой этой иерархии в эпоху викингов представлен ритуалом камерных погребений, в Бирке образовавших сложную иерархию типов F-E-D2. В этом обряде континентально-германские традиции объединены с некоторыми вендельскими элементами и дружинно-торговыми атрибутами сожжений в ладье. Примерно сотня камерных могил Бирки документирует существование новой господствующей группы, иерархически организованной, вооруженной, контролирующей важнейшие функции шведского вика. Аналогичная ситуация — в Хедебю, где письменные источники позволяют связать камерные могилы с дружиной шведских конунгов-викингов и где открыта уникальная так называемая «ладейно-камерная могила» (Bootkammergrab), объединяющая черты нового дружинного обряда с ритуалом старой племенной знати; [263, с. 61–115; 334, с. 141–144]. В целом камерные погребения эпохи викингов должны быть отождествлены с общественным слоем, обозначенным в источниках IX в. (современных зарождению ритуала) как primores (potentes, principes, fidelibus — «могущественные», «знатные», «верные» (конунгу)), с теми, кто составлял совет при короле, congregatio, consilium [Rimbertus, X, XV, XXIV]; эквивалентом в скандинавской социальной терминологии может быть прежде всего gri?, hir? — «королевская дружина». Эта атрибуция сейчас не вызывает принципиальных возражений и у скандинавских исследователей могильника Бирки [109, с. 151–156; 319, 79–80]. Наряду с обрядами, представляющими королевские династии, племенную знать, раннефеодальный слой и широкие общественные группы, культивирующие либо языческие, либо христианский ритуал типа D1, в эпоху викингов распространяются сравнительно массовые обычаи подкурганного сожжения в ладье типа В (исследовано свыше 200 погребений), и типа Nt (ингумация мужчин с оружием в ладье; изучено свыше 80 курганов в Норвегии). Динамика развития обоих обрядов, типа Nt в Норвегии и типа В в Швеции, тождественна: резкий рост числа могил в начале эпохи викингов; число комплексов IX в. равно, если не превышает количество могил X в.; в XI в. эти обряды исчезают. Хронология, характер ритуала, концентрация в районах особой активности викингов позволяют связать эти ритуалы с дружинами викингов как особой социальной средой [106, с. 181–185]. Память об этой связи сохранилась в «Хеймскрингле»: описывая смерть первого из названных по имени «морских конунгов», saekonungr, Хаки, Снорри повествует: «Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормило, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки» [Сага об Инглингах, 23]. Ритуал погребения «морских конунгов», предводителей викингов, очень близок документированному археологически. «Хеймскрингла» донесла до нас, отнеся его, правда, к эпическим временам, некий фрагмент системы ценностей викингов как самостоятельной общественной группы. Тенденция к выделению военной организации, со временем консолидирующейся вокруг конунга, выявляется и в Дании. Сравнительно скромные погребения с оружием IX в. в X в. сменяются «курганами воителей», с погребальными камерами, верховым конем, набором оружия. Эти могилы сосредотачиваются вокруг Еллинга, резиденции конунга Горма Старого. К.Рандсборг расценивает их как памятники нового господствующего слоя организованного в виде вассальной иерархии вокруг «еллингской династии», возглавившей раннефеодальное Датское государство [378, с. 127–129]. Значительно полнее, нежели в сфере погребального ритуала, исследована деятельность этого слоя в области социальной и политической организации [378, с. 66–102]. В Дании впервые были выявлены и изучены сельские поселения особого типа, связанные с выделением раннефеодальной верхушки. В западной Ютландии, на поселении Форбассе, раскопаны постройки V в обычного сельского облика. В эпоху викингов жизнь здесь возобновилась" появились характерные длинные дома и полуземлянки. Во второй половине — конце X в. облик поселения резко меняется: выделяются три огромные «магнатские усадьбы» с просторными, огражденными заборами дворами (120х200 м) в центре которых большие комфортабельные дома «треллеборгского типа» (парадная зала с открытым очагом — посередине, и жилые комнаты — в торцах). В самой крупной из усадеб близ главного дома находились мастерские кузнецов и ювелиров, по периметру дворов — хозяйственные и жилые постройки. Размеры и структура «магнатских усадеб» характеризуют новый слой крупных земельных собственников, распоряжающихся значительными ресурсами, помощниками и слугами. В 70 км севернее Форбассе открыта подобная же группа усадеб в Омгорд (также сменившая обычное сельское поселение IX в.). С «магнатскими усадьбами» связаны (или возникли на их основе) так называемые «лагеря викингов», точнее, королевские крепости Аггерсборг, Треллеборг. Как и «могилы воителей X в.», магнатские усадьбы тяготеют к Еллингу, политическому центру Датской державы. Опираясь на формирующийся раннефеодальный господствующий слой, конунги еллингской династии приступили к созданию новой административной структуры, центрами которой стали возникшие в позднюю эпоху викингов датские города. Первые протогородские центры, Хедебю и Рибе в южной Ютландии, возникли в VIII в.; в IX в. их развитие продолжается, при этом Хедебю выдвигается на первое место. Рибе, Оденсе на о. Фюн и затем Орхус в северо-восточной Ютландии, представляют собой городские центры «второго ранга»: во всех этих городах во второй половине X в. были основаны первые епископаты. Пути, связавшие города Дании между собою, скрещивались в Еллинге; через него же проходил «Ратный путь», центральная магистраль, соединявшая юг и север страны и завершавшаяся в Виборге — тинговом и культовом центре на севере Ютландии. В первом десятилетии XI в. датские конунги основали Роскильде в Зеландии и Лунд в Скопе. Хедебю, Орхус и Лунд становятся основными центрами, вокруг которых группируются Рибе, Биборг, Оденсе и Роскильде. Для конца эпохи викингов, используя сведения Адама Бременского, Рандсборг выделил городские функциональные характеристики 18 центров. 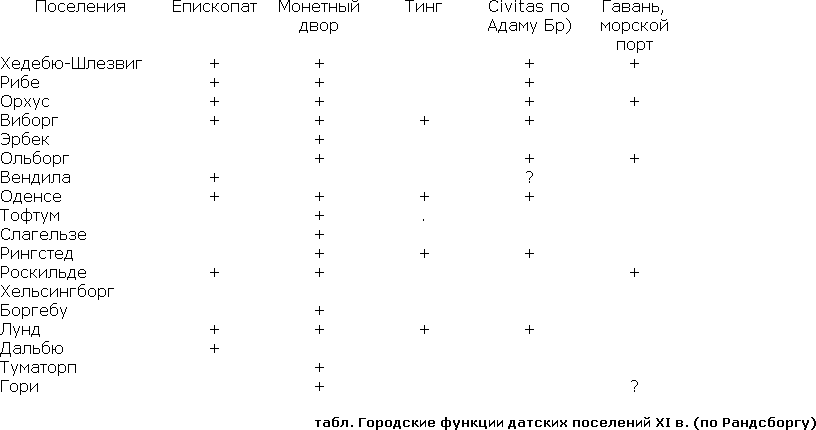 Полного набора функций, суммированных Рандсборгом, нет ни у одного из датских поселений. Четырьмя из пяти признаков располагают 6 центров: Хедебю-Шлезвиг, Орхус, Виборг, Оденсе, Роскильде, Лунд. По три признака — у Рибе и Ольборга, два — у Рингстед, по 1 — у 9 пунктов. Последние, видимо — королевские усадьбы, где эпизодически производилась чеканка монеты. Группа таких усадеб, известных по топониму «Хусбю» дополняет картину административной структуры еллингского государства. Важным элементом этой структуры были так называемые «лагеря викингов», круглые крепости, построенные по единому образцу и одновременно; Аггерсборг в северной Ютландии, Фюркат — в северо-восточной, Треллеборг — на западе Зеландии; вал Ноннебакен в Оденсе свидетельствует, что и этот город был когда-то «круглой крепостью»; видимо, та же ситуация — в Орхусе. Все они контролировали узлы важных путей. Сложилась историографическая традиция связывать «лагеря» с походами Свейна и Кнута 1003–1015 гг. Установлено, однако, что все крепости построены при Харальде Гормссене во второй половине X в., ни одна из них не функционировала после 1000 г. Расположенные по периметру основной области еллингского королевства, они обеспечивали его безопасность и контроль над окраинными провинциями и торговыми путями. Крепости располагали мастерскими, кладовыми, они были центрами ремесла, торговли, таможнями, а может быть и монетными дворами, играя роль экономического регулятора провинции и в то же время — выкачивая из нее продукцию, отчуждаемую в пользу центральной власти. Построенные по строгому плану, с небывалой геометрической четкостью застройки, архитектурными средствами они выражали мощь этой власти. Ворота — на все четыре стороны света, готовые послать королевскую рать навстречу любому врагу или непокорным; дома «треллеборгского типа», с ладьевидно изогнутыми стенами, наружными галереями, высокими кровлями, были самыми внушительными постройками своего времени. Вместе с валом Даневирке («Деяние датчан»), заложенным еще на рубеже VIII–IX вв. и реконструированным в 955–968 гг. (по дендродатам), крепости образовали единую оборонительную систему, завершившую важный этап государственного строительства, когда при Харальде Синезубом Дания обретает статус раннефеодального христианского государства. Фундамент этого государства закладывался, безусловно, в дохристианские времена. Древняя резиденция датских конунгов, Лейре в Зеландии, еще в X в. функционировала как языческое святилище. Те же функции первоначально выполнял Еллинг, фактическая столица Дании X в. Курган конунга Горма и его жены Тюры входил в состав монументального комплекса, оформлявшего языческое святилище (после принятия христианства при Харальде скрытое под второй земляной насыпью). Ядро первоначальных государственных территорий и в Дании, и в Швеции, и в Норвегии насыщено топонимами с именем Одина. И это — еще одно свидетельство длительного, на протяжении всей эпохи викингов, вызревания политического, социального, экономического потенциала сил, во главе которых на рубеже IX–X вв. встали королевские династии, возводившие свой род через легендарных Инглингов к Одину, верховному богу викингов. Деятельность этих династий подчинена одним и тем же целям, и пользуются они сходными средствами. Как и в Дании, норвежские конунги основывают в XI в. новые города: Нидарос (Олав Трюггвассон), Осло (Харальд Суровый), Берген (Олав Тихий). В Швеции в то же время были основаны Сигтуна, Скара, Сёдертелье, которые Адам Бременский назвал, как и датские города, civitates [89, с. 35]. Строятся и крепости: на шведско-норвежской границе Олав Святой основал Сарпсборг, но не идеально круглую, а более примитивную, мысовую, крепость [Сага об Олаве Святом, 61]. Разрастается королевский домен, закрепленный административными центрами husabu — «королевскими усадьбами». Древнейшие из них — Лейре и Еллинг в Дании, Конунгахелла в Норвегии, Упсала в Швеции — были не просто родовыми гнездами, но традиционными святилищами, опираясь на которые верхушка правящего класса прошла своеобразную эволюцию, от прямых потомков языческих богов до «святых королей» средневековья. Генеалогия скандинавских конунгов, лежащая в основе композиционной структуры «Хеймскринглы» Снорри Стурлусона, соединяет в себе качества исторического источника и литературного памятника, восходящего к эпохе викингов (Снорри опирался на «Ynglingatal», скальдическую песнь середины IX в.), но полностью оформившегося лишь в XIII в. Родословие Инглингов делится на три пласта. Древнейший, отраженный в поэзии скальдов, «Эдде», систематизированный в «Саге об Инглингах» — мифический: он открывается именами Одина (Рига) и других асов, как создателей социального устройства, первоправителей. Этот пласт, при всей своей архаичности сравнительно поздний (как и культ Одина — Вотана в его скандинавском варианте), соприкасается с общегерманскими религиозными представлениями римской эпохи (Ингви-Фрейр, ср. Инге у Тацита), но формироваться он начал, видимо, в самом конце ее. Аллитерированная пара «Данп и Дан» (родоначальники данов, по хронологии Снорри жившие примерно в IV в. н. э.) несомненно связана с гидронимами Днепр и Дон, это сочетание могло появиться только после германо-сарматских контактов в Причерноморье (II–IV вв.). Таким образом, мифическая часть генеалогии соприкасается и переходит в эпическую, давшую основной фонд героических песен «Эдды». Эпический пласт генеалогии скандинавских конунгов, несомненно, содержит имена вполне исторических лиц, связанных с междоусобными войнами, переселениями, созданием племенных союзов [201, с. 654]. Принятая хронология, основанная на «Беовульфе» и других источниках (Григорий Турский), видимо, несколько растянута. События «гаутско-свейского» эпического цикла могут быть отнесены к первой половине VI в. Следующие два цикла, «датский» (предания о Хрольве Жердинке) и «свейский» (Ингьяльд Илльроде), относительно более поздние (до 650 г.). Ингьяльдом Коварным завершается династия Инглингов в Свейской державе эпических времен. Сказания о борьбе этого упсальского конунга с конунгами независимых местных «сотенных областей» (Фьяртюндаланда, Аттундаланда и др., составивших в XIII в. среднешведскую провинцию Упланд) точно соответствуют реконструкции событий, основанной на археологических материалах: племенной союз эпохи Великих курганов (VI — начало VII в.) распадается после 650 г., сменяясь мелкими королевствами родоплеменных «династий» вендельского периода. Вплоть до этого времени нет известий о норвежских конунгах, а когда они появляются, то речь идет только о конунгах отдельных фюльков. Вестфольдинги (породнившиеся с Инглингами через Олава Лесоруба, сына Ингьяльда, изгнанного из отчих владений) оставались одной из таких мелких династий, пока Харальд Прекрасноволосый не поклялся «завладеть всей Норвегией». Видимо, похожая ситуация сложилась и в Дании VII–VIII вв. Легендарный Ивар Широкие Объятия, от которого «произошли конунги датчан и шведов, те, которые были единовластными в своей стране» [Сага об Инглингах, 41] соединяет эпическую часть генеалогии с исторической. Область, связанная с его именем (от Восточной Англии до «Восточных стран», Austr), довольно точно соответствует первоначальной зоне активности викингов; этот образ можно считать персонифицированным выражением наступившей эпохи. Викингом был и современник Ивара, конунг Вестфольда Хальвдан Щедрый на Золото и Скупой на Еду: «Рассказывают, что его люди получали столько золотых монет, сколько у других конунгов люди получают серебряных, но жили впроголодь. Он был очень воинствен, часто ходил в викингские походы и добывал богатство» [Сага об Инглингах, 47]. Современником этих конунгов был король Дании Готфрид, в 800–810 гг. опустошавший земли фризов и балтийских славян, создатель «Датского вала» и воинственный противник Карла Великого. После его смерти франкам удалось крестить датского конунга Харальда Ворона (из другой династии), и затем до середины X в. следов централизованной королевской власти в Дании не выявляется. В 850-х годах юго-западную Ютландию превратил в независимое владение Рерик (которого отождествляют с Рюриком «Повести временных лет») [186, с. 299]; вскоре после этого шведский викинг Олав захватил Хедебю, где его потомки оставались конунгами вплоть до первой половины X в. Шведские конунги первой половины — середины IX в. известны только по Vita Anskarii. В Норвегии Вестфольдинги именно в это время создают пышный обряд погребений в корабле (курганы Асы и Олава Альва Гейра); подобные погребения были совершены и для конунгов в некоторых других фюльках. В целом же ранняя эпоха викингов (793–891) характеризуется низкой активностью скандинавских конунгов; если они и проявляли се, то во главе викингских дружин, сливаясь с десятками других вождей викингов за пределами Скандинавии; в общественно-политической жизни они выступают как группа, подчиненная доминирующей социальной силе — движению викингов. Рост этого движения выдвигал новых вождей, «щедрых на золото и скупых на еду», и далеко не всегда они принадлежали к племенным королевским династиям или родовитой знати. Лишь постепенно в этой стихии вольных дружин выкристаллизовались новые военные силы, и возглавившие их предводители, прежде всего — конунги из авторитетных старых династий, смогли подняться над когда-то равными им по рангу и происхождению конунгами всех остальных ландов и фюльков, превратившись в единовластных королей средневековых государств. Средняя эпоха викингов, как и поздняя, совпадает с основной, исторической, частью генеалогии скандинавских конунгов. Короли, которые впервые возглавили объединенные государства, Харальд Прекрасноволосый, Эйрик Энундссон, Горм Старый были, в общем, современниками; они действовали в конце IX — первых десятилетиях X в. В их деятельности много общего. Социальный тип конунга-реформатора, конечно, в реальных своих характеристиках с трудом выявляется сквозь стереотип созданного мышлением XII–XIII вв. образа. Тем не менее можно утверждать, что для всех этих конунгов типично упорное, последовательное претворение в жизнь намеченной однажды программы. Шаг за шагом Харальд сокрушает сопротивление конунгов мелких фюльков. Подчинив или уничтожив родовую знать, конунг-реформатор создает основы новой структуры управления.
Система вооруженного вассалитета (возможно, несколько модернизированная в изложении Снорри) в конце IX — начале X в. возникла не только в Норвегии; в Дании Горма Старого Еллинг превращается в столичный центр, окруженный «магнатскими усадьбами», где сидели служилые люди короля; в Швеции появляется иерархия камерных могил Бирки, в которой мы вправе видеть отражение военной организации, служившей опорой шведским конунгам, к этому времени объединившим страну и добившимся контроля над Эландом, Готландом, Блекинге, Всстеръёталандом [King Alfred's Orosius]. Королевская дружина вобрала в себя лучшие кадры викингов: «Харальд-конунг брал в свою дружину только тех, кто выделялся силой и храбростью и был во всем искусен» [Сага о Харальде Прекрасноволосом, 9]. Однако исчерпать весь потенциал движения викингов конунги были не в состоянии. «Самодействующая вооруженная организация» [3, с. 170] сохранялась и продолжала функционировать. По мере усиления своей власти, конунги вступают с викингами в борьбу.
Противоборствуя с различными социальными силами — родовой знатью, общинным самоуправлением бондов, дружинами викингов, конунги-реформаторы методично и успешно добивались интеграции племенных областей. Создание государственных территорий Дании, Норвегии, Швеции стало первой политической реализацией нового экономического и социального потенциала, появившегося в результате успеха походов викингов 793–891 гг. Процесс образования этих государств еще не завершился к 940 г., но прошел уже свою начальную стадию. Силы, противостоявшие конунгам, во многом сохраняли свои позиции: продолжали функционировать традиционные племенные центры, языческие святилища; подчинявшаяся королю знать помнила о своих старых правах и не упускала случая восстановить положение (сохраняя при этом и новые созданные военно-административной организацией возможности). Подчиняя страну, конунги-реформаторы стремились поставить себе на службу прежде всего уже имеющийся традиционный племенной аппарат (новый еще предстояло создать). Функция верховного языческого жреца, предводителя народного ополчения сохранялась за конунгом. Но соответственно сохранялась и основа общественной организации, порождающей движение викингов, сохранялось равновесие социальных сил, и это положение не менялось до конца средней эпохи викингов [891–980 гг.]. Поздняя эпоха викингов (980-1066) — время стабилизации северных королевств после нескольких этапов борьбы за первенство, проявившейся в попытках создания Северной державы при Кнуте Могучем, Магнусе Добром и Харальде Суровом. Правящие династии, породнившиеся между собою и со многими правителями соседних стран, составили как бы единый королевский род, силой оружия урегулировали взаимные претензии и, опираясь на военно-вассальную организацию, поставили под контроль народное ополчение — ледунг, а в значительной мере и силы викингов, с которыми многие конунги X–XI вв. были тесно связаны. Это время выдвинуло новый яркий тип деятелей, объединенных общими ценностными установками и сходным способом действий; в советской литературе им дано определение конунги-викинги [47, с. 90–91; 77, с. 18; 118, с. 44–53]. Жесткая связь с военной организацией; радикальность действий (не всегда успешных); последовательная и жестокая борьба со всеми элементами племенного строя (старой знатью, общинным самоуправлением, обычаями и законами, языческими культами, и наконец, богами), — вот типические черты их деятельности. Конунги-викинги Олав Трюггвасон, Олав Святой, Харальд Суровый — это конунги-миссионеры, силой оружия утверждавшие на Севере новую религию и новые порядки. Время их правления — всегда время резких, хотя порою непрочных, перемен, знаменовавших качественные сдвиги в процессе становления государства. Конунгов-викингов периодически сменяли правители иного типа, конунги-конформисты: они отличались склонностью к компромиссам, готовностью отказаться от некоторых достижений своих предшественников, религиозной терпимостью. Но именно они поставили под контроль военную силу ледунга (Хакон Добрый), кодифицировали обычное право в сохранявшихся до XIII в. Законах Гулатинга и Фростатинга (Хакон), судебнике Gragas (Магнус Добрый), резко увеличили численность королевской дружины и создали гильдейскую организацию купечества (Олав Тихий). В напряженной обстановке, созданной репрессиями и террором конунгов-викингов, эти правители совершали осторожные, но дальновидные преобразования, определявшие раннефеодальное общественное устройство северных стран. «Добрые», «Спокойные», «Мирные» конунги, сменявшие конунгов-викингов, закрепляли достижения своих воинственных предшественников и готовили почву для столь же активных преемников. Шло количественное накопление изменений, подготавливавшее качественные преобразования на пути феодализации скандинавских стран. В Дании и Норвегии этот процесс завершился примерно одновременно, около 1066 г., после гибели последнего из конунгов-викингов, Харальда Хардрады. В Швеции — позднее, при новой династии, основанной в 1056 г. гаутским ярлом Стейнкилем (сыном Рагнвальда, родича и наместника в Ладоге киевской великой княгини Ирины-Ингигерд, дочери Олава Шетконунга и жены Ярослава Мудрого). На протяжении XI в. проходило формирование новой общественной структуры, в рамках которой военно-территориальная организация бондов была подчинена военно-феодальной организации королевской власти, а для дружин викингов как особой формы социального движения в конце концов не осталось места. В итоге этого диалектического процесса была решена главная задача общественного развития: как писал о специфике становления классового общества в Скандинавии Фридрих Энгельс, здесь «родовая организация переходила в территориальную и оказалась поэтому в состоянии приспособиться к государству» [3, с. 150]. Страны Северной Европы стали классическим примером того, как «органы родового строя постепенно отрываются от своих корней в народе, в роде, во фратрии, в племени, а весь родовой строй превращается в свою противоположность: из организации племен для свободного регулирования своих собственных дел он превращается в организацию для грабежа и угнетения соседей, а соответственно этому его органы из орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения, направленные против собственного народа» [3, с. 164–165]. Этот процесс в северных странах начался, в виде «Державы Инглингов», в середине I тыс. Вендельский период, еще пронизанный родовыми отношениями, сменяется эпохой викингов, когда инициатором общественного развития становится «организация для грабежа соседей». Стимулированные ее деятельностью процессы ведут к кристаллизации нового господствующего класса, вступающего в противоречие с «самодействующей вооруженной организацией населения», народным ополчением бондов. К концу эпохи викингов королевская власть, опираясь на систему военного вассалитета, контролирует территориальную организацию бондов с ее вооруженной силой, выступая как стоящее над этой организацией государство. «Эта особая публичная власть необходима потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы… Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые были не известны родовому устройству общества» [3, с. 170–171]. Вооруженные люди, объединенные иерархической организацией, королевские крепости с сосредоточенными в них гарнизонами, и другие «вещественные признаки» государства, особой публичной власти, появляются уже в X в. Следовательно, именно в течение эпохи викингов в скандинавских странах начинается, разворачивается и — в основных своих чертах — завершается процесс образования классового общества и государства. Принципы марксистско-ленинской методологии, примененные к исследованию скандинавского историко-археологического материала, позволяют обосновать и раскрыть историческое содержание эпохи викингов в Северной Европе как периода становления классового, раннефеодального строя. Перестройка социальных отношений, завершившаяся созданием государственности, связана с перераспределением не только экономического, но и культурного потенциала общества, его материальных и духовных ценностей. 5. Северная торговля. Вики Образ викинга, жестокого и отважного морского разбойника, грабителя и убийцы, надолго заслонил в глазах европейцев (не только средневековых хронистов, по и историков нового времени) другие грани эпохи. Лишь в XX в., и особенно в последние десятилетия, в научной литературе стала осознаваться парадоксальная на первый взгляд ситуация: эпоха бури и натиска, военных опустошений и грабежей, была одновременно эпохой активного экономического строительства, создания прочной системы трансконтинентальных коммуникаций и центров, расцвета международной, устойчивой и многосторонней «северной торговли» [334, с. 17–46, 161–242; 336, с. 310–312; 328, с. 142; 85, с. 81–82]. Города, пути, транспортные средства для этой торговли были те же, что и для военных походов викингов. Оба вида деятельности разворачивались на одной и той же арене. Основные же предпосылки для северной торговли сложились задолго до эпохи викингов, и вне Скандинавии. В течение всего VII в. происходит последовательный подъем экономики северо-восточных областей Франкского государства. Наряду с мелкотоварным крестьянским хозяйством и ремеслом (сукноделие у фризов) возобновляется городское производство гончарной керамики, стекла, железных изделий. Рейн, Шельда, Маас приобретают значение важных торговых путей. Здесь возникают центры, известные под латинско-германским названием vicus (герм. Wik, в значении «порт, гавань, залив»). Уже в VIII в. они играют заметную роль в экономике, в некоторых из них начинается чеканка монеты. Франко-фризская торговля втягивает в свой ареал Британию, Ютландию, Скандинавский полуостров, достигает Ладоги [55, с. 54–63; 266, с. 238; 272, с. 40]. Формируется западная ветвь морских торговых путей. В то время начинается движение в восточной части континента, по Волжскому пути. Уже в VIII в. арабское серебро из стран Переднего Востока и Средней Азии, через Северный Кавказ по Волге распространяется далеко на север, достигая обских угров, а к рубежу VIII–IX вв. — Волго-Окского междуречья и Ладоги [59, с. 144–146; 122, с. 9, 19; 249, с. 86–100; 157, с. 96–110]. Складывается восточная ветвь трансъевропейской системы торговых связей. В конце VIII — начале IX в. западная и восточная ветви смыкаются на Балтике образуя уникальный в своем роде «серебряный мост», перекинутый через североевропейский barbaricum, и связавший пространства от Британии на западе до Прикамья на востоке, от окраинных областей Норвегии на севере до причерноморско-каспийских степей на юге Европы. В сложении этой трансконтинентальной системы важную роль сыграли норманны и славяне. В начале IX в. фризские фактории в Скандинавии уступают место норманнским поселениям, таким, как Скирингссаль-Каупанг в Норвегии, Хедебю и Рибе в Дании, Бирка в Швеции. На южном берегу Балтики, в землях славян и балтов, к началу IX в. возникли свои центры — Ральсвик на Рюгене, Менцлин на Пеене, Колобжег и Волин в Поморье, Трузо (Эльблонг) в земле прусов, Зеебург (Гробини) в Курземе, Даугмале на Даугаве. Вместе с Ладогой они завершили оформление циркумбалтийских коммуникаций на раннем этапе. Все более активную роль играют речные пути. Немецкий Гамбург на Эльбе связывал Франкскую империю не только с фризами и норманнами, но и с глубинами западнославянского мира. Возрастает значение Вислы, Немана, Западной Двины, Невы. С подключением к этой водной системе Днепровской магистрали образуется новый канал международного общения — Путь из варяг в греки. Находившиеся на нем города — Новгород, Полоцк, Смоленск, Киев — увеличивают прочность и жизнеспособность системы. Их партнерами со временем становятся города «нового поколения» — Старый Любек, Старгард (Олденбург), Мехлин (Мекленбург), Росток, Шверин, Аркона, Щецин, Гданьск, Сигтуна, Лунд, Орхус, Нидарос, Берген, Осло, — те самые, на основе которых столетия спустя сформируется Ганза. «Северная торговля» конца VIII — первой половины XI в. впервые представляла собой налаженное движение встречных потоков товаров, затрагивавшее так или иначе весь континент и выходившее за его пределы. Западные страны (в первую очередь Франкская империя) вывозили на север серебро и изделия высококвалифицированного ремесла [266, с. 142–156; 334, с. 40–46; 401, с. 468, 474]. Структурно близкий ассортимент товаров экспортировал мусульманский Восток [59, с. 146–148; 401, с. 471–473]. С Севера экспортировалось главным образом сырье; определенное значение имел и транзит товаров. Важнейшей статьей вывоза была пушнина: соболь, горностай, черно-бурая лисица, бобр — из Восточной Европы; меха куницы, белки — из Восточной Европы и скандинавских стран; шкуры оленя, моржа, тюленя — из Скандинавии. Вывозили также мед, воск, лен, выделанные кожи, дерево, янтарь, мамонтовую и моржовую кость. Заметное место в экспорте занимала торговля рабами и рабынями [59, с. 146–148; 334, с. 180–209]. В обмене между славянами и скандинавами зафиксирован вывоз на Север славянской гончарной керамики и ввоз скандинавских железных изделий, каменных сосудов, продукции ювелирного ремесла [348, с. 177–178]. В циркулировании этой массы материальных благ были свои особенности, заставляющие говорить о «торговле» лишь с известными оговорками. Основные товары северного экспорта могли поступать на рынки в результате не экономической деятельности (как дани или военная добыча). Не случайно большое место в этом обращении занимает работорговля [303, с. 174]. Дань мехами («скорою») взимали не только древнерусские князья, но и норвежские хавдинги [ПВЛ, 946 г.; King Alfred's Orosius, Periplus]. Точно так же и встречный поток товаров мог достигать Севера не только в результате торговых сделок; первые партии арабского серебра поступили в Скандинавию, скорее всего, в качестве отмеченной русской летописью «варяжской дани» [171, с. 69]. Военное вмешательство и морской разбой так же, как систематические грабежи торговых центров (они, в частности, привели к запустению Дорестада во второй половине IX в.) [266, с. 14], существенно корректировали динамику обращения товаров. Рабы-христиане так же, как «датское серебро», составляли ощутимый вклад в «северную торговлю», при этом вовсе не зависевший от доброй воли западноевропейских партнеров норманнов. Столь же значительным фактором было, видимо, практически непрерывное перераспределение ценностей в среде самих викингов, осуществлявшееся вооруженной рукой. Эта торговля, сопровождавшаяся высокой военной активностью и еще лишенная твердой правовой основы, порождала своеобразные организационные формы. Временные объединения компаньонов («товарищей»), felag могли создаваться как для торговых поездок, так и для военных походов [142, с. 154]. Структура отношений внутри военной дружины и купеческого товарищества если не совпадала, то была очень близкой. Сложным, внутренне противоречивым и переходным по своему характеру образованием были и центры «северной торговли» — вики [335; 344]. При всей зыбкости и нечеткости структуры, они стали местом кристаллизации качественно новых социально-экономических функций. Здесь концентрировалась торговля и зарождалось ремесло, здесь развивались формы городского самоуправления и права, формировались новые общественные группы — купцы, ремесленники, а на определенном этапе — и раннефеодальный дружинный слой [31, с. 11–17]. И хотя семантическое соотношение wik — vikingr остается дискуссионным [407, с. 101–102; 377, с. 22], историческая взаимосвязь этих явлений бесспорна: оба принадлежат переходной эпохе, воплотили ее генеральные тенденции развития. Вики и структурно близкие им центры развивались, во многом отступая от классической схемы генезиса раннего города: рост земледельческой округи — подъем земледелия — разделение труда, отделение ремесла — развитие обмена, выделение торговли — концентрация ремесленно-торговых функций в неаграрных поселениях [132, с. 140–144]. Межобластной обмен, связанный с различной хозяйственной специализацией разных районов Скандинавии, видимо, уже зарождался в вендельское время. В эпоху викингов, на рынках виков бонды, конечно, охотно покупали местного производства железные изделия и горшки из жировика в обмен на свою сельскохозяйственную продукцию: а она, в свою очередь, пользовалась спросом у фризских и немецких купцов наряду с пушниной или корабельными канатами [314, с. 191]. На основе центров локальной торговли, местных рынков возникли многие города Скандинавии XII–XIV вв. [387, с. 15–17; 89, с. 60–61]. Однако трудно сказать, насколько эти локальные центры определяли динамику торговли в VIII–IX вв., так как археологически такие местные рынки, не связанные с внешней торговлей, не изучены. Рунические надписи, которые косвенным образом (упоминания о строительстве мостов, дорог, переправ) свидетельствуют о налаживании внутренних коммуникаций, появляются лишь в конце эпохи викингов [401, с. 501]. Показательно и происхождение специальных терминов для обозначения местных торговых центров: они заимствованы либо из староанглийского (ceaping = koping), либо из славянского (torg) языков [314, с. 194], т. е. появились уже после расцвета международной «северной торговли», вероятно, не ранее X–XI вв. Основанная прежде всего на внешних связях торговая функция вика предшествовала его функциям как центра развития ремесла [334, с. 161–261], и последнее в течение эпохи викингов так и не обрело законченной цеховой организации. Отсюда — отсутствие прямой преемственности между Виками IX–XI вв. и собственно средневековыми городами Дании, Норвегии, Швеции. Эти обстоятельства заставляют историков делать оговорки о «частичном» отделении ремесла, «особом» развитии международной торговли, выделении «экономически мощного слоя» без его точной историко-социологической атрибуции [235, с. 62–82]. Но подобные оговорки не раскрывают сути явления. Она же заключается в том, что вики, как и «северная торговля», были следствием не только непосредственно экономического развития. Для их расцвета огромное значение имело систематическое поступление на Север значительных материальных ценностей, добытых не экономическим путем. В. известной мере расцвет виков есть результат походов викингов; наряду с торговым оборотом, именно военная добыча составляла устойчивую гарантию процветания этих центров. Суммируя все известные данные и характеристики северной торговли, общества эпохи, викингов и его внешних контрагентов, можно выделить внутренние и внешние факторы, определившие динамику развития виков. Внутренние факторы: — подъём экономики Скандинавии в VI–XI вв.; — вызванный этим подъемом рост могущества родоплеменной знати в VII–VIII вв., создание предпосылок для обмена, налаживание его путей и центров, монополизация внешней торговли родоплеменной знатью, что со временем ведет к обострению противоречия между знатью и свободными общинниками; — экспансия викингов, как способ разрешения этого противоречия; — дифференциация в ходе экспансии ее различных аспектов: а) колонизационного, связанного с общественным слоем бондов и реализованного во второй половине IX — первой половине X в. на Британских островах, в Исландии, в Нормандии; б) торгового, выразившегося в выделении слоя «торговых людей» и организации в XI в. первых купеческих объединений [334, с. 177]; в) военно-феодального, воплощенного в деятельности профессиональных военных дружин, вожди которых основывали новые владения или включались в сложившиеся феодальные структуры других государств; этот слой выступает в конечном счете основным потребителем в сфере северной торговли, а на определенном этапе (около середины X в.) стремится занять в ней господствующие позиции (ср. «торговлю русов», дружинников киевского князя, ежегодно сбывавших в Константинополе собранную дань — Const. Porph., 9) [186, с. 318–342]. Внешние факторы: Западные — перемещение ввиду арабской опасности в VII в. центра Франкской державы на север; — подъем экономики северо-восточной Франции и Фрисландии; — торговая активность фризов в VII — первой половине IX в. Восточные — поступление с конца VIII в. арабского серебра в Восточную Европу; — формирование к началу IX в. Волжско-Балтийского пути; — включение в торговые связи славянских, финно-угорских, балтских племен. Генеральная тенденция, определившая действие всех этих факторов — формирование в Европе раннефеодального строя, с соответствующим перераспределением излишков общественного производства. В передовых обществах (Франкская империя, Византия, Арабские халифаты) этот процесс регламентировался раннефеодальным государством. На периферии феодального мира, в «варварских обществах» Северной и Восточной Европы, накопленные богатства циркулировали более свободно. Если в условиях застойной структуры племенного общества (норманны вендельского периода, саксы перед франкским завоеванием, прусы и пр.) поступавшие ценности монополизировались племенной знатью, то в условиях широкой экспансии, ослабления этой структуры у славян времен расселения в Средней и Восточной Европе и у скандинавов эпохи викингов приток новых средств стимулировал активность обширного «военно-демократического» дружинного слоя, а сами средства — многократно, нередко насильственным путем перераспределялись. Лишь постепенно, в ходе длительной конкурентной борьбы выделились наиболее организованные и сильные коллективы, объединившиеся вокруг могущественных и авторитетных вождей, первых князей и конунгов предфеодальных государственных объединений. Центрами этого перераспределения ценностей, а проще говоря — местами дележа награбленной добычи, даней и выкупов, а также полученных в обмен на эти средства заморских товаров — драгоценностей, украшений, оружия, дорогих тканей, рабов, серебра и прочих атрибутов социального престижа, и стали древнесеверные вики — исторические предшественники городов Северной Европы. Ряд формальных характеристик объединяет все эти «торговые места», или, по определению видного западногерманского археолога — медиевиста Г.Янкуна, «города старшего типа» [336, с. 312]. Вики характеризуются системно связанными признаками: в отличие от городов — столиц областных или племенных территорий, они нередко расположены на «ничейной земле», на пограничье племен и народов (что обуславливало их свободу от юрисдикции местных властей); находясь на важных торговых магистралях, они, как правило, удалены от морского побережья на сравнительно безопасные места; по крайней мере, на раннем этапе вики не имели укреплений, оборонительные валы сооружались по мере роста поселения (в Бирке и в Хедебю они появились лишь в X в.); вики отличались значительной площадью, в несколько раз превышавшей площадь современных им западноевропейских городов; численность населения была непостоянна, пульсирующая в зависимости от торговых сезонов; динамика застройки, на раннем этапе — свободная, с «пятнами селитьбы», постепенно уплотняющаяся, приобретающая регулярный характер с элементами городского благоустройства (мостовые, набережные, колодцы и прочее); вики окружены могильниками с разнообразными вариантами обряда; связанные в массе с чужеродным населением, пришлым, не располагавшим правами на землю в округе, эти могильники теснятся близ виков, накладываясь на территорию поселений; вещественный материал фиксирует сравнительно ранние следы торговой деятельности, местное ремесло организуется позднее, на определенном этапе существования торговых центров; расцвет виков ограничен VIII–X вв., в XI в. они исчезают, сменяясь основанными королевской властью «городами младшего типа», которые со временем перерастают в средневековый правовой город. Сходство структуры объединяет фризские и скандинавские вики и ряд синхронных им западнославянских поселений (Ральсвик, Менцлин, ранний Волин). В Восточной Европе она представлена в так называемых «открытых торгово-ремесленных поселениях» (ОТРП): Ладога, Рюриково городище под Новгородом, Гнездово под Смоленском, Тимерево под Ярославлем [30, 139]. Все они составляли единую систему центров и путей, двигаясь по которой арабское серебро достигало Британии, а изделия ирландских ювелиров — Верхней Волги [274, с. 14; 70, с. 170, 226]. Один из первых виков Скандинавии, Рибе, возник близ западного побережья Ютландии как звено в североморской системе фризско-скандинавской торговли, не позднее середины VIII в. [371, с. 225–268]. Поселение открытого типа было связано водным путем с заливом Северного моря и поддерживало интенсивные контакты с Дорестадом и другими фризскими виками. Рибе сохранял значение и после образования ряда новых виков и городов. В 948 г. здесь (как в Орхусе и Хедебю) был учрежден один из трех первых датских епископатов. Норвежский вик Скирингссаль (Каупанг), как и Рибе был тесно связан с североморскими центрами. Поселение возникло у выхода из Ослофьорда в открытое море, на южной окраине ареала «королевских курганов» Вестфольда, у подножья скалистой гряды, вдоль берега удобной бухты, защищенной цепью островов. С поселением связаны могильники Ламэйя и Бикьхольберг, где раскопано около двухсот погребений [292]. Наиболее ранние комплексы датируются началом эпохи викингов, могил позднее середины X в. — нет. Расцвет Сккирингссаля относится к 870–890 гг. (когда он отмечен в «Орозии» короля Альфреда). Среди могил Каупанга — свыше 100 курганов с сожжениями (в 3-х из них ладейные заклепки, фиксирующие обряд типа В). Серия ингумаций в ладье типа Nt — одна из самых значительных в Норвегии [364, с. 269]. Грунтовые могилы с ингумациями в гробах принадлежат, видимо, иноземному населению: этот обряд в Норвегии эпохи викингов нигде, кроме Скирингссаля. не зафиксирован [291, с. 48]. Сочетание разных вариантов обряда свидетельствует о сложном составе населения, объединявшем норвежцев, выходцев из Швеции, Дании (ингумации в гробах известны в Хедебю), Западной Европы. Скирингссаль функционировал лишь в период поступления арабского серебра (до последней четверти X в.); он был теснейшим образом связан не только с западными (фризскими и английскими), но и с другими скандинавскими центрами, контролировавшими морские пути на Балтике. Эти центры — Хедебю и Бирка, дают основной материал для характеристики северных виков. При этом Хедебю, где планомерными раскопками исследована территория поселения и ближайшие окрестности города [334], позволяет представить динамику развития вика во времени. Бирка, благодаря сведениям о ней в «Vita Anskarii» и систематичным исследованиям огромного могильника [269], представляет важные данные для анализа социальной структуры древнесеверного торгового центра эпохи викингов [347, с. 141–159; 109, с. 141–158; 319, с. 77–86]. Хедебю располагался в самой узкой, южной части Ютландского полуострова, там, где в сушу с востока врезается фьорд Шлей. Речная система Лидер — Треене связывала его с Холлингстедом на берегу Северного моря и позволяла пересечь «ютландский засов» кратчайшим путем между Балтийским морем и Северным. Поселение на Шлей, на берегу бухты Хеддебюер Hoop, возникло в начале VIII в. (может быть, на исходе VII в.) как фризская торгово-ремесленная фактория. Ее следы — небольшое неукрепленное поселение и грунтовый могильник на правом берегу ручья, протекающего южнее «полукруглого вала» Хедебю. Исследованы сожжения в урнах («яйцевидные горшки», типичные для северо-восточного побережья Фрисландии), а также ингумации с южной ориентировкой, которые Янкун датировал VIII в. (они перекрыты могилами с западной ориентировкой и наборами овальных фибул IX в.) [334, с. 126–128]. Это поселение уступило место в начале IX в. новому, быстро приобретающему упорядоченный план и динамично растущему. Ось застройки образовывал ручей (русло его было выпрямлено и укреплено деревянной набережной с мостками), перпендикулярно ему располагались улицы, разделенные на прямоугольные огражденные участки, застроенные сравнительно единообразными прямоугольными домами (в двух случаях отмечен классический stallhaus, с жильем и стойлами под одной кровлей). Размеры построек от 3X3 до 17,5X7 м; они сменяют друг друга на одних и тех же местах. Стабильность застройки свидетельствует о частной собственности на земельные участки в городе (при этом некоторые дома, по наблюдению Янкуна, использовались лишь для сезонного пребывания). Набережные, мостовые и другие элементы городского благоустройства дают основания для вывода об определенной кооперации сил обитателей Хедебю для производства этих работ [334, с. 118–122; 386, с. 30–39]. Много находок, связанных с местным ремеслом: остатки стеклодельной печи (стекло шло на изготовление бус), обильные железные шлака, литейные формы и матрицы. Ремесленники Хедебю владели техникой литья в односторонней форме, с утраченной формой, филиграни и грануляции. Найдены также полуфабрикаты костяных гребней разных стадий изготовления, янтарные изделия и заготовки, а с начала X в. в Хедебю производилась и гончарная керамика. Концентрация всех этих находок на сравнительно небольшом участке позволяет сделать вывод о выделении в X в. особого ремесленного квартала [334, с. 165–174, 251]. Мастера-ремесленники, однако, составляли лишь часть населения этого города. Многочисленные находки, связанные с торговлей, и прежде всего гирьки и монеты, позволяют судить о формировании в среде скандинавского населения Хедебю еще одной новой социальной группы — купцов. По наблюдениям Янкуна, в Хедебю кроме гирек, соответствующих северным мерам веса — марке (204,6 г), двойному эре (49,9 г), эре (24,3 г), эртогу (8,6 г), есть веса 7,8 г, 5,09 г, 2,2 г, 0,2 г, равные или кратные весу найденных в Хедебю монет. Не позднее 825 г. в Хедебю начинается чеканка первых северных монет [358, с. 195, 202]. Мы вправе видеть в «торговых людях» Хедебю творцов денежной системы европейского Севера, инициаторов денежного обращения. В самых ранних культурных слоях широко представлены импорты, вплоть до рейнской и западнославянской керамики [332]. В середине IX в. поселение занимало площадь около 5 га, с запада к нему примыкал могильник, насчитывавший не менее 1000 погребений типа D1 [385; 304]. К югу от него открыто небольшое обособленное кладбище, из 10 камерных могил типа D2, второй половины IX — начала X в. [263, с. 61–115]. Шведский обряд позволяет связать этот памятник с известиями письменных источников о шведском викинге Олаве, захватившем Хедебю. Его сыновьями были Хноба (Кнуб, Chnuba? — известен конунг на Шлей с таким именем) и Гюрд, последним из этого рода был Сигтрюг. В окрестностях Хедебю есть два рунических камня, на которых шведско-норвежским письмом вырезаны надписи: «Асфрид поставила сей памятник по Сигтрюгу, сыну своему и Клуба», и «Асфрид, дочь Одинкара, поставила сей камень по конунгу Сигтрюгу, сыну своему и Кнуба. Горм вырезал руны» [334, с. 87–93]. Кнуб, Гюрд, Сигтрюг, Одинкар, Асфрид, Горм — это имена членов династии, восходящей к викингу Олаву (и связанных с нею людей), во второй половине IX — начале X в. правившей в городе. К ней же относится, несомненно, и такой памятник, как «ладейно-камерная могила», исследованная в 1908 г. Ф.Кнорром [289]. Шведское господство в Хедебю было недолгим. В X в. кладбище с камерными могилами захлестывается городской застройкой, достигшей площади 24 га и окруженной «полукруглым валом» [334, с. 81–82]. В этом состоянии город пережил свой расцвет и встретил упадок. С середины X в. датские конунги устанавливают свой контроль над Хедебю. В 948 г. здесь был учрежден епископат. С представителями королевской администрации, возможно, связаны богатые погребения в курганах близ Хедебю. Один из них стоял севернее вала (здесь в разное время найдены оружие, золотые и позолоченные вещи X в.). Возле другого, с погребением конца X в., стоит рунический камень с надписью: «Конунг Свейн поставил сей камень по Скарду, дружиннику своему, который ездил на Запад, но умер ныне при Хедебю». Второй камень, в память felagi и styrima?r'a Эйрика, поставлен Торольвом — «дружинником Свейна». Конунг Свейн обеих надписей — либо Свейн Вилобородый (995-1014), либо Свейн Эстридссен (1047–1075) [334, с. 91–93]. В борьбе со Свейном Эстридссеном норвежский конунг Харальд Суровый около 1050 г. напал на Хедебю и разрушил город. Из края в край пылал Хедебю — так воспел скальд Харальда гибель датского торжища. Судьбу виков в конечном счете решили конунги. После разгрома 1050 г. Хедебю уже не оправился; его упадок заметен еще в конце X в., а последний удар вику на Шлей нанесли славяне в 1066 г. Во второй половине XI в. функции торгового и административного центра взял на себя возникший к северу от Хедебю Шлезвиг [411, с. 101–113]. Основные этапы развития Хедебю отразили судьбы северных виков в целом. В VIII в. — фризская фактория, контролировавшая выход на Балтику, на первом этапе экспансии викингов (793–833 гг.) Хедебю превращается в скандинавский вик, с пестрым, но культурно однородным населением. В конце IX в. шведские викинги, захватив город, утверждают здесь собственную «династию» и укрепляют вик. Затем власть над Хедебю оспаривают друг у друга датские конунги и германские кайзеры. Город растет, благоустраивается, совершенствует укрепления, организуется, становится центром христианской религии. Наконец, он гибнет — достигнув статуса королевского владения, но не выдерживая конкуренции с новыми городами, основанными конунгом и состоящими под его защитой. Бирка, «старейший торговый город Швеции» [267], прошла путь развития, во многом близкий Хедебю. Вик на оз. Мелар возник еще в пору расцвета Хельгё, поблизости от него, на о. Бьёрко. В северной части острова, над глубоко врезанной бухтой, высится обрывистая скала. На ней находилось городище Borg, окруженное валом с тремя воротами. К северо-востоку от Борга расположены еще две бухты. Название одной из них, Kugghamn, от фризского kugg — «корабль», видимо, связано с торговой активностью фризов. Вторая, «Крестовая гавань» Korshamn, возможно, напоминает о христианской миссии Анскария в 830 и 852 гг. От Куггхамна и Корсхамна до Борга, вдоль береговой линии протяженностью 600 м, лежит знаменитая «Черная Земля», Svarta jorden, или Bystan — «поселение» (площадь, занятая культурным слоем). С востока она ограничена земляным валом, с шестью воротными проемами (южная часть насыпи не сохранилась). За валом — крупнейший курганный могильник Швеции, Hemlanden (1600 курганов и каменных кладок). Близ северной и южной части вала, на границе Хемландена с «Черной Землей», раскопками открыты два грунтовых кладбища, сливающихся с курганным могильником (некоторые курганы в древности были перекрыты насыпью вала, в которую, в свою очередь, были впущены грунтовые захоронения [269, с. XIX]). Подобный же грунтовый могильник располагался к северу от Борга. Рядом с ним в поздний период существования Бирки на искусственной укрепленной террасе были выстроены жилища, вероятно, для военного гарнизона города: расположенные над гаванью, они позволяли контролировать одно из самых уязвимых мест в системе обороны вика [269, с. XX]. К югу от Борга — еще два курганных могильника, с ладьевидными оградками и обычными насыпями. Несколько небольших кладбищ, расположенных на о. Бьёрко к юго-востоку от основного скопления памятников Бирки связаны с более поздними поселениями XI–XV вв. Судя по данным фосфатного анализа, площадь поселения IX в. была несколько больше территории в 12 га, огороженной в X в. валом, и достигала 16 га. Обильный материал, полностью еще не опубликованный свидетельствует об оживленной ремесленной деятельности: сотни фрагментов гребней, полуфабрикаты и отходы документируют косторезное ремесло. Обработка стекла, заготовка бую — стеклянных, сердоликовых, из горного хрусталя и янтаря — связаны с производством, основанным как на местном, так и на привозном сырье. Развита была обработка камня (сосуды из жировика, точильные бруски), литье бронзы, обработка благородных металлов, ткачество, кожевенное дело. Технический уровень характеризуют приемы филиграни по золоту и серебру или простейшие способы дамасцировки — в кузнечном ремесле [261, с. 13–19; 282; 278; 279]. Обработка железа, поступавшего из металлургических центров в горных округах на северо-западе Средней Швеции, так же как и массовое производство на рынок других видов ремесленных изделий, свидетельствуют о тесных взаимосвязях Бирки с округой [262, с. 63]. Труднее судить о других функциях Бирки. Здесь, безусловно, находились не только дома и склады купцов, пристани и корабельные сараи, мастерские ремесленников и жилища, обслуживающего все эти отрасли деятельности люда. Судя по близости королевской усадьбы Адельсё (на соседнем острове, в виду города), Бирка играла важную административную роль в «домене» свейских конунгов [401, с. 463]. Конунг бывал здесь, что подчеркивает ее административно-политические функции. Не случайно Бирка была избрана и центром новых идеологических функций, здесь началась первая проповедь христианства в Швеции. Для восстановления структуры вика на оз. Мелар, как политико-административного и культового центра, надежных данных пока нет. Неясен характер укрепленного Борга (хотя здесь открыты ранние погребения по обряду сожжения, с богатым инвентарем) [269, с. 127–131]. Обособленный, возможно дружинный, квартал известен с X в. Столь же неясна структура церковной организации. Правда, в северной части Хемландена зафиксирован каменный фундамент постройки, размером 30X15 м; подобная же кладка, 30X12 м есть в южной части Хемландена (обе — на территории, защищенной валом X в.). Первую из них еще в XX в. народная молва называла «Kyrkan» — «Церковь» [269, с. XXI]. Именно вокруг этих неисследованных построек располагаются два грунтовых могильника с массовыми ингумациями: возможно, это — христианские кладбища возле церквей, основанных Анскарием [109, с. 155]. Подробности миссии Анскария (Ансгара) в Бирке известны благодаря его жизнеописанию, составленному Римбертом около 875–888 гг. [Rimbertus, X–XXVII]. Бенедиктинские монахи Ансгар и Витмар были посланы на Север императором Людовиком Благочестивым и архиепископом реймсским Эбо, который был назначен папским легатом в северных странах после крещения датского конунга Харальда Ворона (в Майнце, в 826 г.). Миссионеры (по дороге ограбленные викингами) прибыли в Бирку в 829 или 830 г. Они были приветливо встречены конунгом Бьёрном, и «префектом вика» Хертейгром, построившим сразу после прибытия бенедиктинцев первую в Швеции, церковь. Проповедь христианства, разрешенная королевским советом, на первых порах шла успешно. Примерно десять лет в Бирке действовали епископ Гаутберт и священник Нитхард, подчинявшиеся архиепископу реймсскому. Ансгар стал архиепископом гамбургским. «Языческая реакция» наступила в середине IX в., и связана, видимо, с возросшем размахом экспансии викингов на ее втором этапе (834–863 гг.). В 845 г. викинги разграбили Гамбург. Одновременно вспыхнуло языческое восстание в Бирке [353, с. 31]. Нитхард был убит, Гаутберт — изгнан. Лишь в 852 г. Ансгар снова посетил Бирку и смог добиться поддержки нового конунга, Олава, а также тинга Бирки, которые разрешили построить церкви и содержать при них священников. «Языческая партия», однако, сохранила сильные позиции. Епископы Эримберт, Ансфрид и Римберт (тезка биографа) не смогли добиться больших успехов. Последние известия об активности христианской церкви в Бирке относятся к 936 г., когда здесь умер прибывший с новой миссией архиепископ гамбургско-бременский Унно. Судя по динамике развития языческих погребальных обрядов, по появлению богатых камерных могил с захоронениями знатных воинов в сопровождении наложницы и верхового коня, под курганом, «языческая реакция» в Бирке X в. одержала верх [109, с. 153–157]. «Vita Anskarii» донесла до нас сведения не только об идеологической борьбе в вике IX в., но и о его социально-политической структуре. Европейские священники воспринимали Бирку как главный порт шведского королевства, portus regni, vicus. Верховной властью над городом располагал rex, король, конунг свеев. В Бирке упоминается конунг Бьёрн (Bern) [Rimb., X], правивший в 830 г.; затем — изгнанный свеями конунг Энунд (Anondus) [Rimb., XVI]; правивший ранее описываемых событий конунг Эйрик (Ericus) [Rimb., XXIII] и в 850-х годах — конунг Олав (Oleph) [Rimb., XXII]. Конунги, судя по этим известиям, бывали в Бирке наездами, и пользовались ограниченной властью. Городом управлял praefectus vici [Rimb., XI], опиравшийся на неких «могущественных», «знатных», «первых», «верных» (конунгу) — potentes, principes, primores, fidelibus [Rimb., X, XVI, XXIV]. Они составляли совет при короле, congregatio, consilium. Особо важные вопросы или конфликтные ситуации совет выносил на placitum, народное собрание (так было в 852 г.). Наряду с primores, выносившими на обсуждение вопрос о разрешении христианской проповеди, народное собрание составляли populi, среди которых Римберт особо выделил multi negotiatores [Rimb., XVI, XXIV]. Principes, negotiators, populi — «знать», «купцы», «народ»; попытки выявить отражение общественной структуры в археологическом материале предпринимались неоднократно. Для характеристики. Бирки как целого важна прежде всего неоднородность кладбищ, составляющих ее некрополь [109, с. 141–158]. Наиболее ранние погребения Бирки (например, № 349) относятся к VIII в. Первоначальное ядро кладбища составляло курганное поле Хемланден, где сосредоточено большинство погребений типа А. Этот «общинный могильник» (hemland шв. — «родина») функционировал на протяжении всего времени существования Бирки и связан, видимо, с основной частью ее населения, в которой прежде всего можно видеть populi Римберта. Некоторые богатые сожжения типа С (с гирьками, монетами, остатками ларцов, стеклянными бокалами) [402; 105, с. 186], возможно, отразили статус и жизненный уклад какой-то части negotiatores. В IX в. к северу от Борга формируется кладбище, резко отличное от курганного поля Хемланден. Здесь раскопано около 200 бескурганных ингумаций в гробах или в деревянных камерах простейшей конструкции (тип D). Севернее Борга сосредоточены самые ранние камерные могилы Бирки. Среди них немало женских погребений с христианскими атрибутами, инвентарь мужских — сравнительно скромный, хотя как правило, включает оружие, пиршественную утварь, украшения. В обряде камерных могил здесь в наибольшей степени прослеживается христианское влияние. Могильник севернее Борга можно рассматривать как первое христианское кладбище Бирки, возникшее, может быть, сразу после проповеди Ансгара. Если вспомнить, что миссионеров поддержал praefectus vici, вслед за ним — и другие primores, а в Бирке к тому времени уже жили знатные христиане (из Фризии), то камерные могилы севернее Борга можно отождествить именно с общественным слоем, скрывающимся под термином principes. Аналогичную интерпретацию камерных могил в Хедебю предложил в свое время Янкун [333, с. 477]. Ингумации в гробах на этом кладбище могли быть могилами крещеных populi, а с большей вероятностью — иноземных negotiators. В IX в. к югу от Борга появляются два кладбища, где ведущим обрядом (наиболее высокие курганы, сложный ритуал, богатый инвентарь) выступает обычай сожжения в ладье (тип В), специфический для эпохи викингов ритуал, возможно, связанный непосредственно с дружинами викингов как особой формой социальной организации. Обособленный характер «кладбищ викингов» в Бирке не противоречит такому отождествлению [106, с. 85]. В X в. все описанные кладбища продолжают функционировать, но наиболее многочисленные и богатые могилы сосредотачиваются на двух новых местах — возможно, близ основанных миссионерами церквей. Возникнув, как христианские кладбища, с большим количеством ингумаций в гробах, они затем приобретают очень сложную структуру: здесь представлены практически все варианты обряда, известные в Бирке, а ведущее положение занимают богатые камеры типа F — погребения воина с наложницей и конем. Полтора десятка таких погребений образуют высшую ступень военно-дружинной иерархии primores, в X в. — языческих дружинников языческих конунгов, сосредоточивших в своих руках большую политическую, военную, административную власть, контролирующих торговлю, и, судя по ритуалу нового типа, активно ищущих новых идеологических ценностей. «Языческая реакция», в виде которой шли эти поиски, вполне закономерна; подобным же образом отвергал христианство воинственный киевский князь Святослав: «дружина моа сему смеятися начнуть» [ПВЛ, 955 г.]. В пору активной и успешной экспансии, направленной главным образом против христианских стран, вожди и силы, направлявшие эту экспансию, до конца X (а в Швеции и в XI) в. пытались мобилизовать, обновить, реформировать старые языческие верования. Социальная топография могильника Бирки неадекватна описанию общественной структуры у Римберта; однако она позволяет археологически атрибутировать ведущую военно-дружинную организацию, видимо, подчиненную (непосредственно или через своих предводителей — «префектов вика») конунгу, составлявшую не более 10 % от общей численности населения Бирки (раскопано около сотни камерных погребений), и поставившую под свой контроль важнейшие функции города, прежде всего — торговую (в камерах сосредоточены наиболее многочисленные и богатые импорты). Могильник Бирки дал основной материал для характеристики поселения на Мелар как торгового центра. В 1175 погребениях, раскопанных с 1874 по 1934 г., сосредоточена крупнейшая коллекция древностей эпохи викингов, отразившая связи с Востоком (арабское и сасанидское серебро, стекло, глазурованная керамика — «люстр», ткани) и Западом (серебро, стекло, керамика, оружие, ювелирные изделия, резная кость, ткани) [266, с. 145–167; 270, с. 140–143; 281, с. 130–132; 317; 389; 340, с. 229–250; 381, с. 132–140]. Судя по исходным ареалам восточноевропейских импортов, также представленных в Бирке, ее связи с исламским миром осуществлялись по Волжскому пути, и прекратились не позже 970-х годов [358, с. 221]. Для западных связей большое значение имели отношения с Хедебю и другими североморскими центрами. Роль Бирки в этой системе торговых городов была, видимо, значительной: с нею связывают зарождение городского права, норм средневековой юрисдикции, известных позднее как Bjarkoarett. Высказывалось предположение, что «право Бирки» объединяло несколько центров, носивших одно и то же название — Birka на Мелар, Birko на Аландах, Berkeroon — на месте будущего Бергена, остров Bjarkoy в Северной Норвегии и др. [412]. Реконструкция системы торговых центров эпохи викингов на Севере во многом — дело будущего. Не все они выявлены: лишь в 1970-х годах началось изучение «вика» на Готланде — открытого поселения в бухте Павикен, существовавшего с конца IX до конца XI в., т. е. позже и значительно дольше Бирки (что соответствует уже сложившимся представлениям о соотношении Бирки и Готланда в балтийской торговле) [356, с. 82–94]. В то же время в материалах Павикена немало общего и с Биркой, и с другими северными виками VIII–X вв. Для всех изученных крупных центров эпохи викингов характерна единообразная структура товарооборота и организации торговли. Она базировалась на использовании общей валюты: на раннем этапе (конец VIII — первая половина X в.) — арабского, позднее — немецкого, а с начала XI в. — английского серебра (поступавшего в качестве Данегельда). Ритм распространения всех этих явлений в денежном обращении был единым не только для скандинавских виков, но и для значительно более обширного ареала, охватывавшего все заселенные области Скандинавии, земли балтийских славян, Польшу, Прибалтику, Финляндию, Древнюю Русь [170, с. 39]. В товарообороте виков представлены одни и те же категории импортов как западных (рейнское стекло, керамика, ювелирные изделия, оружие, сукна), так и восточных (драгоценные ткани, произведения стеклоделов, глазурованная посуда — «люстр», драгоценности, ювелирные изделия). Несомненно, реальная структура товарооборота была значительно более сложной, чем можно судить по археологическим материалам. Ремесло виков прошло важный этап развития — от традиционного, общинного, основанного на местном сырье, к городскому, базирующемуся на заимствованной технологии и привозном сырье [58, с. 103–104]. В то же время процесс этот, во многом стимулированный специфической конъюнктурой виков, остался незавершенным. Развитие ряда производств (судя по их позднейшему сокращению) несколько опережало собственные внутренние потребности скандинавского общества. Общественная структура виков характеризуется тенденцией к социальной стратификации. На раннем этапе преобладает общинное, военно-демократическое начало. К рубежу IX–X вв. вырастает новый господствующий слой, сооружаются городские укрепления, появляются военно-дружинные кварталы и кладбища. К середине X в. крупнейшие вики стали опорными пунктами христианской религии, позиции которой, правда, оставались еще очень слабыми. Возрастает роль конунгов в жизни виков. Сменяются эти поселения «городами младшего типа», основанными королевской властью (Шлезвиг в Дании, Сигтуна в Швеции, Берген в Норвегии). Во второй половине X — начале XI в. вики, с их самоуправляющейся военно-демократической структурой (в рамках которой, видимо, определенное место находили и дружины викингов), уже не соответствовали социальным требованиям раннефеодального общества, достигшего определенной степени стратификации и государственной централизации. В то же время питательная среда виков, свободная община бондов в этих условиях во многом исчерпала свой потенциал, что отразилось как в упадке движения викингов, так и в замирании северной торговли. Однако в IX–X вв. вики выступали как экономические центры наиболее развитых областей, ставших ядром государственных территорий. В то же время новые социально-экономические функции виков объединили в них местное и пришлое население — чрезвычайно разнородное и по социальному статусу, и по этническому происхождению. Бонды и ремесленники, купцы и воины, домочадцы и слуги из разных скандинавских областей (свеи, гауты, норвежцы, датчане) жили бок о бок с рабами и рабынями, захваченными на Западе или купленными на Востоке; волей или неволей здесь селились искусные мастера-ювелиры и косторезы — фризы, англосаксы, гончары-славяне и денежники-франки, купцы из Фрисландии, Англии, славянских стран. В разноэтнической, своем роде интернациональной среде виков формировалась качественно новая раннегородская культура. Она близка во многих своих проявлениях на пространстве от Британии до Волги, так как едины интернациональные факторы, ее породившие. «Городская культура Балтики» пронизана общими стимулами и импульсами [346, с. 236–239]. Единая валютная система, пути сообщения, средства морского, речного и сухопутного транспорта создают достаточно стабильную сеть для распространения общебалтийских идей, образов, типов. Общие градостроительные принципы проявились в планировке поселений, связи с водными коммуникациями, системе укреплений. В городах «Балтийского культурного сообщества» распространились близкие приемы строительной техники, городского благоустройства (деревянные мостовые, причалы, набережные, колодцы). Бытовали общие типы кухонной, тарной и столовой посуды, обуви, одежды, предметов личного туалета, украшений, оружия. В далеких друг от друга центрах зафиксированы и некоторые выработанные в виках типы погребального обряда, а следовательно, и связанные с ними идеологические представления. Воплощая в конкретно-вещественных формах такие новые общественные явления, как денежное обращение, стабильный и многосторонний обмен, дифференцированное ремесло, классовая стратификация, вики в Скандинавии были генеральной линией своего рода «городской революции». В «городской культуре Балтики» были найдены впервые новые культурные нормы и формы, позднее в разных странах развивавшиеся различными, часто несхожими, путями. В то же время ни в одном из случаев «городская культура Балтики» не стала доминирующей, не вытеснила местных традиций, а лишь обогатила и стимулировала их. В Скандинавии это проявилось в развитии одновременно с «культурой виков» и в тесной связи с нею более обширного культурного комплекса. Ритм этого развития совпадает с динамикой виков, как и она, в свою очередь, с динамикой экспансии викингов. Ранняя эпоха викингов — время становления виков; средняя — период их расцвета, поздняя — упадка. Те же фазы проходит развитие материальной и духовной культуры Скандинавии эпохи викингов, и во всех доступных нам проявлениях оно пронизано действием тех же закономерностей. 6. Материальная культура Хозяйственно-технический базис скандинавского общества мало меняется по сравнению с предшествующим периодом. В основе — земледельческо-скотоводческая экономика небольших прочных хозяйств. Повсеместно применяются железные пахотные орудия, технология земледелия совершенствуется медленно. В составе сельскохозяйственных культур большое место занимает ячмень (до 60 %), постепенно повышается доля ржи и пшеницы; в скотоводстве намечается дифференциация хозяйств, специализирующихся, в зависимости от условий, на разведении свиней, или коров, или овец [348, с. 44; 378, с. 56]. Орудия земледельческого труда — те же, что в VII–VIII вв.: железные лемехи, серпы, косы; распространяются ротационные каменные жернова [375, с. 122–124]. Сохраняется уклад жизни, типы жилищ, приемы домостроительства сельских усадеб; по-прежнему они состояли из одного или нескольких «длинных домов» (60-40х10 м, с каркасной конструкцией, двускатной кровлей, стойлами для скота, жилым помещением с очагом в центре). В эпоху викингов этот тип жилища развивается в комфортабельные дома так называемого «треллеборгского типа», с очагом в большом центральном помещении и вспомогательными комнатами — в торцах здания. Так же строились хозяйские дома «магнатских усадеб» X в. Наряду с ними в эпоху викингов распространяются «длинные дома» значительно меньших размеров (без хлева под одной крышей с жильем), небольшие, квадратные в плане постройки, а также полуземлянки (в предшествующие столетия, использовавшиеся кое-где как мастерские, а в X в. широко распространенные в сельских и городских поселениях Сконе и соседних территорий) [357, с. 67–72]. Традиционной во многом оставалась и одежда — из шерстяных и льняных тканей, меха, кожи. Мужской наряд обычно состоял из узких штанов, длинной рубахи и куртки, выпущенной поверх и подпоясанной. Носили также плащи, скрепленные на плече фибулой или булавкой (с кольцевидным навершьем и длинной иглой); зимой — одежду из овчины и меха других животных. Женщины одевались в длинные платья с бретелями на плечах (их скрепляли парой фибул, обычно черепаховидных). Новшества, характерные для эпохи викингов, относятся главным образом к материалам для парадной одежды, различным дополнительным украшениям, в меньшей степени — к покрою (так, под восточным влиянием появились шаровары со множеством складок, подвязывавшиеся под коленом) [111, с. 23; 160, с. 13]. С Востока пришла мода на наборные пояса, к которым подвешивали (кроме оружия) различные бытовые вещи (нож, оселок, кресало, кошелек). Женщины также носили на поясе или на цепочке, прикрепленной к одной из фибул, ключ — символ достоинства полноправной хозяйки, гребень в футляре, иногда — ножик и различные подвески-украшения. Ожерелья (из стеклянных, каменных, металлических бус и привесок), браслеты, шейные гривны, перстни, шитые золотом налобные ленты дополняли парадный женский наряд. Браслеты, гривны, перстни, налобные повязки носили и мужчины. Все эти украшения, как и цветные ткани для праздничных нарядов (восточные и западноевропейские сукна, шелк, парча), составляли наиболее динамичную и яркую сторону мужского и женского убора эпохи викингов. Основа наряда оставалась, однако, глубоко традиционной и в принципе однородной. Как и в сельском хозяйстве, в образе жизни и в одежде динамизм эпохи проявился в наименьшей степени. Ассортимент орудий ремесленного труда представлен формами, сложившимися еще до эпохи викингов и практически неизменными сохранившимися до начала индустриальной эпохи [401, с. 457]. Они предназначаются для разнообразных специализированных ремесел, основанных на сложившихся технологических циклах и устоявшихся наборах орудий. В то же время, судя по выразительным комплексам в Бюгланде, Местермюр и др. сохранялось объединение различных специальностей в руках одного ремесленника [290, с. 25–80]. Качественные сдвиги происходят в развитии транспортных средств. Люди эпохи викингов пользовались для передвижения зимой по снегу лыжами, по льду — костяными коньками и железными ледоходными шипами (крепившимися к обуви, а также и к конским копытам). Разработанными образцами представлена конская сбруя: стремена, шпоры, ремни и уздечки, плети с набором звенящих колец, седла с металлическими накладками. Сани, четырехколесные повозки так же, как мощение улиц и строительство мостов, свидетельствуют о развитии наземного транспорта, причем многие существенные инновации относятся именно к эпохе викингов [314, с. 257–262]. Однако ведущее значение приобретает водный, морской транспорт. Корабли викингов представляли собой качественный скачок в развитии северного судостроения, от «кораблей свионов», описанных Тацитом (и археологически представленных находкой в Хьортспринге) — к «драконам» (dreki, мн. ч. drakkar) с парусом и длинными веслами [315, с. 47–55]. Судя по изображениям на готландских стелах, первые паруса, сплетенные из полос ткани [может быть, кожи] появились в VII–VIII вв. К этому времени уже был выработан Т-образный в сечении киль, клинкерная обшивка с железными заклепками. Конструкция обеспечивала прочность и гибкость корпуса, позволяя наращивать его размеры и совершенствовать мореходные качества. Киль со шпангоутами и клинкерной обшивкой, фальшборт, палубный настил, составная мачта и длинные весла — основные элементы конструкции нового типа судов. Во вполне сложившемся виде он представлен находками в курганах Усеберга и Гокстада. Этот тип судов был, по существу, универсален: одинаково приспособлен для передвижения в открытом море, прибрежных водах и по большим и средним рекам, внутренним водоемам; пригоден для транспортировки людей я грузов, для пиратских набегов и торговых поездок. В течение эпохи викингов прослеживается тенденция к дальнейшему наращиванию размеров судна: «длинные корабли» (langskipar) поздней эпохи викингов были самым эффективным выражением престижа и претензий их владельцев (вплоть до «конунгов-викингов»). Однако уже к средней эпохе викингов, видимо, были достигнуты их пределы, т. к. длина отражалась на прочности конструкции. Универсальность нового типа судов была исчерпана. В позднюю эпоху викингов начинается дифференциация, появляется перспективный новый тип грузового корабля — knorr, и в находке из Скульделёв (XI в.) представлены уже различные типы судов [371]. Прогресс северного судостроения позволил решить важнейшие проблемы массовых коммуникаций: передвижения на дальние расстояния значительных масс людей, регулярной циркуляции товаров, постоянного контакта между морскими торговыми центрами, прибрежными районами, с внешним миром. Выражение «корабль — жилище скандинава» стало крылатым. Корабли становятся центральным мотивом изобразительных композиций на готландских камнях, важным элементом наиболее сложного и пышного погребального обряда («королевские курганы» Норвегии), одним из центральных образов эддической и скальдической поэзии. Новые средства морского транспорта обеспечили высокую мобильность представителей различных общественных групп; бонды не привязаны более к одалю и хераду, им доступны новые земли и дальние острова. Корабли стали одной из важнейших материально-технических предпосылок и средств для решения назревших к исходу VIII в. социальных коллизий. Обеспечивая циркуляцию и концентрацию материальных ценностей, морские суда викингов стали самостоятельным социальным фактором: на корабле действовали особые правовые нормы, объединявшие экипаж; деление по кораблям легло в основу военно-административной системы ледунга [47, с 181–186; 89, с. 108]. Процесс совершенствования военной организации норманнов еще более ярко проявился в резком расширении и быстром развитии арсенала викингов. Наряду с традиционными, ланцетовидными копьями (типы А, Е, по Петерсену) скандинавские ремесленники в IX — первой половине X в. осваивают западные, франкские образцы («копья с крылышками», тип В): вырабатываются местные их разновидности — типы L и D. В середине X в. от заимствования, повторений северные мастера переходят к творческой переработке импортных образцов, стремясь в новых типах наконечников совместить боевые качества традиционных местных и западных копий. Так возникают типы К, G, Н, М. В сходном ритме идет развитие массового северного оружия, боевых топоров. Унаследованные от предшествующих периодов типы А, В, D, E модернизируются, вырабатываются различные варианты «топора с бородкой» (типы С, F, Н); с другой стороны, совершенствуется модель широколезвийного топора с равномерно расширяющимся лезвием (типы I, К, L). Наибольшее разнообразие типов приходится на вторую половину IX в. Они отразили поиск наиболее эффективных форм. В X в. этот поиск завершается определенной унификацией: синтез обеих ведущих линий был найден в виде боевых секир викингов — топоров типа М, с очень высоким коэффициентом полезного действия. Мечи эпохи викингов представлены примерно тремя десятками типов [272, с. 27–152; 82, I, с. 19–20; 360, с. 111–112]. Их группировка с учетом взаимоотношений признаков различных уровней (функционального, конструктивного, декоративного, семантического [113, с. 74–87]) позволяет рассмотреть этот набор типов в виде культурно-исторической типологии. I группа типов объединяет ранние формы, с прямой гардой и верхним перекрестьем, треугольным навершием (типы А, В, Н, С, 92, 76). Бытование их ограничено самым началом IX в., когда дружины викингов только начали освоение «каролингских мечей». II группа типов (К-О) демонстрирует переход от заимствованной в Британии формы IX в. к характерному для первой половины X в. варианту со сложной рукоятью и богатым декором. Тип О — парадное дружинное оружие. Представленные здесь новшества (изгиб гарды и верхнего перекрестья, сложная профилировка навершья, богатая орнаментация) характерны еще для значительной серии мечей второй половины IX–X вв. III группа типов все эти новшества демонстрирует в наиболее полном и развернутом виде. Это — ведущая группа форм в культурно-исторической типологии. Уже в IX в. сравнительно простые, близкие I группе исходные типы (72) сосуществуют с богато украшенными мечами типов Е, D, V. В X в. совершенствуется их конструкция (вогнутые гарды, сложно-профилированные навершья). Мечи типов R, S, Т найдены в богатых воинских погребениях дружинников высокого ранга. Во второй половине X в. в связи с наметившимся обособлением военно-дружинной организации, концентрацией ее социальных функций меч становится атрибутом сравнительно узкого и четко ограниченного раннефеодального слоя. Сокращается его семантическая многозначность, возрастают требования к утилитарным, боевым качествам. IV группа— проявление именно этой тенденции; она выделяется в ходе эволюции III группы, отделяясь от нее в X в. Развитие типов V, W, U, X, 124 идет в направлении все большей специализации оружия за счет сокращения декоративных и семантических признаков. Конечное звено — мощный рубящий меч тяжеловооруженного воина фиксирует рубеж между эпохой набегов и походов викингов и временем действия феодальных войск. Одновременно с этим богатое парадное оружие, распространенное в викингской среде, выходит из употребления так же, как сошли со сцены в борьбе с королевской властью дружины викингов. V группа типов (F, М, 93, Q, отчасти — Р) развивается примерно так же, как и I группа. Это — военно-демократическое оружие, folkvapn, по мере распространения III–IV групп постепенно выходящее из употребления, но удержавшееся в социальной практике ополчения — ледунга. VI группа типов — интересный пример развития оружия, связанного с теми же социальными категориями, что и I и V группы, но получившего дополнительный функционально-технический импульс извне. Исходные формы (типы I, 77, может быть, Р) возникли, судя по мечам типа 73, на основе I группы, осложненной восточным воздействием: выгнутая гарда, выпуклое навершие — это конструктивные особенности кочевнической сабли [274, с. 31]. Не случайно, видимо, к этой группе тяготеют и собственно древнерусские, богато украшенные мечи, найденные в Восточной Европе: типы Z особый, и «Скандинавский» — с орнаментированной в северном стиле рукоятью и клеймом славянского мастера на клинке [82, с. 37–41]. VII группу составляет редкий на Севере тип G. Итак, исходное разнообразие сравнительно простых типов ранней эпохи викингов (А, В, 72, F, 73) сменяется к XI в. жестким набором специализированных форм (124, AЕ). Процесс «выслаивания» из военно-демократической общины сначала отделившейся от нее, а затем утвердившейся над нею военной организации отразился в эволюции оружия с зеркальной точностью. «Пик» этого процесса, этап наибольшего разнообразия богатых и ярких форм, расцвет «культуры викингов», относится к середине IX — середине X в., охватывая главным образом среднюю эпоху викингов; затем начинается спад, специализация феодальной культуры. Те же этапы развития культурного процесса (начало IX в. — исходный рубеж, середина IX — середина X в. — расцвет новых форм, конец X в. — упадок «культуры викингов») отразились в других группах древностей. Ювелирное ремесло и его продукция характеризуют уже не только военно-дружинную, но и во многом противоположную (хотя и взаимосвязанную, и дополняющую) женскую «субкультуру» украшений, с непосредственным (через орнаментальный стиль) выходом в область художественного творчества. Оно стало важным показателем развития социальных норм, а также состояния материально-технических ресурсов и распределения ценностей в древнесеверном обществе уже в середине I тыс. н. э. Одновременно с сооружением «Великих курганов» Упсалы распространился северный звериный орнамент (I стиль, по Салину). Вендельский период стал следующей ступенью развития скандинавского прикладного искусства (II стиль). К концу VIII — началу IX в. возможности этого развития кажутся уже исчерпанными, эпоха викингов получила от предшествующей поры в наследство тяжеловесный, вычурный, перегруженный множеством второстепенных деталей и дополнений III стиль, в бесконечных вариациях повторяющий и комбинирующий мотивы и образы, выразительные возможности которых полностью были раскрыты и исчерпаны искусством VI–VIII вв. Однако на рубеже VIII–IX вв. металлические украшения получили беспрецедентное распространение. Искусство эпохи викингов ориентировалось не на изготовление немногочисленных, уникальных драгоценных изделий — вотивных гривен, посвящаемых богам, королевского парадного вооружения, сбруи, — а на массовое, тиражированное производство эффектного, и сравнительно доступного металлического убора. Вещи изготавливались чаще всего из бронзы (нередко — с позолотой) реже — из серебра, вероятно, еще реже — из золота. Они предназначались для свободных мужчин и женщин, социальный статус которых был если не равным, то, во всяком случае, сопоставимым. Отсюда — сравнительная однородность маркирующих этот статус украшений, а их массовость стала основой, во-первых, для типологического разнообразия, во-вторых, для развития новых вариантов стиля звериной орнаментики. Три основных стиля характерны для эпохи викингов. С 840-х по 980-е года распространен стиль Борре (названный по одному из курганов Вестфольда), вытеснивший как тяжеловесную орнаментику III стиля, так и разнообразные экспериментальные поиски рубежа VIII–IX вв., отобразившиеся, в частности, в усебергской резьбе (отделка корабля, повозки, саней). Центральный образ (представленный уже в этих ранних поисках) — северный вариант «каролингского льва», развернутого в профиль, но с головою — в фас, хищника, грозно обращенного к зрителю оскаленной, чуть утрированной мордой и сжимающего когтистыми лапами собственное тело, декоративный бордюр или орнаментальные детали: впрочем, нередко изображены борющимися несколько чудовищ. Все подробности — утрированы; шея и туловище трактованы как широкие ленты, бедра пластично выделены, выступающие части заполнены филигранью, усиливающей объемность. Этот образ дополняется ленточной плетенкой, а также рельефным, точнее же — скульптурным изображением «масок»: мотив, в общем традиционный для древнесеверного искусства, в ювелирных изделиях стиля Борре представлен очень широким диапазоном образов — от едва ли ни портретных (во всяком случае, видимо, вполне идентифицируемых с какими-то героями эпических сказаний) до фантастических, скорее — териоморфорных и, во всяком случае, занимавших срединное положение между человеческим образом и мордой хищника. Вторая разновидность звериной орнаментики эпохи викингов получила название стиля Еллинг, по находкам в резиденции датских конунгов IX–X вв. Этот стиль получил распространение в 870-1000 гг. Длительное время он сосуществует со стилем Борре, и нередко обе разновидности звериной орнаментики представлены на одной и той же вещи. Однако и по происхождению, и по формальным особенностям, а вероятно и по социальному адресу еллингский стиль достаточно отличен от сравнительно демократичного, насыщенного яркими языческими образами, привлекающего внимание пластическим богатством, при достаточно доступном материале, стиля Борре. Ближе всего он к аристократической поздневендельской орнаментике (стиль D, по Арвидссон), испытавшей кельтское воздействие. Центральный образ — развернутый в профиль Большой Зверь, древний и значимый образ германской звериной орнаментики; чаще же изображается пара борющихся, переплетенных чудовищ в плоскостной ленточной манере. Длинное извивающееся тело заставляет вспомнить о Змее — эсхатологическом исполине, кладущем предел и конец миру; но при этом змей-дракон-корабль — важнейший из узлов социальных связей в общественной практике скандинавов эпохи викингов. Социально-психологическая насыщенность этого образа значила тем больше, что сходные функции он нес и в западноевропейской, христианской культуре. В скандинавской орнаментике он появляется одновременно с распространением в древнесеверной поэзии комплекса представлений о конце мира, гибели богов, Ragnarok с одной стороны, несомненно связанного с христианской концепцией «конечности» человеческой истории, но с другой — завершившего формирование языческой системы духовных ценностей скандинавов эпохи викингов. Еллингские изображения изящно и точно вписываются в компактную плоскость украшаемой вещи — будь то накладная пластина, венчик серебряной чаши, бордюр фибулы, декоративный обод луки седла. Основу уравновешенной, при всей напряженности, композиции образуют восьмеркообразные переплетенные фигуры зверей. Их тела переданы длинными узкими линиями, обычно выделенными сильным двойным контуром (стилистическая особенность, зародившаяся еще в германском искусстве V–VI вв.). Головы трактованы обобщенно, без лишних деталей, выделены разинутая пасть и огромный глаз (все чудовища изображены в профиль). Тело, латы и окружающее основное изображение пространство до предела насыщены декоративными элементами: ритмично повторяющимися шариками ложной зерни, насечками, оттисками штампа, покрывающими сплошь ленту туловища и шеи; прихотливо извивающимися линейными отростками, идущими от лап; всевозможными дополнительными линиями, оплетающими со всех сторон тела зверей и образующими композицию, вторичную по отношению к основной. Изысканные и эффектные вещи еллингского стиля часто украшались позолотой и рассчитаны были на достаточно изощренное, воспитанное художественное восприятие. Третий стиль эпохи викингов иногда обозначают названием стиль Большого Зверя, объединяя при этом местные разновидности звериной орнаментики: стиль Маммен в Дании (960-1020 гг.), норвежский стиль Рингерике (980-1090 гг.) и сменяющий его стиль Урнес (1050–1170 гг.), и «стиль рунических камней» в Швеции XI в. Все эти варианты звериной орнаментики представляют собой развитие еллингского стиля в позднюю эпоху викингов. Новой особенностью художественной и общественной практики этого времени стало сооружение различных мемориальных камней с руническими надписями (в память погибших, пропавших без вести, отправляющихся в опасное путешествие, в честь строителей дорог и мостов, для фиксации выдающихся исторических событий). Сама композиция надписей, как правило, обрамленных двумя ограничительными линиями, создавала новые возможности и выдвигала особые требования к орнаментальным мотивам: длинные, сплошь покрытые рунами ленты окаймляют обычно края стелы, оставляя свободным центральное пространство, где можно разместить изобразительный сюжет. Техника резьбы по камню также повлияла на манеру исполнения изображений: возрастает их плоскостность и линеарность. Новый стиль представлен не только в произведениях резчиков-каменотесов, но, как и прежде, в металле, резной кости, дереве. Образ Зверя становится все более масштабным, и если не реалистическим, то более понятным, узнаваемым. Это — настоящее апокалипсическое чудовище, грозно шагающее в мир, чтобы его уничтожить. Ленточное плетение становится феном, на котором выступает мощный хищник неведомой «космической» породы, с когтистыми лапами и драконьей головой; иногда он дополнен изображениями «змеев», как на боевом вымпеле, позднее превращенном во флюгер церкви в Сёдерала [203, с. 38, № 109]. Искусство поздней эпохи викингов — в той же мере христианское, что и языческое: «стиль Большого Зверя» часто применяли в убранстве церквей (стиль Урнес). Идеологический и, так сказать, эстетический союз церкви и королевской власти воплотился в одном из лучших произведений стиля Маммен — камне Харальда Синезубого в Еллинге. Трёхгранный гранитный обелиск украшен изображениями распятого Христа и Большого Зверя на фоне ленточного плетения; руническая надпись сообщает, что «конунг Харальд велел сей знак поставить по Горму, своему отцу, и Тюре, своей матери, Харальд, который всю Данию объединил и Норвегию и данов сделал христианами». Этот камень скандинавы называют «метрическим свидетельством о крещении Дании» [330, с. 340]. Камни «еллингского типа» (по Рандсборгу) запечатлели процесс политической консолидации раннефеодального Датского государства. Стиль «рунических камней» и связан с наиболее выразительными памятниками этой государственности; он распространяется и на убранство архитектурных сооружений, древнейших скандинавских церквей. Из монументального искусства, архитектуры стиль поздней эпохи викингов распространяется в сферу художественного ремесла. Функциональные связи орнаментальных стилей с определенными категориями предметов культуры выстраиваются примерно в том же порядке, что и набор изобразительных средств и образов. Объемный, пластичный, богатый ясными и интересными деталями стиль Борре адресован как будто наиболее массовому, демократичному зрителю: так украшали вещи, которые носили или могли носить все. Стиль Еллинг значительно более аристократичен, и вряд ли случайной оказалась связь этого искусства именно с королевской резиденцией: дорогие вещи, украшенные еллингскими орнаментами, носили прежде всего люди из окружения конунга. Этот стиль можно, наверное, противопоставить Борре как элитарный. «Стиль Большого Зверя» возникает как обобщение и неизбежное упрощение чрезмерно усложненной системы еллингской орнаментики. Это образный язык, на котором конунги обращаются к народу (лапидарный, емкий и устрашающе понятный). «Большой Зверь» на камнях и вещах поздней эпохи викингов воспринимался современниками, вероятно, прямо-таки с плакатной выразительностью. Та общественная сила, которая созрела и выделилась в обществе викингов, которая в своем внутреннем общении использовала изысканный и сложный еллингский стиль, теперь противопоставляет себя обществу, утверждает над ним свое господство, и обращается к нему грозно и властно. Этот стиль нельзя назвать в строгом смысле ни элитарным, ни демократическим, правящая феодальная элита пользовалась им для общения с демократическими массами, по существу и форме этот стиль — политически-агитационный. Установленное современными исследователями хронологическое соотношение разновидностей скандинавского звериного стиля [314, с. 287] раскрывает не только художественный процесс, но в какой-то мере и социальную динамику. Ранняя эпоха викингов в середине IX в. ознаменована созданием нового, характерного именно для этой эпохи, получившего прочное распространение в широкой общественной среде стиля Борре. В конце этого периода, в результате синтеза достижений местного ювелирного ремесла, западных художественных норм, и социального заказа выдвигающегося к власти раннефеодального слоя во главе с конунгом, возникает стиль Еллинг. Средняя эпоха викингов характеризуется сосуществованием в художественном ремесле обоих этих стилей, «демократического» и «элитарного», их взаимопроникновением. В конце периода (после 960-х годов) начинается формирование «стиля Большого Зверя» (стиль Маммен — с 960-х, стиль Рингерике — с 980-х годов). Вещи в стиле Борре после 980-х годов не изготавливались, стиль Еллинг был распространен до начала XI в. После 1050 г. аристократическое искусство сливается с церковным (стиль Урнес). Не следует рассматривать эти стилистические взаимоотношения как документальную запись борьбы социальных сил в скандинавском обществе, но и связь их с социальной динамикой оспаривать трудно. Этот процесс достаточно полно соответствует другим аспектам развития материальной культуры, таким, как развитие оружия, средств транспорта, облика поселений. Объяснить синфазность изменения разных и при этом не связанных непосредственно сторон культуры (таких, например, как конструкция рукояти меча и орнаментальный стиль) можно только, считая эти изменения производными от изменений социальной структуры. Для характеристики этих взаимосвязанных социокультурных изменений прикладное искусство эпохи викингов дает возможность не только качественного анализа сменяющихся стилей (о многом можно судить по количеству и многообразию типов вещей). Динамика типологических изменений форм украшений — параметр, в принципе независимый от стилистических норм и в то же время тесно связанный с «потребляющей средой», ее состоянием, возможностями, структурой. Наиболее показательная и массовая категория вещей этого круга — овальные (черепаховидные) фибулы, типология которых разработана Я.Петерсеном [373]. Исходная форма VIII в. — фибулы бердальского типа, украшены рельефным изображением животного в необычной, вертикальной, проекции, словно вид сверху, хребет зверя делит поверхность фибулы пополам; голова с двумя глазами (показанными рельефными выпуклинами) занимает нижнюю часть чашечки фибулы. Плечевые и бедренные части лал акцентированы такими же выпуклинами, так и те, что изображают глаза. Эти три пары полусферических рельефных элементов в сочетании с вертикальной линией, фиксирующей хребет зверя и образующей ось симметрии, составляют четкую и устойчивую структуру композиции. Основное изображение дополнено разнообразными декоративными узорами, выполненными в той же технике. Образ зверя бердальских фибул, а особенно его формально-техническое решение, не были восприняты скандинавским искусством. Однако его геометрически строгая структура (продольная ось и симметричные ей шесть выступов) стала прочной основой для самостоятельного и разнообразного развития декоративных композиций. Разрушение семантики образа фибул бердальского типа (ЯП 7, 8) происходит уже в самом начале IX в. Около 800 г. в комплексах появляются фибулы типа ЯП 19, ЯП 20, близкие им по времени типы первой половины столетия ЯП 11, ЯП 14, ЯП 22, на которых центральная ось симметрии трактуется как вполне самостоятельный изобразительный элемент, не имеющий никакого отношения к териоморфному образу. На месте «спинного хребта» зверя — две узких прямоугольных (реже — со скругленными внешними торцамм) площадки, разделенные срединным элементом, фиксирующим центр всей композиции. Шесть овальных выступов, расположенных симметрично этой оси, остаются обязательным элементом композиционной структуры (попытки их преобразования — фибулы ЯП 11, ЯП 22 — не получили дальнейшего развития). Интервалы между элементами заполняются орнаментальными композициями из растительных, ленточных и геометрических мотивов. На фибулах ЯП 14 (830-850-е годы) появляется в статуарной позе зверь, по-скандинавски трактованный «каролингский лев», предшественник «хищника Борре». Эти вещи пластичны, богаты объемными деталями, свободными и разнообразными композициями. При несомненной эклектичности, в них присутствует строго организующее начало, которое представляет собой самостоятельное, в общем-то совершенно свободное от жестких норм канонического мышления, осмысление самой сути западноевропейской традиции (будь то традиции териоморфного изображения). Эклектичность этих изделий — следствие двух факторов: неожиданно раскрывшегося многообразия источников художественных (и, наверное, не только художественных, но и материальных, социальных, психологических) стимулов и такого же примерно разнообразия возможностей, раскрывшихся перед определенными слоями скандинавского общества в самом начале эпохи викингов. Женщины, для которых предназначались фибулы, были современницами (женами и подругами, рабынями и матерями) многочисленных, независимых и бесстрашных «морских удальцов», в первом-втором периоде ранней эпохи викингов, обрушившихся на берега Британии, Ирландии, Фрисландии. Они привозили на Север разнообразную, разнородную и на первых порах, вероятно, не слишком-то обильную «добычу навалом». Это были вещи нередко непонятные по назначению, чуждые — и потому привлекательные, захваченные в церковных и монастырских сокровищницах, в домах и складах фризских городов, в замках и бургах франкской или англосаксонской знати, снятые с тел рыцарей или священников. Часть захваченных ценностей шла в переплавку (и в буквальном смысле, и в переносном): в тиглях скандинавских кузнецов-ювелиров плавился драгоценный металл, а в сознании мастеров-художников, да и аудитории, на которую они ориентировались, — новые образы и сюжеты. Их происхождение придавало им эпически-сказочную привлекательность колдовского, зарубежного, древнего «вельского золота». В середине IX в. появляется орнамент в стиле Борре, новый изобразительный язык, видимо столь же информативный, как появившиеся в это же время младшескандинавские руны: ими записан, в частности, древнейший дошедший до нас обрывок стихотворного эпоса, на камне из Рек в Эстеръётланде [401, с. 433–444]. Новая общественная среда создает и новые знаковые системы, и системы духовных ценностей, такие, как героический эпос или стиль декоративного искусства. Именно это время — середина — вторая половина IX в., время резко возросшей организованности военного натиска; социальное движение выработало свои собственные, адекватные ему организационные формы и идеологические нормы. Ювелирное ремесло, ориентированное на массового заказчика, чутко реагировало на эти изменения. Уже в первой половине IX в., параллельно с прямой (и короткой) линией развития фибул «бердальского типа» возникает вторая, основная, базирующаяся на той же симметричной структуре (парные элементы по сторонам осевой линии), но радикальным образом эту структуру переосмысливающая. Суть преобразования — в замене териоморфной организации пространства геометрической: шесть выступов (глаза и лапы зверя) дополняются еще тремя, фиксирующими начало, середину и конец осевой линии; выступы соединяются линиями; образуется двуромбическая композиция (ЯП 25, ЯП 26). Ленточные границы ромбов — устойчивый, обязательный, общепонятный элемент. Расчлененное ими пространство к тому же обретает иерархическую организацию. Два ромба, расположенные вдоль центральной оси и занимающие верхнюю, срединную, наиболее обозримую поверхность фибулы, несут максимальную изобразительную нагрузку. Дополняющие их боковые ромбы так же, как геометрически организованное пространство боковых сторон чашечки, служат для передачи дополнительной, вспомогательной информации. Рельефные выступы (уже в середине IX в стали изготавливать специальные металлические репьи, насаживавшиеся на округлые площадки па поверхности чашечки) отмечают четкие членения изображения, сообщая ему особый ритм. Фибулы этой поры — словно маленькие «поэмы в позолоченной бронзе»: заполняющие ритмически организованное пространство изображения в стиле Борре причудливы, вычурны и на первый взгляд малопонятны, как скальдические кеннинги (у нас нет образного и словесного эквивалента этим изображениям, иначе, наверное, как и в поэзии скальдов, мы смогли бы обнаружить, в общем-то сравнительно несложный и, во всяком случае, доступный смысл этих поэм). Но важно другое: они были созданы, их знали, и уже к концу ранней эпохи викингов едва ли не каждая свободная женщина в скандинавских странах могла нести на плечах некую сумму духовных ценностей, вполне, в принципе, сопоставимую с той, что столетия спустя была запечатлена на пергаментах «Эдды». Фибулы типа ЯП 37 (с вариантами) — наиболее массовая разновидность украшений середины IX в. Композиционная схема — та же, но она становится жестче, более четкие линии ограничивают ромбы, сближены и несколько увеличены округлые площадки под репьями; иногда вводится дополнительное ленточное плетение, усиливающее геометричность композиционной структуры. Локальные, видимо, сюжетные композиции внутри отдельных участков, выполненные в стиле Борре, строго симметричны; иногда они дополнении антропоморфными изображениями («маски», изображающие бородатых викингов, или неких косматых существ с развевающимися локонами, а может быть — рогами; трудно сказать, что это — берсерки Одина или козлы Тора). Возрастающие объемность, пластичность изобразительного решения (в некоторых параллельных линиях развития фибул проявившаяся еще раньше, и в более резких формах) приводят к закономерному для стиля Борре новому техническому решению: рельефную декоративную поверхность фибулы изготавливают отдельно, в виде особой орнаментальной накладки. Ранние варианты «ажурных фибул» появляются в конце IX — начале X в. (типы ЯП 41, ЯП 44). В структуре сохраняются два центральных ромба, девять ритмически организующих элементов, ленточные границы участков; внутреннее их пространство заполнено ажурным, почти скульптурным изображением; при этом наряду с териоморфными образами в центр композиции (сопряженные вершины центральных ромбов) в качестве организующего изобразительного мотива выдвигаются маски эпических героев. В первой половине — середине X в. та же композиционная схема реализована в фибулах типа ЯП 51 (варианты ЯП 51 а, ЯП 51 b, ЯП 51 с, ЯП 51 d, ЯП 51 е, ЯП 51 f, ЯП 51 g, ЯП 51 h, ЯП 51 i). Наиболее массовые, эти варианты дополнены и усилены по сравнению с композицией, выработанной к началу X в. Обязательным элементом всех разновидностей фибул типа ЯП 51 были рельефные, ажурные репьи, создававшие пластически выразительный, волнообразно изменяющийся рисунок поверхности. Рельефные шишечки из двух крест-накрест сложенных металлических лент с ажурными просветами между ними, словно завязывают в сверкающий позолотой бронзовый узел ограничительные ленты ромбов. К центральному репью (а иногда — от него, но обязательно по отношению к нему ориентированные) обращены крупные, ставшие ведущим изобразительным элементом маски: подтреугольной формы, изображающие в фас лица воителей, с круглыми выкатившимися глазами, грозно глядящими из-под развевающихся на ветру, спадающих на брови прядей волос; с лихо закрученными усами, скрывающими разинутый в боевом крике рот; треугольная борода завершает изображение, и незаметно связывает его с геометрической структурой остальной композиции. Борющиеся звери окружают лики героев, — наверное, так, как в смертельном сплетении бились вокруг них боевые «драконы» — корабли. Териоморфно-мифологическое начало ко второй половине X в. отходит на задний план, уступая при этом место началу героически-эпическому, антропоморфному. Уже не столкновения сакральных чудищ, а герой, борющийся в их окружении (словно бургундский Гуннар — в яме со змеями), не стихийная космическая сила, а некая личность (безусловно, человеческая) в напряженной борьбе — главная тема искусства викингов. В этом образе запечатлен достаточно массовый, устойчивый, социально определенный общественный идеал, воплотившийся не только в декоре женских фибул, но и в разнообразных «антропоморфных» подвесках, привесках и других деталях убора средней и поздней эпохи викингов. Целые серии рельефных, точнее, скульптурных изображений бородатых голов грозных витязей, выполненные в бронзе, а чаще — в серебре, дошли до нас в комплексах второй половины X — первой половины XI в. Викинги этой поры изображали самих себя. Тяга к социальному самоутверждению новой общественной группы была весьма высока. Не только многочисленность и серийность фибул 51 типа позволяет судить об этом. Характерно соединение на этих вещах ведущих мотивов стиля Борре (не только маски, но и сохраняющие заметное место зооморфные образы) с элементами стиля Еллинг, которые помещаются на бордюре фибул. Словно бы подчиненное, это положение элитарного по своему происхождению и существу, основной реализации (в вещах иных категорий, выполненных из более дорогих материалов) художественного стиля сигнализирует, может быть, о разворачивающемся социальном конфликте. Люди, дарившие своим женщинам украшения, которые мы сейчас называем фибулами типа ЯП 51, отнюдь не собирались без боя подчиниться королевским дружинам, брюти, лендрманам. В середине X в. они осознавали свою силу и не боялись соперничать с королевским окружением ни в роскоши, ни в могуществе, ни в отваге. Около 950 г. в художественной культуре эпохи викингов ощущается некий надлом, непосредственно предшествующий торжеству еллингского стиля и его переходу в новые (Маммен, Рингерике), а также упадку стиля Борре. В это время появляются фибулы типа ЯП 52, в принципе сохраняющие композиционную схему фибул ЯП 51, но, во-первых, все более перегруженные рельефными металлическими деталями (репьи становятся массивными, сложными, иногда — прямо-таки скульптурными); во-вторых, декоративные композиции ажурной накладки, не без воздействия стиля Еллинг, приобретают все более плоскостный, геометризованный схематичный характер, вырождаясь в тяжеловесное, грубое и сухое подражание еллингской орнаментике. Начинается упадок искусства викингов. К началу XI в. в виде фибул типа ЯП 55 (появившихся уже в 960-е годы) этот упадок проявляется со всей очевидностью. Ажурные накладки больше не изготовляются: намеки на некие контуры, обобщенно передающие хрестоматийный сюжет, даются с помощью геометрически однообразных линий, прочерченных в металле. Огрубленные массивные репьи фиксируют традиционную, привычную структуру вещи. Сами эти вещи, однако, безусловно проигрывают по сравнению и с изящными, дорогими и редкими ювелирными изделиями в еллингском стиле, и с монументальной лаконичностью стиля Маммен. Украшения в новом, упрощенном стиле быстро выходят из употребления. Именно в это время, со второй половины X и в начале XI в., социальная среда, выступавшая основным заказчиком и потребителем скорлупообразных фибул (и связанных с ними компонентов женского этнографического убора) переживает глубокий кризис, который проявился, в частности, в упадке культивировавшегося этой средой прикладного искусства. Наряду с основной развивалось еще несколько типологических линий скорлупообразных фибул. Их соотношение можно" представить в виде «типологического дерева». Конфигурация очень близка соответствующим типо-хронологическим схемам развития оружия, прежде всего и наиболее полным образом — мечей. Структура и динамика развития мужской и женской субкультур эпохи викингов совпадают. Эволюция начинается с появления немногих, различных по происхождению типов; интенсивность типологических поисков нарастает к середине IX в., определяется ведущая группа типов, которая даст наиболее многочисленные варианты. В течение следующих ста лет (с 850 по 950-е годы) формируется основной фонд типов, наиболее характерных для эпохи викингов и получивших самое широкое распространение. Боковые линии одна за другой прекращаются. Во второй половине X в. число и разнообразие типов резко сокращается, а в начале XI в. эволюция этой категории украшений исчерпана и завершена. Единый ритм развития связывает в основном надстроечные сферы культуры викингов: базис ее остается практически неизменным (орудия труда, тип селитьбы, домостроительство), качественные изменения если и происходят (появление виков, магнатских усадеб, домов треллеборгского типа), то сравнительно редко, и совпадают с важными общими рубежами внутри эпохи викингов. В то же время синфазность изменений, особенно — на уровне относительно независимых друг от друга мужской и женской субкультур (оружие — украшения), свидетельствуют о том, что в основе этого развития — изменения в общественной системе. Материальная основа этого развития, связывающая в единое целое мужскую и женскую субкультуры, оружейное и ювелирное ремесло, кораблестроение, динамику градостроительного роста и социальной эволюции виков, представлена особой категорией древностей эпохи викингов — кладами серебра. Драгоценный металл — сырьевая база ювелирного ремесла, средство обращения в торговле, военная добыча, основное мерило социально-политических расчетов (межродовых платежей, судебных штрафов, государственных податей). Вместе с тем клады позволяют судить и о более глубоких процессах накопления, обращения, распределения ценностей, а следовательно, раскрывают едва ли не стержневые линии развития, общественное распределение созданного в течение IX–XI вв. экономического потенциала скандинавского общества. Суммарное количество кладов эпохи викингов в Скандинавских странах (известное сейчас) приближается к 1000 находок; примерно половика из них приходится на долю о. Готланд, вдвое меньше — на остальной территории Швеции [401, с 443.]; четвертая часть от общего количества кладов найдена в Дании и Норвегии, при этом датских кладов — вдвое больше. 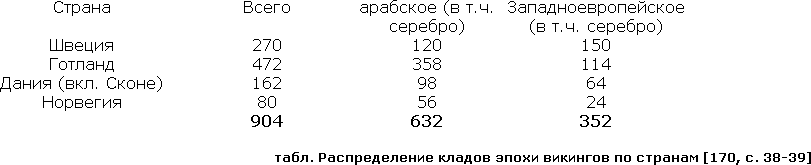 Вес и состав кладов эпохи викингов изменяется в пределах от нескольких дирхемов (до 20 г серебра) до 8-10 кг (2–3 тыс. монет). Самые ранние клады Готланда, появляющиеся в первый период обращения дирхема (770–833 гг., по Янину — Фасмеру), невелики по размеру, состоят из арабского серебра с небольшой примесью сасанидской монеты [397]. Во второй половине IX в. (особенно после 860-х годов) количество и размер кладов резко увеличивается, появляются сокровища, насчитывающие свыше тысячи монет "(№ 391, 422, 457, по Стенбергеру); увеличение «серебряного потока» несомненно, связано с развитием отношений между скандинавами и восточноевропейскими народами [171, с. 69–70]. На рубеже IX–X вв. в кладах вместе с арабским серебром появляются характерные восточноевропейские вещи, (гривны глазовского типа, известные от Прикамья до Финляндии) [401, с. 446]. Вес кладов возрастает, достигая во второй половине X в. 7–8 кг. В кладах Дании IX в. (как и в погребениях Бирки) с арабскими дирхемами сочетается небольшое количество франкских, фризских, реже — английских монет; основную массу серебра составляет, однако, восточное. Византийские монеты в кладах X в. (на Готланде — около 400 и в Швеции — 30) свидетельствуют о возрастающей роли «Пути из варяг в греки». Во второй половине X в. количество арабского серебра, поступающего в Европу, резко сокращается [249, с. 129–130]. Этот спад компенсировался увеличением количества западноевропейской монеты, вовлекавшейся в обращение. В 964–969 гг. начинается разработка Раммельсбергских серебряных рудников в Гарце [170, с. 41, 53–54]. Место арабских дирхемов в денежной Системе Севера занимают германские денарии. В самом конце X в. наряду с немецким начинает интенсивно поступать английское серебро, взимавшееся в качестве «датских денег». Английские и германские монеты преобладают в кладах, зарытых после 1000 г. [378, с. 142–143]. В кладах южной Скандинавии, Сконе эта переориентация «серебряного потока» проявилась особенно резко: кладов 960–970 гг. здесь нет вовсе, но с 980-х годов их количество вновь возрастает, достигая максимума к 1040-м годам; затем начинается плавный спад, до середины XII в. [326, с. 39–44]. Наряду с монетами в кладах содержатся металлические вещи, лом, слитки драгоценного металла, часто в виде колец — baugar, служивших основной мерой платежа (отсюда — baugamenn — родичи, располагающие преимущественным правом на получение виры, или baugrygr — «госпожа кольца», единственная наследница в обычном праве) [F, IV, 33; V, 9; V, 4; G. 275]. Монетные, вещевые и монетно-вещевые клады представляли собой иногда довольно значительные сокровища. Крупнейший из кладов, характеризующий позднюю эпоху викингов и зарытый около 1140 г. в Бурге-Луммелунда (Готланд), весом 10 кг, состоял из 3290 монет (почти исключительно германских), а также 30 серебряных слитков-гривен. Форма, вес и русские надписи на 12 из них указывают, что в серебряном обращении Русь по-прежнему играла важную роль. Об этом же, впрочем, свидетельствует и стабильный ввоз на Русь денариев через скандинавские страны на протяжении XI–XII вв. [401, с. 454; 170, с. 69]. Денежное обращение в североевропейской системе на протяжении трех столетий оставалось стабильным. Скандинавские страны выступали в основном импортерами серебра. Первые опыты местной чеканки монет в виках фиксируются около 825 г.; однако привозное серебро, видимо, подрывало жизнеспособность местной валюты. Выпуск ее возобновляется лишь после 950-х годов [358, с. 247]. Первые устойчивые монетные серии, которые можно рассматривать как начало стабильной государственной чеканки, в Норвегии появляются при Олаве Трюггвассоне (995-1000 гг.), в Дании — при Свейне Вилобородом (995-1014 гг.), в Швеции — при Олаве Шетконунге (995-1020 гг.), но здесь выпуск монеты прерывается в середине XI в. [170, с. 20]. В основном потребность в серебре удовлетворялась за счет поступлений извне. Исследованиями последних лет установлена взаимосвязь «волн серебряного импорта» с известиями о походах и войнах викингов как на Западе, так и на Востоке: количество западноевропейских монет в Бирке изменяется в зависимости от интенсивности нападений норманнов на Англию и Францию [379, с. 862–868], в поступлениях арабского серебра в тот же центр выявляются колебания, совпадающие с сообщениями о набегах «русов» 860–945 гг. на берега Закаспия, а данные об участии в этих набегах варягов подтверждаются и другими, как письменными, так и археологическими источниками [112, с. 191–194; 117, с. 149–163]. Разумеется, это не исключает как чисто торгового характера ряда скандинавских предприятий за рубежом, так и (главным образом) дальнейшего движения серебра во внутреннем и международном обращении [225, с. 16–21]. Однако для определения социальной природы «движения викингов» и места этого движения в общественном перевороте IX–XI вв. констатация теснейшей связи между набегами норманнов и поступлением значительной массы материальных ценностей на Север имеет принципиальное значение. Несомненно, походы викингов стали важнейшим не только социальным, но и в прямом смысле слова — экономическим фактором, они обеспечили концентрацию (в сравнительно короткие исторические сроки) такого, количества новых, созданных за пределами скандинавской экономики, материальных ресурсов и средств, которое невозможно было бы получить ни за счет развития торговли, ни — ремесла, ни — аграрной деятельности; и которые, при этом стимулировали интенсификацию всех перечисленных сфер экономики и создавали качественно новые возможности формирования общественных и политических структур. Общее количество привозного серебра в IX–XI вв., сохранившееся до наших дней в обнаруженных кладах эпохи викингов, исчисляется более чем 160 тыс. серебряных монет (см. их распределение в таблице). 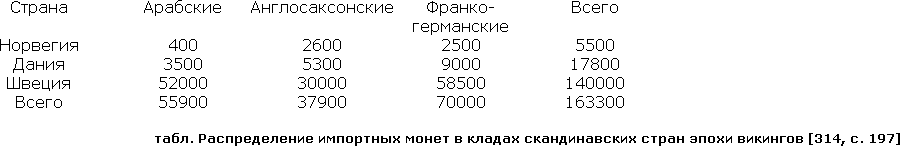 Общее количество серебряных монет фиксирует нижнюю границу объема поступивших на Север ценностей. Золото, судя по письменным памятникам, игравшее важную роль, археологически почти не представлено: известна лишь одна золотая гривна эпохи викингов (Фьёлкестад, Сконе); в кладе из Эриксторпа (Эстеръётланд) найдено 7 золотых браслетов и 1 золотая круглая фибула, и это — едва ли не крупнейший клад золотых вещей IX–XI вв. [401, с. 450]. Вероятно, большое количество золота было изъято в ближайшие к эпохе викингов столетия (может быть, в самом конце ее) в виде платежей, выкупов, даней и пр. Следует учесть и то, что сферы обращения золота и серебра несколько различались — значительная часть золотых изделий оказывалась за пределами той общественной среды, которой в основном принадлежали зарытые в землю клады серебра. Учитывая необходимость основанных на этих допущениях поправок и опираясь на совмещение археологических, нумизматических и письменных данных, можно попытаться, с определенной мерой условности, оценить те изменения в экономическом потенциале общества эпохи викингов, которые произошли в результате импорта драгоценного металла. Значительную часть среди «ископаемого монетного серебра» составляют английские монеты. Их число можно округленно определить в 40000, если к скандинавским находкам присоединить 1600 монет из кладов и погребений Прибалтики и Древней Руси, попавших сюда через скандинавские страны [170, с. 109]. Не вызывает сомнений прямая связь основной части объема этого монетного серебра с Данегельдом. Суммы английских выплат викингам известны, начиная с 991 г. и до правления Канута Великого, когда «датские деньги» превратились в налог, взимаемый на содержание королевской армии и флота (в основном, видимо, они оседали в Англии). Сорок тысяч английских монет из кладов XI в. примерно эквивалентны общему количеству серебра, полученному с 991 по 1016 г. и исчисляемому в фунтах (409 г =2 марки по 204,7 г): 991 г. 22 тыс. 994 г. 16 тыс. 1002 г. 24 тыс. 1007 г. 36 тыс. 1012 г. 48 тыс. 1016 г. 80 тыс. сумма — 226 тыс. фунтов = 452 тыс. марок серебра Пропорция 450 тыс. марок: 40 тыс. монет позволяет примерно определить суммарное количество всего серебра, репрезентативную выборку от которого представляют осевшие в кладах монеты. Следует учесть при этом, что дирхем почти в три раза тяжелее западного денария, т. е. 56 тыс. арабских монет (а это число без особого риска можно округлить до 60 тыс.) представляют в кладах такое количество реально поступившего в обращение серебра, которому эквивалентны были бы 180 тыс. западноевропейских. Пропорция 450: 40 = X1: 180 = X2: 70 позволяет определить сумму — 3220 тыс. марок серебра. Эта масса драгоценного металла составляет лишь часть серебра, поступившего в обращение в IX–XI вв. Серебряный лом и вещи, по подсчетам Б.Хорд, составляют в кладах эпохи викингов от 3 % в начале X в. до 100 % в начале XI вв. Среднее количество серебра, представленного вещами и ломом, как минимум, было равно массе, вычисленной по монетным находкам; вытеснение монет ломом и вещами сохраняет на протяжении ста лет постепенный и равномерный характер [326, с. 129–130]. Следовательно, полученную сумму нужно по меньшей мере удвоить. Общее количество поступившего в обращение на протяжении эпохи викингов серебра можно определить примерно в 7 млн. марок. Эти 7 млн. марок серебра более или менее равномерно были распределены с 793 по 1066 г. между примерно девятью поколениями скандинавских викингов (если опираться на разработанную по данным письменных источников периодизацию походов на Западе), т. е. на каждом этапе экспансии норманнов в скандинавские страны поступало в среднем около 800 тыс. марок серебра. Если это количество распределялось непосредственно между участниками походов, то даже принимая во внимание предельно возможное число вооруженных норманнов (около 70 тыс.), средняя сумма составляет 10 марок серебра. И даже статистически среднее количество серебра «на душу населения» (которое для эпохи викингов определяется максимум в 1,5 млн. человек) оказывается вполне ощутимым — 0,5 марки (100–102 г серебра), или, если перевести их в ходовую арабскую валюту, примерно 35–40 дирхемов на человека — вот своего рода «прибавочная стоимость», создавшаяся в результате походов викингов. В социальной практике, конечно, распределение не приближалось к подобной пропорции, ограничиваясь прежде всего слоем реальных участников походов и их семей. Экономический потенциал, создаваемый этими поступлениями, можно представить по данным письменных источников. Марка серебра — стандартная цена рабыни на рынках виков: «Возьми себе любую из одиннадцати, и заплати за нее одну марку серебра» [Сага о людях из Лаксдаля, 12]. В циркумбалтийском регионе действовала довольно устойчивая шкала цен, определявшая соотношения основных товаров [327, с. 229–231]. 0,5–0,75 марки серебра = среднего качества меч 1 марка серебра = 1 рабыня = 2 коровы = 4 копья 1,5 марки серебра = 1 раб = 1 (2) лошади = 10 свиней Даже при статистически условном распределении захваченного викингами серебра покупательная способность бондов ощутимо повышалась. Не случайно, видимо, на Готланде, в наиболее «крестьянской» из областей преобладают мелкие клады — те самые считанные дирхемы, на которые можно было купить корову, несколько свиней и пр. В то же время становилась возможной концентрация в одних руках сумм до 10–12 марок, обеспечивавших, в принципе, годовое содержание воина-профессионала. Стоимость такого содержания, как доказал в специальном исследовании М.Н.Федоров, оставалась стабильной. В обществах с экономикой, основанной на ручном труде, будь то Римская империя времен Августа или государство Аббасидов в IX–X вв., содержание квалифицированного воина требовало примерно одинаковых расходов (месячное жалование аббасидских конников — 80 дирхемов в месяц) [224, с. 79]. При этом жизненный уровень базировался на сопоставимых основаниях. Цены на скот в Средиземноморье и на Севере оказываются близкими (если приравнять 1 марку серебра к 70 дирхемам, а 1 византийскую номисму к 16 дирхемам); в северном регионе по крайней мере некоторые продукты питания были дешевле, чем на юге (таблица внизу). Поступавшее серебро делало возможными многоступенчатые торговые операции. При этом наиболее значительными были перепады цен на «живой товар», а структурно определяющее место в торговом обращении занимала работорговля, дававшая наибольшие прибыли [144, с. 140]. 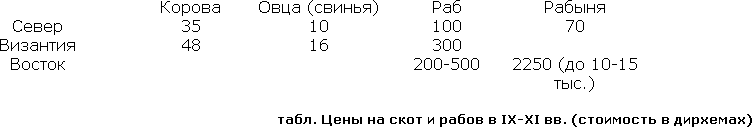 Персонаж «Саги о людях из Лаксдаля» Гилли из Гардов, которому принадлежит цитированная реплика, располагал потенциальным капиталом минимум в 30 тыс. дирхемов (он вез на продажу 12 рабынь). С этим эпизодом перекликается замечание Ибн-Фадлана, посетившего факторию «русов» на берегу Волги и описавшего большие дома, в которых помещалось по 10–12 купцов с наложницами, «и у каждого скамья, на которой он сидит, и с ним девушка, восторг для купцов…» (Ибн-Фадлан, 210-а). Пленницы из северных земель ценились особенно высоко: как отмечал известный востоковед A.Мец, «белая рабыня, совершенно ничему не обученная» могла быть продана за 10–15 тыс. дирхемов, т. е. в 200 раз дороже первоначальной цены. Даже если варяжскому купцу доставалась лишь часть этой прибыли, она, вероятно, оправдывала все расходы на дальнее и опасное путешествие. Эти доходы здесь же, на восточных рынках обращались в экзотические товары. Они стоили дорого: византийская «паволока» — от 10 до 50 солидов (т. е. до 800 дирхемов), 10 локтей роскошной восточной ткани — до 600 дирхемов [99, с. 114–117; 224, с. 78]. Однако количество средств, поступившее на Север в результате набегов и походов викингов и условно исчисляемое в 7 млн. марок, что можно приравнять к 50 млн. дирхемов (или же 150 млн. западноевропейских денариев), создавало стабильные условия для участия скандинавов в трансконтинентальном движении товаров. Лишь в самых общих чертах можно реконструировать дальнейшую судьбу этого, созданного в течение IX–XI вв., экономического потенциала, обеспечивавшего каждому поколению скандинавов дополнительные средства в 800 тыс. марок серебра, или по полмарки на душу населения. В норвежском дружинном уставе XIII в. Hir?skra зафиксировано соотношение размеров королевского пожалования — вейцлы — для различных звеньев феодальной иерархии [Hir?skra, XXXV]. Служилый человек короля — lendr ma?r (лендрман), получал вейцлу доходностью в 15 марок; ему подчинялось 40 дружинников, huskarlar: им в зависимости от ранга полагалась вейцла от 1,5 до 3 марок. В среднем для обеспечения такой «первичной ячейки» скандинавской феодальной иерархии (лендрман с дружиной) требовался ежегодный доход порядка 100 марок серебра. Эти средства выглядят сравнительно скромными: древнерусский дружинник XII в. получал 200 гривен серебра, сумму, равную 50 северным маркам [НПЛ, с. 103–104]. Но и эти достаточно скудные ресурсы для строительства феодальной общественной структуры могли быть получены прежде всего в результате длительного перераспределения материальных ценностей, сосредоточенных в скандинавских странах в течение эпохи викингов. Количество серебра в 800 тыс. марок, поступавшее на Север в течение деятельности одного поколения, исходя из тарификации «Хирдскры» позволяло, в принципе, обеспечить ежегодный доход примерно для 300–400 лендрманов с дружинами. 800 тыс. марок: 25–30 лет деятельности одного поколения: 100 марок феодальной ренты — 320 феодалов х 40 дружинников = 12800 человек. В пределах 12–15 тыс. человек можно приблизительно определить численность собственно феодального класса, в пользу которого в XI–XII вв. были перераспределены общественные средства. Конечно, использовались не только внешние, полученные викингами, но и внутренние ресурсы. Тем не менее реконструированное распределение представляет собой простейшую модель перехода от одной общественной структуры к другой, от общества состоявшего из 60–70 тыс. свободных полноправных воинов-домохозяев, участников тингов, сотоварищей-фелаги викингских дружин и торговых компаний — к иерархической структуре трех феодальных государств, политическая, а в значительной мере и экономическая власть в которой принадлежала иерархии, состоявшей из дружинников-хускарлов, лендрманов— королевских вассалов, для обозначения которых норвежские источники иногда пользуются заимствованным термином greifi — Graf [47, с. 137], и возглавлявшейся королем. Сопоставляя полученную условную численность феодального класса Скандинавии XII–XIII вв. (12–15 тыс., в том числе до 400 лендрманов) с данными о численности народного военного ополчения — ледунга (охватывавшего все свободное, полноправное вооруженное население, т. е. для IX–XI вв. — всех потенциальных участников походов викингов), мы можем уточнить соотношение феодальных сил в скандинавских странах. Ледунг в Дании исчислялся в 30–40 тыс. человек, в Норвегии и Швеции он был примерно равным по численности (12–13 тыс. и 11–12 тыс. человек). Суммируя имеющиеся данные, мы получим следующую структуру вооруженных сил и общественной стратификации, сложившейся в течение IX–XIII вв. 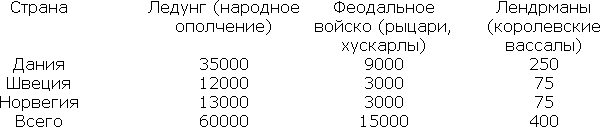 табл. Структура вооруженных сил и общественной стратификации скандинавских стран в период раннего феодализма (реконструкция) При, всей условности реконструкции, численность господствующего класса определяется в пределах, близких к устанавливаемым по письменным источникам и соотносимых с археологическими показателями (предельная емкость «лагерей викингов» — королевских крепостей в Дании). Совокупность данных о социальной динамике в Скандинавии IX–XIII вв. свидетельствует о подлинно формационном значении походов викингов и связанных с ними изменений, происшедших в объеме и распределении материальных ценностей, структуре вооруженных сил, общественном строе. Эпоха викингов во всем ее своеобразии, была закономерной и единственной реализованной конкретной формой перехода скандинавских стран к классовому, феодальному обществу, а «серебро викингов» — одним из мощных факторов этого по существу своему революционного перехода. Динамику перераспределения материальных ценностей в процессе феодального преобразования скандинавского общества можно сейчас представить лишь в общих чертах. Если учесть, что по социодемографическим данным при населении в 1–1,5 млн. человек в ледунг призывался примерно 1 из 4 взрослых бондов, то «показатель феодальной экспроприации» в Скандинавии определяется отношением: 15 тыс. рыцарей: 60–70 тыс. ополченцев: 250–300 тыс. бондов = 1: 16 или 1: 20. Следовательно, полтора-два десятка бондов должны были поступиться определенной частью своего благосостояния, чтобы обеспечить статус одного члена феодальной иерархии. Примем это условное отношение за некий «коэффициент социальной стратификации» Ks (Ks = 1: 20 = 0,05). Значительно более детальное и основанное также на данных монетных кладов исследование процесса социальной стратификации и роли в этом процессе движения серебра в Дании эпохи викингов проведено недавно К.Рандсборгом [378, с. 143–149]. Введенный им «показатель социальной стратификации» Ss основывается на объективных характеристиках археологического материала (вес, количество, топография кладов серебра) и позволяет оценить относительную динамику социальной стратификация отдельных областей Данил. Согласно этому показателю, например, о. Борнхольм (датский аналог шведскому Готланду) в IX–XI вв. выступает как небольшое, о своем роде демократическое племенное княжество с архаичным укладом, равномерным распределением богатств, слабой стратификацией и отсутствием признаков феодальной государственности. Сравнение его показателя Ss с показателями соседних, более развитых провинций, таких, как Сконе или Зеландия, дает отношение, близкое к нашему условному коэффициенту Ks = SsБорнх.: SsЗел. = 0,21: 2,38 ~ 0,01. Динамика социального развития Зеландии в сравнении с Южной Ютландией, где возник центр складывающегося «государства еллингской династии», дает иное отношение Ks = SsЗел.: SsЮ. ютл. = 2,38: 8,72 ~ 0,3. В пределах между этими условными показателями (0,01 < 0,05 < 0,3) размещается некий сложный, далеко не во всех своих подробностях доступный реконструкции механизм перемещения материальных ценностей и организации социальных сил. Действие его было неравномерным, не только в разных скандинавских странах (в Дании, видимо, наиболее динамичным, в Швеции — наиболее медленным, по крайней мере во второй половине X–XI вв.), но даже в разных областях одного складывающегося государства: где-то практически приближавшимся к нулю, консервируя демократическую общественную структуру, где-то — на два порядка превышавшим этот минимальный показатель, форсируя ломку архаичных структур и приближая их к средневековым общеевропейским нормам. Суть этого механизма в том, что он обеспечивал постепенную и необратимую концентрацию средств, изымая излишки ресурсов, в среднем по Скандинавии, у 500–600 бондов с их семействами, чтобы сосредоточить эти средства в распоряжении 1 лендрмана с 40 дружинниками. Культура викингов по мере того, как происходило это перераспределение, теряла не только материальную, но и социальную базу, обрекалась на упадок и деградацию. Исчезала, размывалась, расслаивалась та своеобразная, переходная общественная среда, которая в IX–XI вв. выступала основным заказчиком и потребителем новых форм материальной культуры. Перераспределение материальных средств привело к перестройке культурных норм, и бесспорные проявления этого процесса фиксируются на исходе эпохи викингов уже в середине XI в. В недрах социальной среды, создававшей материальные и культурные предпосылки для нового строя, «образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т. д.», писал Энгельс в «Анти-Дюринге» [2, с. 293]. Кристаллизация этого класса в Скандинавии, проходившая поэтапно в течение эпохи викингов, в теснейшей связи с викингами как общественной средой, привела к уникальной в европейских условиях сохранности духовного наследия этой переходной эпохи. Древнесеверная поэзия и литература, «Эдда», драпы и висы скальдов, саги, сложившиеся в XII–XIII вв. в единый, структурно организованный фонд, позволяют дополнить анализ материальных и социальных условий реконструкцией основных процессов в духовной жизни эпохи викингов. 7. Духовная культура К памятникам духовной культуры эпохи викингов относится значительная часть готландских так называемых поминальных камней, или «камней-картин» (bildstenar), стел-писаниц, покрытых низкорельефными изображениями, в древности раскрашенными; их известно около 300 [352; 401, с. 342]. Обычай воздвигать bautastenar (поминальные камни в точном смысле слова, необработанные стелы из узких высоких гранитных блоков) известен по крайней мере с первых веков нашей эры. В V — начале VI в. на смену им на Готланде, не без влияния ирландской культуры, появляются стелы-писаницы с классически строгим оформлением, прямоугольных очертаний (со слегка вогнутыми вертикальными сторонами). На внешней поверхности стелы, оконтуренной узкой рельефной рамкой, размещались раскрашенные изображения: обычно это — солярные символы (сегнерово колесо и прочее) в центральной части; ладьи — внизу; изображения полуфантастических «небесных животных», а иногда — героев в ритуально-боевых позах, в верхней, реже — в нижней части стелы. Круг этих образов охватывает различные пласты первобытной духовной культуры, уходя корнями в древнейшую охотничью магию и тотемистические представления (небесные звери, священные олени), основные образы связаны с раннеземледельческими «религиями плодородия», в Европе сложившимися в энеолите, на Севере — в эпоху бронзы [160, с. 14]. Наряду со строгой системой древних образов (пару небесных оленей дублируют близнецы-герои, солнце и ладья образуют ось симметрии и пр.) складывается устойчивая композиция стел с вертикальным зонированием (низ — ладья путешествующая, быть может, из мира людей в загробный мир; середина — солнце, озаряющее мир людей; верх — астральное пространство, небо), повторяющим структуру «мирового древа», ясеня Иггдрасиль, своего рода «моделью» которого и были стелы [168, с. 148–165]. Около 700 г., в конце вендельского периода на Готланде появляются стелы грибовидной формы (возможно, упрощённо воспроизводящие британские каменные кресты), четко расчлененные на 2–6 ярусов, которые плотно заполнены разнообразными изображениями, по технике и композиции напоминающими изображения на коврах и декоративных тканях (для этой эпохи зафиксированных, в частности. Находками в Усеберге) [401, с. 402]. Эти композиции подчинены определенной логике. Наиболее распространенный и, видимо, значимый мотив — изображение парусного корабля, наполненного вооруженными воинами. Шумели весла([Первая песнь о Хельги, убийце Хундинга, 27]) Парусный корабль викингов, вытеснивший древнюю солярную ладью, совершает свое эпическое путешествие, возможно, тоже в загробный мир. На некоторых камнях (Бруа) он представляет собой центральное изображение надгробного памятника, и воинов всего — двое-трое, словно эпическая пара Сигурд — Регин: Кого это мчат([Речи Регина, 16–17]) Путешествие, как на камне из Бруа, завершается в «верхнем мире», на небесах, в обители асов, где воина, въезжающего верхом на коне, встречает валькирия с протянутым кубком: Клену тинга кольчуг([Речи Сигрдривы, 5]) Приведенные стихотворные параллели из песен «Эдды», безусловно, произвольны. Нет никаких оснований рассматривать большинство известных изображений на стелах как прямые иллюстрации тех или иных эддических песен. Однако такие иллюстрации, вернее говоря, точные соответствия все-таки есть. Наиболее известная из них — на камне из Ардре (Ardre, VIII), где среди нескольких явно сюжетных композиций по крайней мере одна поддается расшифровке: кузница мифического чудо-мастера Вёлунда, плененного конунгом Нидудом. Изготовив железные крылья, Вёлунд заманил к себе в кузницу детей конунга, обесчестил его дочь и обезглавил сыновей. Железная птица, девушка в длинном платье и тела убитых юношей изображены возле здания кузницы, с полным набором кузнечных орудий; видимо, после того, как Вёлунд Головы прочь([Песнь о Вёлунде, 24, 29]) Эпические мотивы, опознаваемые и на других стелах, играли, однако, вспомогательную роль, выступая, видимо, в качестве своего рода «кеннингов», метафорических фигур, как и в поэзии, обогащавших основное повествование о жизни, смерти и посмертной славе героя (лица, которому посвящен памятник). Всадник под «знаком бесконечности» (заимствованным из христианской символики) — главный герой готландских стел, как на камне из Лилльбьорс: Ехать пора мне([Вторая песнь о Хельги. убийце Хундинга, 49]) Вальхалла, где петух Одина Сальгофнир сторожит покой павших в битвах героев-эйнхериев — цель пути, запечатленного на поминальных камнях. Ее иногда изображали в виде чертога с высоким куполом (так же она выглядит на раннем, IX в., руническом камне из Спарлёза в Швеции, где есть изображенные в иной по сравнению с готландской манере и корабль викингов, и всадник, разнообразные чудовища и птицы; мир образов поминальных стел не был явлением локально готландским). Вальхалла, валькирия, восьминогий конь Одина — Слейпнир, реже — орлы, или вороны Одина закрепляют содержательный центр композиций, принадлежащий мифологическому пласту. Сцепы битв, погребальных процессий, обрядов вместе с эпическими «сценами-кеннингами» образуют как бы цепь связующих звеньев между кораблем, начинающим погребальное путешествие (а может быть, и предшествующий ему морской поход), и чертогами асов — его конечной целью. В ткань этого, основного, повествования о жизни, смерти и посмертной славе героя-воина вплетаются иногда и другие мифологические мотивы; в некоторых образах можно угадать не только «вспомогательный персонал» Асгарда (валькирий), но и самих асов. Третий ярус верхней, «небесной» зоны камня из Стура Хаммарс открывается изображением, в котором видят Одина, висящего на дереве, во время его мистического испытания-жертвы, ради постижения тайны рун: Знаю, висел я([Речи Высокого, 138]) Впрочем, это может быть и сцена жертвоприношения, воспроизводящего эддический миф. Как и «Троица» на камне из Санда — то ли Один, Тор и Фрейр, то ли жрецы с их атрибутами (копьем, молотом, серпом); на стеле, одной из поздних (XI в.) есть руническая надпись с именами Родвиск, Фарбьёрн, Гунбьюрн. Важен при этом сам факт соединения на поздних готландских стелах двух знаковых систем — изобразительной и рунической, которые до конца эпохи викингов в островной культуре Готланда сосуществовали и не пересекались. Изобразительные образы и руны в равной мере связаны со становлением и развитием древнесеверного мифа и эпоса, если рассматривать их в широком скандинавском контексте. Как и ранние готландские изображения, руны возникли в архаических глубинах германских культур [316], в эпоху германо-греко-римских контактов, возможно, в Северном Причерноморье периода готского владычества (II–IV вв. н. э.). Старший рунический алфавит, из 24 знаков, был в общегерманском употреблении со II по VII в.; к эпохе викингов в Скандинавии формируется сокращенный, 16-значный, алфавит — футарк. Каждый знак имел имя собственное, а футарк в целом, разделенный на три разряда — роды (aettir): Freys aett, Hagal aett, Tys aett, это — заклинание, своего рода миниатюрная, ритмически организованная мифологическая поэма или песнь: Freyr (fe), ur, turs, ass, rei?, kaun Hagl, nau?, iss, ar, sol Tyr, bjarkan, ma?r, logr, yr В этом стихотворном заклинании переплетены скальдическим тмесисом собственные имена асов (Фрейр, Хагаль, Тюр), имена нарицательные богов и чудовищ (ас, туре), отвлеченные понятия — иногда, видимо, персонифицированные (год-урожай, нужда), обожествляемые природные объекты (солнце), социальные термины (муж, закон). Каждой из рун была свойственна синкретичность функций: n — это Фрейр, бог-конунг Ингви, бог урожая, ван среди асов, но это и fe — богатство, имущество, наследие, достояние. l, Тюр — Победа: Руны победы([Речи Сигрдривы, 6]) Руническая письменность в представлении скандинавов эпохи викингов была могущественным средством воздействия на окружающий мир и пользоваться ею мог не каждый. Эгиль Скаллагримссон предупреждал, вырезав благотворное заклинание: Рун не должен резать([Сага об Эгиле, 72]) Ему же принадлежит вредоносное заклинание, вырезанное рунами:
Текст этого заклинания, как показал норвежский рунолог Магнус Ульсен, сохранен в двух висах Эгиля, переданных в той же саге: Да изгонят гада([Поэзия скальдов, 31–32]) Записанные рунами, эти висы содержали бы каждая по 72 знака, т. е. трижды общее количество рун старшего рунического алфавита; в них, таким образом выдержаны магические числовые соотношения [369, с. 235–239; 214, с. 145]. Тем же магическим отношениям (16 или 24) подчинена композиция ранних произведений звериного стиля — золотых воротничковых гривен VI в. из Мене, Оллеберга, Фьерестадена [231, с. 17]. И семантика, и форма рун непосредственно связаны с мифологией. Руны — дар Одина, завоеванный им ценой тяжкого мистического испытания, когда, пронзенный копьем и повешенный на ветвях мирового древа, совершал он шаманское странствие по трем мирам: Никто не питал([Речи Высокого, 139–142]) Далее в «Речах Высокого» излагаются заклинания, предваряемые вопросами, охватывающими все ступени языческой ритуальной практики (включая искусство пользоваться рунами): Умеешь ли резать?([Речи Высокого, 144]) Миф и воплощающий этот миф ритуал — вот первичная сфера применения рунической письменности. Но примерно в то же время, когда после эпохи Великого переселения народов в древнесеверной культуре формируется наряду с начальным, мифическим, новый, эпический пласт, когда на грани вендельского периода и эпохи викингов, на готландских стелах к мифологическим образам присоединяются образы эпические, руны, как и изобразительные образы, становятся средством выражения эпоса. Древнейшая из шведских надписей на рунических камнях эпохи викингов, датированная IX в., на камне из Рек в Эстеръётланде, содержит верифицированный текст из 800 знаков [337, с. 13; 338, с. 130]. В надписи, вырезанной в память Вемода, сына Барина, помещена строфа, представляющая собой отрывок из эпической песни — примерно так же, как изобразительные сюжеты из того же эпоса помещались на готландских стелах: Правил Тьодрек Теодорих Великий, король остготов в Италии, отождествлен здесь с правителем Рейдготаланда — эпической страны готов, находившейся по «Хеймскрингле», где-то по соседству с владениями свейских Инглингов [Сага об Инглингах, 18]. В песнях «Старшей Эдды» соответствий этому отрывку или даже кругу сюжетов нет: в эпоху викингов, по-видимому, северный эпос был значительно богаче, и не исчерпывался песнями, записанными в Исландии в XII–XIII вв. Верифицированные рунические тексты [295] позволяют судить о движении от мифа к эпосу, а затем — к поэтической проекции мифо-эпических норм на окружающую жизнь, движения, которое дало впоследствии высшее из достижений эпохи — поэзию скальдов. Сами по себе рунические камни выражали одну из ведущих этих норм — представление о «посмертной славе», or?romr, domr um dau?an hvern — «сужденьи о каждом из мертвых» [Havamal, 77]. Рунические надписи — прежде всего эпитафии, посмертная оценка человека, данная коллективом (прежде всего родовым) и для коллектива (прежде всего потомков). Личность, вычленяющаяся из родового коллектива и в тоже время своей индивидуальной судьбой составляющая часть судьбы этого коллектива, — вот следующий, после мифических богов и эпических героев, ряд персонажей, следующий уровень образов древнесеверной поэзии. Рунические камни запечатлели начальную фазу этого процесса, в надписях типа Хёгбю (Эстеръёталанд) [140, с. 121]: Добрый карл Гулли В десяти строках этой висы суммирована судьба целого рода, точнее семейства викингов первой половины XI в., странствовавших от Греции (Византии) до Британии (Дунди, в Шотландии), сражавшихся в Скандинавии (р. Фюри — в Швеции, или о. Фюри в Лимфьорде) и на Руси (Хольм — Хольмгард, Новгород); лишь один из сыновей умер дома, и отец — «добрый, могучий бонд» пережил их всех. Рунические камни и готландские стелы, строго синхронные эпохе викингов, задают как бы систему координат, для ориентации в языческом мировоззрении, запечатленном в более поздних письменных памятниках — «Старшей Эдде», поэзии скальдов, «Младшей Эдде», сагах [135, с. 171–189]. Целостность этого мировоззрения определялась прежде всего представлением о времени: неподвижном, точнее — циклическом, как круговорот времен года, постоянно возвращающемся к неким исходным ситуациям, запечатленным в мифе и регулярно воспроизводящимся в ритуале. При таком «круговращающемся» времени пространство обретало строго центрическую организацию. Обитаемому, освоенному миру людей и культуры противостоял окружающий хаос, мир враждебных и диких природных сил. Мидгарду, «Тому, что в пределах ограды» — Утгард, «За оградой». Мифологическое пространство моделировалось по реальной земледельческой усадьбе, окруженной враждебным миром стихий. Вертикальную ось этого мира закреплял помещавшийся где-то над Мидгардом Асгард — «Мир, или усадьба, богов». Мировое Древо — ясень Иггдрасиль воплощал эту ось, соединяя земные и небесные, реальный и потусторонний миры как в вертикальной, так и в горизонтальной проекции: вершина его поднималась в небеса, а корни расходились в периферийные и подземные миры, населенные хтоническими чудовищами, великанами, мертвецами. Эти силы, в образе Мирового Змея Ермундганда, ограничивают мир, Heimr, в пространстве, а Мировой Зверь, волк Фенрир, таящийся до поры в одном из миров, когда-то положит предел Вселенной и во времени. Но до тех пор, в постоянно возобновляющемся противоборстве с враждебными чудовищами, в извечной борьбе за сокровища труда, культуры, мудрости мир богов и людей защищает младшее племя божественных существ — род асов во главе с Одином. Высшие существа скандинавской мифологии обозначались словом god, с исходным значением «благо» (сохраненным и в русск. — у-год-ный, вы-год-а, по-год-а). Наиболее древнее и устойчивое представление об этом «благе» выражалось формулой fri?r ok ar — «мир и урожай»; имя Freyr, возможно, семантически связано с этой формулой. Среди асов Фрейр — податель урожая, божественный конунг, Дротт — представитель и потомок старшего поколения богов, ванов; он и связанные с ним божества — Ньёрд, богиня-охотница Скади, Фрейя — наделены наиболее архаичными функциями, восходящими к «религиям плодородия» ранних земледельцев. Top (thorr — «гром»), северный громовержец, воинственный и мощный защитник богов и людей от великанов и чудовищ, воплощает стадиально более поздние функции. Первоначально он, видимо, занимал высшее место в северном пантеоне (об этом, в частности, свидетельствует обилие имен на Тор-, типа Торстейн, Торбьерн, Торольв и пр.). В эпоху викингов, однако, этот образ несколько снижается: Тор, как и Локи (негативный двойник Одина, «отрицательный вариант культурного героя»), выступает объектом ритуального осмеяния [136, с. 152, 154]. Эти деформации связаны с кристаллизацией центрального образа скандинавского пантеона, Одина, верховного бога викингов. O?inn (от o?r — «поэзия, вдохновение, исступление, одержимость»), — повелитель и создатель всего, что зовется «мудрость» frae?i, «искусство» — thrott, предельное воплощение «культурного героя». Ценой тяжкого испытания он овладевает медом-мудростью и тем самым становится создателем всего сущего, главой рода асов, их военным вождем. Во главе полумиллионного воинства (по 800 воинов из 540 дверей Вальхаллы) Один выйдет сразиться с Волком в день Гибели мира и погибнет. Начало и конец мира, равно как высший миг его существования — овладение медом-мудростью, составляют Судьбу Одина. Вместе с ним ее разделит весь род асов и весь род людской. В мифологическом пласте скандинавской культуры образ Одина — высшее выражение представления о личности и ее судьбе. Личность конституируется в нормах. Человеческое существование, сама жизнь Мидгарда, воспринимавшегося как отражение, двойник Асгарда, гарантирована лишь при сохранении стойкой связи Асгард — Мидгард. Она обеспечивалась, во-первых, регулярным воспроизведением мифов — в ритуалах; во-вторых, обязанностью людей следовать этическим и социальным нормам, сформулированным асами, что позволяло в какой-то мере отождествить людей и асов и распространить на Мидгард эффективность тех действий, которыми асы обороняли Асгард от враждебных сил. Так реализовывалось «благо», носителями которого были боги, go?. Этические нормы излагаются в ряде мифологических песен «Эдды», прежде всего в «Речах Высокого» [Havamal]. Высокий, Разновысокий и Третий — имена Одина, беседующего с легендарным свейским конунгом Гюльви [Младшая Эдда. Видение Гюльви]. Таким образом, эти нормы даны в виде прямого обращения верховного аса к людям. «Речи Высокого», по крайней мере в начальной своей части (строфы 1-95, 103), относятся к древнейшему слою в «Эдде» [210, с. 669]. Эта часть представляет собою свод житейских правил. Для оценки времени се формирования показательно практически полное отсутствие указаний на родовые отношения: круг общения ограничен гостем, другом, мужем (-ами), девой (женщиной). Лишь однажды помянута месть, но и то, скорее, в личном, нежели в родовом, контексте: Злые поступки([Речи Высокого, 127]) Родовые отношения, в социальной практике сохранявшие значение вплоть до XII–XIII вв., здесь словно бы «вынесены за скобки». Основное внимание уделено нормам личного поведения героя, оказавшегося за пределами родовых связей, в «парцеллизованной» среде, где с любой стороны можно ожидать внезапного враждебного удара: Прежде чем в дом([Речи Высокого, I, 62]) Субъект этих норм в морально-этическом плане индивидуализирован едва ли ни так же предельно, как в плане мифологическом — Один: Пусть невелик([Речи Высокого, 37, 95]) Основные гарантии существования — собственная сила, отвага, оружие, но эти гарантии можно расширить, привлекая к себе друзей: Муж не должен([Речи Высокого, 48, 41]) Социальное одиночество преодолимо путем установления новых отношений, с позиций норм «Речей Высокого» приблизительно равноценных родовым: Щедрые, смелые([Речи Высокого, 48, 52]) Отношения felagi, типичные для эпохи викингов, были вполне адекватным отражением этих норм. Родовые связи, если и проявляются, то в чрезвычайно стертом, смазанном виде: Брата убийце([Речи Высокого, 89]) И лишь в конечной, важнейшей норме, определяющей смысл и ценность прожитой человеком жизни, можно распознать традиционные родовые представления о судьбе рода и человека, о посмертной славе и памяти в цепи поколений: Гибнут стада([Речи Высокого, 76, 77]) В этой максиме, собственно, и род отвергается, как и материальные богатства: подлинную ценность представляет только domr um dau?an hvern — «молва о каждом умершем», «мертвого слава», or?romr. Воплощением ее стали не только рунические камни (воздвигаемые, как правило, родичами), но прежде всего — ведущие жанры скальдической поэзии, а в нормативно-идеализированном виде — героический эпос. «Слава», Romr, — конечный итог и реализация «Судьбы», Heill героя — прижизненной «удачи, доли, судьбы» индивида. Представление о Судьбе — основополагающий элемент мировоззрения скандинавов эпохи викингов [50, с. 167]. Исключительно разнообразна терминология, относящаяся к этому понятию: Судьба — Дева-Удача, Hamingja, fylgja; счастье, доля — gaefa; счастье, удача — heill; участь, доля — audna; определенный от века закон — orlog. Для большинства из этих понятий существовали бинарные оппозиции: ohamingja — неудача, ogaefa — будущее несчастье, грядущая недоля, а в предельном случае feig? — грядущая смерть. Способность человека следовать высшим этическим нормам выверялась и реализовывалась в его следовании своей Судьбе. Этот жесткий закон распространялся не только на людей, но и на асов. Эддическая мифология пронизана знанием конечной судьбы, грядущей Гибели богов. Песни «Эдды» открываются «Прорицанием вёльвы», полностью охватывающим судьбы мира — от его сотворения до его конца и последующего воскресения. «Прорицание вёльвы» (Voluspa) относят к числу мифологических песен, сложившихся в эпоху викингов, во второй половине X в. [210, с. 665]. Концепция конечной гибели мира и богов, Ragnarok, при бесспорном воздействии христианства (готский перевод Библии Ульфилы появился около 340 г.), органично завершила сложный мировоззренческий процесс смены «циклического» времени линейно ориентированным. Не просто чередование хороших и дурных лет, урожайных и неурожайных сезонов, но нарастание социальных коллизий, конфликтов, катастроф суммировано в оценках эпохи; sceggold, scalmold, vindold, vargold — «век секир», «век мечей», «век бурь», «век волков (преступников)» [Voluspa, 45]. «Прорицание вёльвы»— наиболее полная панорама скандинавского языческого мироздания, охватывающая сразу все его аспекты — временной, пространственный и, так сказать, социально-структурный. Последний дан в характеристиках основных групп мифических существ (включая людей — от первой пары, Аска и Эмблы, йотунов «рано рожденных», асов, карликов, норн и ванов, валькирий и хтонических чудовищ, живых мертвецов и будущих эйнхериев), и — это главное в содержании песни — мир отождествляется с судьбами асов, отображенными в высшие, роковые мгновенья: Гарм лает громко([Прорицание вёльвы, 44, 49, 54, 58]) Сотворение мира, война асов с ванами, похищение Одином священного меда, распря с Локи — все это лишь экспозиция главных событий, и страшный час пророчества — это худшее из времён: Брат будет биться([Прорицание вёльвы, 45]) Как и в «Речах Высокого», но с отчетливо негативной оценкой, картина распада родовых устоев — время сотрясения мироздания: Иггдрасиль дрогнул([Прорицание вёльвы, 47]) В страшном сражении один за другим гибнут асы, и вместе с ними — сражающиеся против них чудовища. Битва завершается картиной глобальной, космического масштаба, огненной катастрофы: Черным стало Солнце([Прорицание вёльвы, 57]) Смысл апокалипсического финала, однако, не в окончательном уничтожении мира, а в свершении «судеб славных и сильных богов»: после гибели асов Видит она([Прорицание вёльвы, 59]) Время обратимо; гибель асов — «это не формальная, а, так сказать, этическая предопределенность» [211, с. 53]. Критерий ordromr сохраняет свою действенность: Собираются асы([Прорицание вёльвы, 60]) Представление о посмертной славе в памяти поколений дополнялось представлением о ниспосланной свыше, созданной асами общественной организации людей, выраженным в «Песни о Риге», также одной из древнейших в «Эдде» [51, с. 159–175]. «Песнь о Риге» (Rigsthula) повествует, как, посетив последовательно три родительские пары, ас Риг стал родоначальником рабов, свободных и знати. Каждая семейная чета получила от Рига некие наставления, видимо тождественные «Речам Высокого»: Риг им советы([Песнь о Риге, 5, 17, 33]) Дифференциация социально-этических норм подкреплена различиями внешнего вида и образа жизни. Уродливые и грязные потомки раба-Трэля удобряли поля([Песнь о Риге, 12]) Семейство свободных крестьян-общинников отличается сравнительным благообразием, хорошей добротной одеждой. Патроним сословия, Карл, родился «рыжий, румяный, с глазами живыми». Подрастая, он быков приручал([Песнь о Риге, 22]) Знатные одеты в цветные одежды с металлическими украшениями, в доме у них — оружие, ценная утварь, на столе — дичь и вино. Родившийся от Рига маленький Ярл щитом потрясал([Песнь о Риге, 35]) Затем ему были открыты тайны рун; в знаниях и искусствах Ярла превзошел его сын, юный Кон, Konungr —"конунг". Самое главное, что фиксирует «Песнь о Риге», это момент преобразования одной общественной системы в другую. Мифические «родительские пары», в свою очередь, связаны между собою отношениями родства (Прадед и Прабабка — Дед и Бабка — Отец и Мать); но на их потомков эти отношения словно бы не распространяются. Ai + Edda = trael Afi + Amma = Karl Fadir + Modir = Jarl Естественная генеалогическая структура (прадед — дед — отец) преобразуется в социально стратифицированную. Миф эпохи викингов запечатлел процесс распада родовых морально-этических ценностей. Ранняя его фаза отражена в «Песни о Риге». Кодекс норм в «Речах Высокого» относится, по существу, к следующей ступени, когда личность и ее судьба, а также оценка этой судьбы обществом становятся самой значимой из ценностей. «Прорицание вёльвы» обобщает представление о всемогуществе, неотвратимости и неизбежности Судьбы, которой подвластны даже боги. Героическое последнее сражение асов словно моделирует идеальную норму поведения, которой в конечном счете должен следовать каждый из людей этой эпохи, когда родовые связи распадаются, время, кольцеобразно струившееся, обретает линейную направленность и люди, заключающие длинную цепь поколений, вступают в «век мечей, век секир, век бурь, век волков». Заданная мифической судьбой асов модель поведения получила реализацию в качестве идеальной нормы в следующем за мифом творческом пласте скандинавской духовной культуры — героическом эпосе. Героические песни «Эдды» группируются в три эпических цикла, переплетающихся и сохранившихся в разной степени завершенности: «готско-гуннский» (связанный с событиями 375 г.), «бургундский» (или, правильнее, «бургундско-готско-гуннский», отразивший гибель бургундского королевства в 435 г., битву на Каталаунских полях 451 г.) и «северный», основанный на событиях, которые условно можно поместить между 450–550 (в некоторых случаях, возможно, даже 650) гг.: гаутско-свейские войны, предания о Вёльсунгах, Скьёльдунгах, Инглингах. Эпическое время, таким образом, обладает важным качеством, отличающим его от мифологического: оно — исторически конкретно, а потому и неповторимо. Если миф регулярно «возвращается», повторяясь в ритуале, асы совершают свои подвиги и судьбы вне связи со временем человеческих поколений, то эпическое время «было», в фиксированном отдаленном прошлом. Это прошлое увязывается, с одной стороны, с настоящим (с действительностью эпохи викингов), а с другой стороны — с мифологическим временем (асами) с помощью генеалогических перечней, куда так или иначе оказываются включенными в норме все эпические герои и где они выступают потомками асов и предками конунгов IX–X вв. Правда, связь эта — сугубо формальна. По существу своему эпическое время — дискретно и неподвижно. Это — некая начальная точка отсчета «векторного» времени, идеальное время предков, совершивших неповторимые подвиги и оставивших потомкам высшие эталоны человеческого поведения. Во всех случаях, когда эпические персонажи действуют (а не являются просто звеном в генеалогической цепи), они воспринимаются как современники друг друга. Эпическое время внутренне едино, за пределами жизни героя сказания последовательность событий не имеет значения: это события не исторические, а эпические. Так же с одной стороны, конкретно, физически (географически) вполне реально, а с другой — условно, сакрально эпическое пространство. Мир северных сказаний простирался от Упсалы на севере до границы Римской империи на юге, от Рейна на западе до Дона па востоке. Он насыщен географическими приметами (названия рек, местностей, областей и стран) [210, с. 682–706]. В эпосе каждый слушатель песен знал, где примерно находится эпическая Земля готов — Рейдготаланд, отделенная пограничным лесом Мюрквид, реками Данном и Даном (Днепром, Доном-Дунаем) с «речными селеньями» Архейм, от Земли гуннов — Хуналанд, а с другой стороны примыкающая к знакомым островам и фьордам Балтики и Северного моря. «Скандинавский элемент», составляющий периферию хорогра-фии эпоса, связан с важнейшими культовыми местами, центральными святилищами, такими, как Упсала, Лейре, Еллинг (Ялангрсхейд). Фраккланд, Валланд и другие земли могли быть окрестностью действия: Лежат по всем странам([Речи Регина, 14]) Оксиологически выделенные рубежи — «поля Гнитахейд», «лес Мюрквид», «горы Ессур» — локализуются в Средней, и прежде всего в Восточной Европе. Северное Причерноморье, где германцы соприкоснулись с греко-римским миром, дотянулись до источников «вальского золота» и получили представление о великолепии и мощи восточноримского императора (Кьяра, кесаря), освоили письменность (магический дар Одина!), познакомились с основами христианства и, наконец, пережили страшный, сокрушительный разгром, неотразимый удар с Востока, инерция которого вытолкнула готов далеко на Запад, за Пиренеи и Альпы [220, с. 227–262], — восточноевропейское пространство обрело в германском эпическом сознании заповедный, сакральный характер. Фольклорное освоение этого эпического пространства началось, видимо, еще во времена Черняховской культуры, которую отождествляют с Готской державой в Причерноморье, сложившейся между 170–270 гг. и разгромленной гуннами в 375 г. н. э. [103, с. 63, 76; 222, с. 18–22]. Готские сказания и песни легли в основу сочинения вестготского историка Аблавия (около 475 г.), фрагменты которого вошли в состав «Гетики» Иордана [320, с. 35–109]. В частности, к Аблавию, по-видимому, восходит описание похода Германариха, когда он «domuerat Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Ataul, Navego, Biibegenas, Coldas» [lord., 116–117]. Приведенное стандартное чтение этого одного из наиболее «темных мест» Иордана — не единственно возможное [200, с. 265, прим. 367]. Если принять давно предлагавшиеся конъектуры, прежде всего образовании на In-, в которых можно видеть не этно-, а топо— или гидронимы: in Aunxis — «на Свири, в Посвирье» (финск. Aunxmaa), in Abroncas (неясный восточноевропейский гидроним?), — и если допустить в протографе замену «m» на «n», in Miscaris — «в Мещере», то вместе с определимыми этнонимами текст этот превращается в латинский перевод ритмично организованной готской висы, повествующей о походах эпического конунга Ермунрекка, который 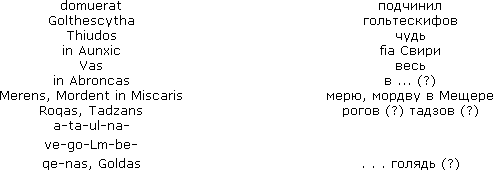 Если реконструируемая виса — фрагмент «готского эпоса», то в числе первых его героев — племена Восточной Европы (отмеченные на тех же местах вдоль Волжского пути, где 500 лет спустя их застала «Повесть временных лет»). Поэтому не случайно одна из древнейших героических песен «Эдды» — «Речи Хамдира» — посвящена событиям, происходившим в Восточной Европе в 375 г., войне Германариха с вождями росомонов Аммиусом н Сарусом (в «Эдде» — Хамдир и Серли), мстившими за смерть своей сестры Сунильды (Сванхильд). Предание о братьях-вождях и их сестре (svan — «лебедь») перекликается со славянской легендой о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбедь (в «Эдде» есть и третий брат — Эрп [186, с. 86]). Это — едва ли не древнейший, но не единственный случай контаминации готского, скандинавского и восточнославянского эпоса. Межплеменной конфликт, однако, в «готских песнях», сохранившихся в «Эдде», заслонен иным, для развития эпоса более актуальным — внутриродовым. Здесь впервые обозначена центральная, движущая стержневая тема эпоса — роковое братоубийство, предопределяющее трагические судьбы всех последующих поколений (подобно тому, как это произойдет потом в роду Инглингов, после сожжения Висбура, или на Руси, после убийства Бориса и Глеба) [50, с. 77–78; 123, с. 64–65]. Брат будет биться([Прорицание вёльвы, 45]) Хамдир и Сёрли убивают Эрпа и потому гибнут сами. Еще больший эпический масштаб тема братоубийственной распри обретает в «Песне о Хлёде», одной из древнейших в «Эдде». Не вошедшая в основной корпус, она, однако, имеет надежную историческую подоснову, и близкие параллели в памятниках, синхронных эпохе викингов: англосаксонской поэме X в. «Видсид», и у Саксона Грамматика [210, с. 705]. Хлёд (Лотерус, Лотар) — полугот, полугунн, вступает в борьбу за готское наследие с конунгом готов Ангантюром (англ. Онгентеов). Судьба наследия решается в страшном сражении (его сопоставляют с битвой на Каталаунских полях): "…гунны обратились в бегство, а готы убивали их… Ангантюр пошел тогда на поле бою посмотреть на убитых и нашел своего брата Хлёда. Тогда он сказал: Сокровищ тебе([Песнь о Хлёде, 30, 31]) Братоубийство в борьбе за власть — предельное выражение распада родовых отношений. Совершившись впервые в готском «эпическом пространстве», оно повторится затем в сакральной округе языческой Упсалы и, наконец, в усобицах родичей-христиан во вполне реальном, государственно-организованном пространстве Скандинавии «королевских саг». Эпос дает модель этих ситуаций и нравственного отношения к ним, пронизанного глубокими и мощными противоречиями. Центральный, «бургундский цикл», подчинивший себе все другие, могучий ствол общегерманского эпоса о Нибелунгах, представляет собою повествование о жизни и смерти идеального героя, Сигурда. Но при всей идеальности, едва ли не космической значимости подвигов (включающих змееборчество, доступное разве что Тору), Сигурд в конечном счете оказывается в глубоком конфликте с традиционной системой ценностей. Коварно убитый родичами, владелец клада Нифлунгов погиб не в бою, — следовательно, ему недоступен нормативный удел героев, пребывающих среди павших в битвах воинов-эйнхериев, в Вальхалле Одина [168, с. 163]. Отдано золото([Речи Регина, 6, 8]) Роковая предопределенность индивидуальных судеб, мотивированная разрушением традиционных родовых устоев — лейтмотив эпоса. В «распрямляющемся времени», выплескивающемся «веком мечей и секир» человеческая ценность определяется способностью мужественно идти навстречу грядущей судьбе, смерти — высшему испытанию героя. Так, преступившие нормы родового права убийцы Сигурда, зная неизбежность расплаты и мрачную направленность собственной судьбы (такой же, в общем-то, какова и судьба асов, и всего мира в этот «век волков»), отправляются на верную смерть к гуннскому конунгу Атли: Пусть волки наследье([Гренландская песнь об Атли, 11, 12]) Умереть с честью — заслужить or?romr — высшая человеческая участь Мы стойко бились([Речи Хамдира, 30]) Героизм мужчины — идеального воина, трактуемого как предельно индивидуализированная (хотя и схематизированная) личность, уравновешивается и дополняется героизмом эпической женщины, совершающей высшие подвиги в защиту старого, родового права, осуществляющей месть либо побуждающей к ней следующие поколения [208, с. 78–81]. «Бургундский цикл» (предания о Сигурде, Брюнхильд, Гудрун, Гуннаре, Хёгни и Атли) диктовал идеальные образцы человеческого поведения в мире распадающихся родовых устоев и высвобождения индивидуальных сил, тем не менее подчиненных некоей неумолимой логике «гибели мира», перестройки мироздания. Третий, «северный цикл» эпических преданий представляет собою словно бы равнодействующую между эпически осмысленной исторической реальностью эпохи Великого переселения народов («готский цикл») и нормативной идеализацией этой реальности («бургундский цикл»), между реальным общественным конфликтом (родовые и внеродовые ценности) и идеальным способом его разрешения (героическое следование неумолимой судьбе). Это соотношение близко социальной действительности эпохи викингов: между родом и эпически идеализированной личностью появляется новая социальная сила, внеродовой коллектив, дружина. В песнях «скандинавского цикла» отчетливее всего запечатлелись походы, отношения, ценностные ориентации викингов. Дружина судила([Первая песнь о Хельги, убийце Хундинга, 7, 9]) Опираясь на эту новую силу, эпический герой смело вмешивается в родовые конфликты: Не дал конунг([Первая песнь о Хельги, убийце Хундинга, 12]) Личная судьба героя — вождя дружины — драматизирована не менее, нежели судьбы героев «цикла Сигурда»: по существу, ему тоже нет места в Вальхалле, и вновь и вновь повторяются судьбы эпических мужей и жен, Хельги и Сигрун: Чудится мне
Возрождение совершается прежде всего в потомках героев. В «скандинавском цикле» эпических преданий получили оформление королевские генеалогии Инглингов, Ильвингов, Вёльсунгов, Скьёльдунгов, Скильвингов, Аудлингов. «Песнь о Хюндле», одна из наиболее поздних в «Эдде», — образец такой родословной, уравнивающей hol?borit с hersborit— «рожденного от хольдов» и «рожденного от херсиров» — как o?lingar — «благородного», восходящего к древним героям [52, с. 55–73]. Связывая эпическое время с реальным, эти родословные стали одной из начальных форм новой сферы духовной культуры — скальдической поэзии. Стихотворство скальдов (skaldskapr — «скальдство», «скальдика»), вне всякого сомнения, наиболее характерное и значимое явление духовной жизни Скандинавии эпохи викингов. Показателем места, значения, масштаба его может быть прежде всего тот объем наших знаний о скальдике, который существует, несмотря на дистанцию в тысячу лет. Готландских стел сохранилось 300, но и скальдов поименно известно свыше 300 [212, с. 40]. Только в «Хеймскрингле» содержится свыше 600 вис, из них две трети относится к XI в. (до 1066 г., времени гибели Харальда Сурового, одного из последних скальдов [50, с. 130–131]. Общий объем поэтической продукции скальдов, несомненно, исчислялся многими тысячами вис. Скальдическая поэзия строго локализована во времени: неизвестны скальды, творившие до эпохи викингов. Браги Боддасон, первый скальд, названный по имени, был современником свейского конунга Бьёрна (который в 830 г. принимал Ансгара в Бирке). По преданию, Браги была создана первая скальдическая drapa — «хвалебная песнь», которая спасла ему жизнь, умилостивив разгневанного конунга («выкуп головы»). Браги в качестве «первоскальда» был обожествлен и включен в число асов [214, с. 131–132]. Эти предания фиксируют скальдику как сложившееся явление не ранее рубежа VIII–IX вв. Хвалебные песни III–VIII вв., если и слагались, то и по форме, и по способу исполнения, видимо, отличались от скальдических. После 1066 г. скальдическое искусство сохранялось только в Исландии. Таким образом, его формирование и расцвет ограничены началом IX — серединой XI в., т. е. строго рамками эпохи викингов [208, с. 92]. Видимо, начальные формы скальдики служили своего рода «мостиком» между эпосом и современностью, способом актуализации эпических идеалов. Они возникли в виде мифо-эпических родословных (та же форма, что и позднейшие «перечни предков», langfe?gatal, в «сагах о древних временах», а затем в исландских «родовых сагах»). Наиболее известная и наиболее ранняя такая родословная — Ynglingatal — «Перечень Инглингов» скальда Тьодольва из Хвини, жившего в середине IX в.; этот жанр культивировался и позднее (Haleygjatal Эйвинда Губителя Скальдов, ок. 975 г.). Уже в этой форме обозначилось качественное различие скальдики и предшествующих жанров: мифо-эпические образы здесь служат лишь критерием or dromr, способом увековечить Славу объекта восхваления, а следовательно, закрепить в сознании современников и потомков благостный, позитивный характер его Судьбы (точно так же, как раздача материальных благ — золота, оружия, дорогих одежд, обмен престижными дарами, были способом реализации этой Судьбы [49, с. 195–216]). Цель скальдической генеалогии — восхваление перед окружающей аудиторией ее современника, который и был главным действующим лицом в конкретной, актуальной ситуации. Для Тьодольва это был конунг Рёгнвальд Достославный, деливший с Хальвданом Черным власть над Вестфольдом. Отрывок «Перечня Инглингов», посвященный непосредственно Рёгнвальду, не сохранился, но скорее всего, именно потому, что отделившись рт генеалогии, он стал жить самостоятельной жизнью в качестве хвалебной песни. Следующий по времени возникновения скальдический жанр стал выражением синкретической связи между социумом, его материальной средой и духовным миром. Генеалогии были, по существу, лишь систематизированным (хотя и актуализированным в конечном звене) пересказом эпоса, уже существовавшего и известного слушателям (для которых, видимо, эстетическое значение имело лишь искусство скальда соединить в целое и «замкнуть» на личность прославляемого — тут же присутствующего и влияющего на дальнейшую судьбу скальда — известные эпические сюжеты). Новой ступенью искусства скальдики стала форма, представлявшая собою творческий акт, производный от обмена дарами, непосредственного перехода из рук в руки материальных ценностей, воплощающих личную судьбу дарителя и требующих взаимности от одариваемого. Это — так называемая «щитовая драпа», хвалебная песнь, посвященная не непосредственно объекту восхваления, а его атрибуту, подарку: дареный щит, богатое престижное оружие (ср. вендельские щиты с орнаментальными золочеными накладками в зверином стиле), требовал реакции в виде стихотворного восхваления — описания дара. — Ничтожнейший из людей! Он думает, что я просижу над щитом всю ночь и буду сочинять в честь него песнь! Дайте мне коня! Я догоню и убью его!.. …Тогда Эгиль сложил все же хвалебную песнь, и она начинается так Восхвалить хочу я([Сага об Эгиле, 78]) «Щитовая драпа» — прежде всего изложение мифа (изображенного на щите): Ведьмин враг десницей([Браги Старый, Драпа о Рагнаре, 1–2]) В иносказательной, но совершенно прозрачной для восприятия, воспитанного на скандинавской мифологии, манере скальд описывает изображение «рыбной ловли Тора», поймавшего на крючок Мирового Змея Ермундганда: тот заглядывает в лодку, одолженную Тору великаном Хюмиром; скоро йотун и ас поссорятся, и Хюмир получит от Тора страшенный удар кулачищем по голове [Младшая Эдда. Видение Гюльви]. Смысл драпы заключается не в пересказе всем известного предания, а в ритуальном по сути акте мифологизации, который позволяет в чем-то уравнять дарителя (которому посвящена песнь) с персонажем, изобразительно-материально воплощенным в его подарке, Рагнара (полагают, что это легендарный вождь викингов Рагнар Кожаные Штаны) — с Тором, исконным воителем. Скальд искусным «плетением словес» вводил своего героя в строй мифических образов, подтверждая и закрепляя провиденциальную значимость принадлежащих герою, воплощающих его судьбу материально-эстетических ценностей. Развивая и мифологическое, и эпическое начала в направлении, все более индивидуализированном, замкнутом непосредственно на воспринимающего словесный текст заказчика в окружении его дружины, скальдика создала оригинальный, новый ведущий жанр. Основная продукция скальдов — хвалебная песнь, «драпа». Адресованная вождю и его дружине, она приняла особую ритмическую форму, скальдический размер drottkvaett (от drott в значении «народ, дружина, хор» и kvaett — «исполняемый») [212, с. 65–70]. Ритмика дротткветта, его синтаксические и стилистические особенности (в частности, неизвестный эддической поэзии тмесис — переплетение фраз, как переплетение орнамента в «зверином стиле» IX–X вв.) могут быть объяснены только особенностями исполнения этих песен, предназначенных для коллективного хорового воспроизведения: дружина, вместе со скальдом, поет хвалу вождю, и при этом выделяя творческую инициативу скальда, певца, песнь исполняется па два голоса (поэтому число скальдов, зафиксированное сагами у норвежских конунгов всегда кратно двум). Двуголосое хоровое пение на пиру после победоносного сражения, сопряженное с восхвалением богов, раздачей добычи и наград, обильными возлияниями, щедрой едой (напоминающей о неиссякаемом источнике пищи — вепре Сэмхриснире, в Вальхалле), эмоционально и оксиологически закрепляло достигнутое в борьбе с другими дружинами, другими конунгами повышение личного социального статуса вождя и его людей. Эта дружинная культурная традиция не чужда была и военно-феодальной среде Киевской Руси, времен песнетворца Бояна [232, с. 195–200]. Коллективное исполнение, равно как и коллективный, по существу, адрес драпы (дружина отождествляется с вождем, судьба вождя — ее судьба, его слава — ее слава, равно как и воинские деяния), предопределяли содержание хвалебных песен. Они должны были соответствовать не только известному, закрепленному эпической традицией стереотипу: фактическая основа, служившая реализацией этого стереотипа, должна была быть общеизвестной и соответствовать реальным деяниям вождя и его дружины. Скальд не имел права на художественный вымысел — приписать кому-нибудь подвиги, которых он не совершал, победы, которых не одерживал, было в глазах окружающих не восхвалением, а нестерпимой насмешкой [208, с. 102]. Поэтому содержание скальдических песен, подчиненных суровым требованиям своего рода «милитаристского реализма», в общем, однообразно: оно сводится к стереотипным описаниям битв и побед. Эта жесткая норма, однако, обеспечивала и даже делала необходимым совершенствование индивидуального поэтического мастерства. Скальд, мифологизирующий данное конкретное деяние (такое же, в принципе, как множество других подобных воинских деяний) мог считаться мастером, искусно воплотившим «славу» своего заказчика только в том случае, если придал стандартному содержанию неповторимую (и в то же время понятную слушателям, вызывающую стойкий и определенный круг ассоциаций) форму. Соотношение ее с содержанием было примерно таким же свободным (в плане выбора декоративных, формальных средств), как в прикладном искусстве: «Мастера, изготавливавшие усебергскую утварь… не могли проявить себя в выборе темы, в выборе той практической цели, которой их произведение должно было служить. Их изобретательность проявлялась в пышном и замысловатом орнаменте, которым эта утварь покрыта и который не зависит от назначения вещи. Так и скальд был связан определенным содержанием, стереотипными образами, в выборе которых он не мог проявить творческой самостоятельности. Но он мог проявить изобретательность в пышном узоре кеннингов, в замысловатой словесной ткани, хотя и трафаретной по своей внутренней схеме, но допускающей бесчисленные вариации своих элементов» [212, с. 57–58]. Отсюда — изощренная сложность формальных средств: иносказаний (кеннингов, хейти), фразеологии, синтаксиса скальдики [213, с. 77–130]. Правильность, и при этом сложность, вычурность формы, опирающейся па безупречное владение языковым материалом, были в ряду сакральных, магических характеристик скальдической поэзии, обеспечивавших, в глазах окружающих, ее чудодейственную силу, действенность и непреложность romr — «хвалы»; в дальнейшем эта же сложность и законченность формы обусловила точность передачи скальдического наследия в исландской устной и письменной традиции [202, с. 601]. Скальдическая поэзия, уже безусловно индивидуально-авторская в отношении формы (что не распространяется, по крайней мере в наиболее социально значимых жанрах, на содержание), представляла собой особый тип авторства, переходный от неосознанного (мифо-эпического) к осознанному (поэтическому, литературному) творчеству [213, с. 77–84; 212, с. 90–102]. Таким образом, она зафиксировала, прежде всего своей формальной стороной, еще один аспект единого процесса нарастающей индивидуализации общественной деятельности, по существу, — распада изначальных, коллективно-родовых форм и перехода к новым, основанным на иной системе общественных связей; процесса, пронизывающего буквально все стороны жизни Скандинавии эпохи викингов. Этот переход осуществлялся в тесной связи с фондом ценностей, созданных предшествующими этапами общественного развития. Основной элемент формотворчества скальдов, кеннинг, в содержательном отношении — отсылка к сложившейся, доступной восприятию мифо-эпической системе. Называя своего героя: sverd-Freyr «меча-Фрейр» skjaldar-Baldr «щита-Бальдр» hjalm-Tyr «шлема-Тюр» и другими подобными «приметами», передающими образ мужчины-воина [212, с. 43–44, 59], скальд отсылал слушателей к широкоизвестному кругу мифологических образов. Многоступенчатость кеннингов типа: Heita dyrbliks — блеска-зверя-Хейтова dynsae?inga — звона-чаек hungrdeyfir — голода-притупитель, где Хейти — эпический «морской конунг» зверь Хейти = корабль блеск (зверя Хейти) корабля = щит звон ((блеска (зверя Хейти) корабля)) щита = битва чайка (((звона ((блеска (зверя Хейти) корабля)) щита))) битвы = ворон Притупитель голода воронов = чаек/битвы звона/щитов блеска/корабля зверя Хейти и центральный герой — воин, утоливший голод воронов трупами убитых им врагов, уравновешен с эпическим конунгом Хейти через сложную цепь промежуточных образов, — эта многоступенчатость подразумевала существование единого мифо-эпического фонда образов, общего для скальда и его аудитории. Судя по обилию иносказаний, включающих мифологические имена, понятия, образы (иной раз известные только из кеннингов или из комментариев к ним Снорри), эта система была значительно шире зафиксированной «Эддой» в XII–XIII вв. В таком случае «Эдда» образует лишь нижний порог наших представлений о подлинном объеме мифо-эпического фонда, сложившегося к началу развития скальдической поэзии, а кеннинги являются своего рода датирующим признаком, позволяющим определить относительную хронологию скальдики и предшествующего ей пласта эддических мифов и преданий (учитывая исчезнувшую часть этого фонда), того, что служило «строительным материалом» для творчества скальдов, было готовым арсеналом образов, имен, отношений. Семантическое богатство формальных средств скальдической поэзии включало данное (актуальное) событие и участвовавших в нем людей, которым был посвящен стихотворный текст («связная речь», bundi?mal) в общекультурный, оксиологически насыщенный контекст. Герои драпы сопрягались с персонажами мифа и эпоса, но при этом сохраняли свою индивидуальность, проявлявшуюся в достоверном и точном описании их деяний. Несомненно, аудитория была предельно внимательна к этой, фактической, стороне хвалебной песни, оценивая ее едва ли ни в первую очередь: Соколу сеч([Эгиль Скаллагримссон, Выкуп головы, 20]) Именно так Эгиль, оказавшийся в Англии в распоряжении своего лютого врага конунга Эйрика (изгнанного из Норвегии: заклятие подействовало!) и вынужденный ради спасения жизни сложить драпу в честь конунга, должен был учитывать, что в памяти дружинников Эйрика свежи все перипетии недавней битвы со скоттами, описание которой кажется нам стереотипной. Между тем панораму сражения можно было открыть яростным натиском воинов во главе с конунгом только в том случае, если так оно было в действительности: Воины станом([Выкуп головы, 5, 4]) И завершить сцены битвы описанием перестрелки из луков можно было лишь, если воспеваемое сражение Эйрика в самом деле завершалось таким стрелковым противоборством: Буй-дева снова([Выкуп головы, 13–15]) Лишь выполнив эти требования, выразив конкретику битвы, скальд мог позволить себе переход к эпически-общим местам, с использованием общедоступных мифологических образов. И ворон в очи([Выкуп головы, 10–12]) Дружинно-княжеская среда была наиболее авторитетным, но не единственным заказчиком, определявшим ход развития скальдической поэзии. Социальный адрес скальдики не исчерпывался королевской усадьбой и ее пиршественным залом. Обращает на себя внимание обилие и детальность кеннингов, связанных с образом корабля, для которых «скальды применяли подчас такую детализированную техническую терминологию, что разобраться в ней было бы невозможно без специального исследования древнеисландских морских терминов» [212, с. 44]. Корабль наряду с образом героизированного мужчины (и женщины) — один из центральных элементов скальдического мира. Эта роль его позволяет связать изобразительный язык скальдики с образным строем готландских стел, где корабль становится центром композиций в VIII в. В эпоху викингов корабль — место организации особого, качественно нового уровня социальных связей, нетождественных ни старым, родовым ячейкам, ни формирующейся военно-феодальной иерархии, но полностью равноценных дружине викингов. Судя по сохранившимся в сагах биографиям скальдов, создатели дружинной поэзии теснее всего были связаны именно с викингами как особой общественной средой. Поэтому в скальдике актуализируются не только деяния конунгов и их дружин: актуализируется, переводится из сферы мифо-поэтических пространственно-временных отношений в сферу современной реальности, и обретает вполне самостоятельную поэтическую ценность вся окружающая действительность, включая живых людей, и прежде всего — самого скальда. Мифо-эпические нормы непосредственно проецируются в мир человеческой личности. Происходит не только актуализация, но и, так сказать, персонификация идеальных норм. Они становятся критерием оценки не только аса, эпического героя, конунга, но и любого включенного в эту систему ценностей человека. Отсюда, в частности, те содержательные противоречия, которые заключаются в кеннингах типа: bryniu mei?r blau?r — «брани-древо трусливое» (в см. «трусливый человек») au?runnr aumr — «богатства-куст бедный» («бедный человек») hodda beidir applaus — «сокровищ-собиратель несчастливый» («несчастливый человек») Индивидуализация кеннинга расходится с реальными обстоятельствами и характеристиками персонажа. Это, однако, не смущает ни автора, ни адресата-заказчика, так как достигается главная цель: включение индивидуальной характеристики в общепоэтическую систему, а главным в этой системе, ее собственно содержанием (не в плане информативной нагрузки, а как способ включения данного явления в структуру духовных ценностей), была сама скальдическая форма [207; с. 188]. Именно универсальность скальдики как способа приобщения широкого круга людей и явлений к миру высших духовных ценностей обусловила подлинную народность скальдического искусства (при всей его формальной изощренности). Ценность и значимость сложной поэтической формы, как показал один из лучших переводчиков поэзии скальдов на русский язык С.В.Петров, вовсе не чужда фольклору других народов. Этот вывод подтверждается тем обстоятельством, что одическая поэзия, хвалебные песни не были жанром, господствующим у скальдов: "Имеется гораздо больше вис, сложенных совсем по иным поводам — боевая схватка скальда с врагами, поединок скальда (маленькие оды самому себе, своей доблести и ратному уменью), встреча с другом, с женщиной, благодарность за угощение, за приют, хула на противника (перечень ситуаций, очень близкий «Речам Высокого» — Г.Л.)… Именно тематическая конкретность, фактографичность таких вис и делала их народными…, речь шла о подлинных людях… о подлинных событиях в точных координатах времени и места [167, с. 180]. Скальдика — качественная ступень в движении сознания от мифического времени-пространства, через эпическое — к реальному, от аса, через героя — к живой человеческой личности. Это движение, видимо, было возможно только в условиях распада одних общественных структур и формирования новых. Длительность и насыщенность этого перехода в Скандинавии обусловлены резким расширением внешних контактов, изобилием новых ресурсов и стимулов извне. Они аккумулировались прежде всего в специфической, конституировавшей себя как особый социум, дружинно-викингской среде. При ее переходном, промежуточном социальном характере, в жизни конкретного человека (скажем, того же скальда, проводившего в викинге долгие годы, а нередко и заканчивавшего там свой жизненный путь), она существовала как устойчивая общность, со своими ценностными нормами и формами культуры. Длительность всех этих переходных процессов сама по себе была условием, сделавшим возможной кристаллизацию новых духовных ценностей в устойчивых, а в силу этой устойчивости кажущихся уникальными, формах. Немаловажное значение для их дальнейшего сохранения имела, конечно, и социальная специфика Исландии. Другие общества, где подобный переход проходил более динамично, не сохранили аналогичных культурных явлений. Личность, вышедшая из сети родоплеменных отношений, сравнительно быстро включалась в иные виды жестких социальных связей — сословных, корпоративных, религиозных, подчинявших ее групповым морально-политическим и социально-психологическим стереотипам [49, с. 271]. Эпоха викингов создала особые формы социальных связей; незавершенность делала их более гибкими, но в силу общественного значения движения викингов, на определенном этапе развития созданные им культурные нормы стали духовной доминантой своего времени, а в определенной мере и важным рубежом в общечеловеческом культурно-историческом процессе. Уравнивая актуальные человеческие ценности с мифо-эпическими, скальдика сделала возможным постепенное смещение оксиологического акцента в сторону реальной человеческой личности. От фиксации авторства скальда, как посредника между реальной жизнью и реальностью мифа и эпоса — к фиксации жизненных обстоятельств этого скальда и, наконец, — к фиксации его внутреннего мира. Проблески интереса к интимным человеческим переживаниям заметны уже в эддическом эпосе, даже в синхронных формах этого эпоса редакциях эддического мифа: — что сыну Один([Речи Вафтруднира, 54]) Ночь длинна([Поездка Скирнира, 42]) В скальдике субъективный элемент становится основой самостоятельного жанра, который называют lausar visur — «отдельные висы», «стихи к случаю»; таково подавляющее большинство дошедших до нас скальдических вис [213, с. 119–123]. То, что называют иногда «лирикой скальдов», безусловно, стадиально отлично от позднейшей лирической поэзии, даже таких ранних ее форм, как миннезанг [212, с. 70–89]. Тем не менее скальдика запечатлела широкий спектр интимных человеческих переживаний, вплоть до неразделенной любви, воспетой в «Висах радости» Харальда Сурового. Посвященная Елизавете Ярославне песнь (неоднократно переводившаяся в XVIII–XX вв. на русский язык), возможно, отразилась и в древнерусском фольклоре: былину о Соловье Будимировиче, заморском королевиче-песеннике, и его сватовстве к киевской княжне [183, с. 262] давно сопоставляют с висами конунга-викинга, воспевающими «Деву из Руси», «Герду в Гардах» (Ger?r i Gor?um). Внимание, а следовательно, общественная эстетическая ценность поэтической рефлексии на обстоятельства жизни и субъективные переживания скальда, проявились в тщательном сохранении множества «отдельных вис». На их основе во многом строится сюжетная канва родовых саг, героями которых нередко выступают выдающиеся скальды (Эгиль, Гуннлауг Змеиный Язык, Бьёрн Арнгейрссон, Халльфред Трудный Скальд, Кормак Эгмуидарсон и др.). Так же, как героические песни и драпы стали источниками «королевских саг», так и на «отдельных висах» основаны связные повествования, сопрягающие судьбу героя-скальда с судьбами родовых коллективов, королевских династий, стран. «Сага об Эгиле», посвященная самому талантливому скальду эпохи викингов, строится как биография знатного исландца, предка Снорри Стурлусона, и одновременно — история вражды рода Эгиля с норвежскими конунгами (восходящей ко временам «отнятия одаля» Харальдом Прекрасноволосым), драматически воздействовавшей на судьбу самого скальда. При этом все «поворотные моменты» сюжета закреплены висами, не только передающими суть событий, но иной раз, казалось бы, внешне с ними никак не связанными. Это — подлинно «лирические реплики», запечатлевшие переживания скальда. Так, вырезав свое стихотворное проклятие норвежским конунгам и покидая страну, Эгиль произносит, глядя на бушующее море: Ветер хранящий рубит([Сага об Эгиле, 57]) В конце жизни одряхлевший, слепой скальд жалуется: У огня, ослепший([Сага об Эгиле, 85]) Наконец, предельное выражение внутреннего переживания, восприятия медленно останавливающейся жизни, знаменитое langt tykki mer (букв. — «длинно кажется мне», ср. перевод А.И.Корсуна): Еле ползёт время.([Сага об Эгиле, 85]) Едва ли можно назвать другого человека в Европе середины X столетия, чье душевное состояние мы могли бы воспринять с такой же полнотой, как эту предсмертную жалобу [167, с. 182]. Вершина скальдической поэзии — «Утрата сыновей» — Sonatorrek Эгиля [212, с. 89]. Он сложил ее, потеряв сыновей — Бадвара (утонувшего в море) и Гуннара [Сага об Эгиле, 78]. 25 строф этой песни переполняет подлинное и глубокое человеческое горе. Весь мой корень В отчаянье старец бросает вызов морю, обездолившему его: Ран меня Он воспевает добродетели погибших сыновей, и нормы родовой морали удивительным образом перекликаются здесь, с казалось бы, много более поздними идеалами «Домостроя» и словно бы вне времени простирающимся родительским чувством: Слушался он Горестное старческое одиночество предсмертных вис предугадывается в мрачном отчуждении от окружающего мира: Кой муж был бы Он восстаёт в своем одиночестве против мира и против бога — Одина; и горделиво с ним примиряется, ведь цена мира — поэтический дар: Жил я в ладах Гнев и горе отца и глубокое удовлетворение мастера сливаются в стоическом ожидании собственной близкой кончины: Тошно стало! Современный читатель, исследователь и переводчик не может не отдать должного лирической исповеди скальда: «Это ли сухая поэзия и тематическая скудность? Да много ли в старинной поэзии найдется плачей, которые были бы экспрессивнее и глубже, нежели плач старика Эгиля?» [167, с. 182]. И при этом, заметим, он создан по строжайшим нормам скальдической поэзии, пронизан ее образами, выдержан в одном из труднейших скальдических размеров — квидухатт. Средства поэзии викингов оказались достаточно ёмкими для передачи глубочайших человеческих переживаний. Поэзия викингов подошла вплотную к задаче художественного воплощения человеческой личности и в лучших своих образцах блестяще эту задачу решила. В конечном счете именно это определяет главный вклад эпохи викингов в фонд общечеловеческих ценностей. Ранние формы устного прозаического творчества, «саги о древних временах», такие, как «Сага о Вёлсунгах», «Сага об Инглингах», «Сага о Скьёльдунгах», в Исландии были записаны (и при этом не все) как раз позднее других, родовых и королевских; однако они засвидетельствованы письменными источниками, близкими эпохе викингов, и возникли, несомненно, за пределами Исландии — в Швеции, Дании, Норвегии; они непосредственно связаны с северным эпосом [209, с. 31–33; 54, с. 91–100]. Функция саги — несколько иная, чем поэзии скальдов. Если скальдика держит в центре внимания личность и окружающий ее мир в данный, актуальный момент времени (лишь формально включая их в мифо-эпическую систему, а по существу она — статична), то сага служит прежде всего способом ориентации современников — в цепи поколений, во времени, все более обретающем линейный характер [209, с. 101–106]. В центре саги — судьба личности; как и в эпосе, она оценивается с позиций строгого следования тем же этическим нормам, на которых основана вся система ценностей культуры эпохи викингов. Но при этом соблюдение норм выступает как гарантия жизни родового коллектива. Высший родовой долг — долг мести; «родовые саги» — это история кровной вражды, где судьба личности сопряжена с судьбой рода, составляет ее часть в чередовании поколений. Прозаический жанр устного народного творчества, сложившийся и развивавшийся в основном уже после эпохи викингов, базировался на ее фундаментальных культурных достижениях, и развивал тенденции, зародившиеся в недрах этой культуры. Именно в рамках этого жанра совершается постепенный переход к новой системе ценностей, отражающей сложение классовой, государственной социальной структуры и постепенное внедрение новой, средневековой феодально-христианской идеологии. Нормы «родовых саг» генерализируются в цикле саг королевских, составивших в конечном счете грандиозное историко-эпическое полотно «Хеймскринглы». Судьба королевского рода Инглингов становится судьбой страны, Норвегии (совершенное в эпические времена отцеубийство предвещает повторяющуюся из поколения в поколение вражду родичей; в этой борьбе поднимется и обретет мученическую кончину сакральный патрон Норвегии, Олав Святой; языческая королевская Слава как воплощение его предопределенной родовыми нормами судьбы осмысливается как небесное Спасение, воплощение предопределяющей божественной воли) [50, с. 60–82]. Христианские ценности в древнесеверной литературе, однако, как и в древнерусской [123, с. 51–52], проецировались непосредственно на местную, языческую по происхождению и характеру культурную основу. Нивелирующего воздействия латино-язычной церковной традиции скандинавская культура раннего средневековья (до XIII в.) избежала. И дело здесь, видимо, не в недостаточной активности западных миссионеров, и даже не только в стойкости культурного фонда, созданного в течение эпохи викингов. На протяжении примерно тысячелетия, с рубежа нашей эры до XI в., Север, как и Восточная, и значительная часть Средней Европы, входил в состав — во многом единого, внутренне сравнительно однородного — мира, противостоявшего римско-греческому и соприкасавшегося с ним вдоль протяженной границы от устья Рейна до устья Дуная и Дона. Процессы, развернувшиеся в этом мире, особенно в конце тысячелетия, в IX–XI вв., нельзя оценить, если не исследовать всей совокупности надрегиональных культурных связей, если не принимать во внимание синхронности, синфазности, взаимной обусловленности экономического, социального, культурного развития всех населявших это обширное пространство народов. Несомненно, не только материальные ценности, но и определенную часть культурного фонда общество викингов получило с Востока, с территорий Древней Руси, при посредстве которой Север связывался с Византией, мир языческого варварства — с миром христианско-феодальных ценностей, опиравшихся на древнюю античную основу. Путь из варяг в греки в известном смысле правильнее рассматривать как «Путь из Грек в Варяги» [186, с. 294]: по крайней мере с III–IV вв., а особенно интенсивно — в IX–XI вв., определенные культурные импульсы распространялись именно в этом направлении — из «Кьярова дома», «Миклагарда» (Великого Города, Константинополя) — через Русь-Гардарики — в столицы северных конунгов. Древняя Русь была не просто зоной посредничества: именно здесь откристаллизовывались, принимали стадиально близкую форму, воспринять которую северное общество было способно, нормы и ценности новой социально-экономической формации. Фонд восточноевропейских образов, сюжетов, мотивов, прослеживающихся уже в самых ранних преданиях скандинавского эпоса, еще более отчетливо выступает в материале саг. Замечательная исследовательница северной «Россики» Е.А.Рыдзевская еще в 1940-х годах выявила следы обширного пласта легенд, сложившихся на Руси, распространенных здесь в варяжской среде, и усвоенных при посредничестве этой среды древнесеверной литературной традицией [189, с. 159–238]. «Гарды» в композиционной структуре «королевских саг» занимают определенное, и достаточно важное, место. Мотивированная конкретными жизненными обстоятельствами героев позиция восточноевропейского пространства не лишена оттенка сакральности, словно развивающего оксиологические акценты «готско-гуннского» эпического пласта. Здесь, на Руси, обычно проходит какой-то ранний этап деятельности конунгов-викингов, королей-миссионеров. Здесь обретают они свое духовное призвание; отсюда начинается пронизанное провиденциальным устремлением, мученическое в конечном счете шествие на Север, к утверждению государственного единства наследственной державы, осененного христианской благодатью. Олав Трюггвассон, Олав Святой и закрепляющий их свершения Харальд Суровый проходят как бы посвящение при дворе великого князя киевского и уходят на Север, провожаемые напутствием Ярослава Мудрого — Ярицлейва скандинавских саг. Устойчивое закрепление этого мотива пребывания «на Востоке, в Гардах», воспринимавшихся как путь к христианским святыням вплоть до XIII в., обязательное включение этого «русского элемента» в повествование, подводившее итог социально-политическому и духовному развитию Скандинавии эпохи викингов, заставляет внимательно проанализировать контекст русско-скандинавских отношений в IX–XI вв., без исследования которых не может быть полной характеристика Скандинавии эпохи викингов. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
