|
||||
|
|
Глава 6 Великая Французская революция – и ее последствия Особое место в пантеоне истории занимает Великая Французская революция… Услышав знаменитое «Liberte, egalite, fraternite ou la mort» (франц. «Свобода, равенство, братство или смерть»), мир словно стряхнул с себя оцепенение веков. Народ обрёл невиданные силы. Франция явила миру племя гигантов. В словаре буржуазии тогда только и появилось слово «капиталист». Известное словосочетание «промышленная революция» родилось во Франции под звуки «Марсельезы». Революция была предсказана философом Руссо, писателем Голдсмитом. О ней мечтали многие умы. Французское общество неумолимо шло к Великой революции 1789–1793 гг. Рост нищеты в деревне, разорение крестьян, чудовищные налоги, паразитизм королевского двора, народные восстания в областях, массовый голод подорвали монархическую власть. «Nous dansons sur un volcan» (Мы танцуем на вулкане). Революция во Франции явилась вначале в образе ученых, энциклопедистов, просветителей, бунтарей. Бунтарский дух третьего сословия, нужды науки приблизили ее начало. Эпоха Просвещения открыла дорогу народным колоннам, которые пойдут на штурм Бастилии! Вполне подтвердилась и следующая дерзкая мысль Декарта: «Каждый народ тем более гражданственен и образован, чем лучше в нем философствуют». Политические задачи третьего сословия (буржуа, крестьян, богатых ремесленников) формулирует аббат Сийес, «мыслитель революции»: «Что такое третье сословие? Всё. Чем оно было до сих пор при существующем порядке? Ничем. Что оно требует? Стать чем-нибудь». Происходит то, о чем писал С. Цвейг, оценивая волю к власти третьего сословия: «Третье сословие еще никуда не допускается в плохо управляемом, развращенном королевстве, не удивительно, что четверть века спустя оно станет кулаками добиваться того, в чем слишком долго отказывали его смиренно протянутой руке».[529]  Оноре Мирабо. Гравюра Хонвуда по рисунку Раффе. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва. Во Франции, как и в других странах, движущей силой революции выступили не разбойники, а наиболее грамотные и профессионально подготовленные слои общества! Круг тех, кто реально определял события во Франции 1791 г. «был ограничен людьми просвещенными». Они-то и «контролировали все силы и всю власть в государстве», будучи главной силой в обществе в силу умственных способностей, экономической независимости и образованности (Минье). На первом этапе Французской революции важную роль сыграл граф Оноре Габриель Мирабо (1749–1791), дворянин, перешедший на сторону революции, автор многотомной «Истории прусской монархии под управлением Фридриха Великого», «Опыта о деспотизме», «О государственных тюрьмах». Вначале он приобрел известность в общественных кругах не столько сочинениями, с которыми был знаком узкий круг читателей, а скандалами (он дерзко украл чужую жену) и последующим тюремным заключением. Обыватель туп, он редко читает умные книги, но охотно поглощает скандально-любовное чтиво. Вскоре Мирабо стал одним из лидеров оппозиции… Во Франции к концу XVIII в. сложилось положение, когда верховная власть уже не пользовалась доверием большинства народа. Против короля выступили не только третье сословие, но и парламент, и даже брат короля, Филипп-Эгалите. Старый парламент не склонен был жертвовать во имя народа привилегированным положением. Мирабо во?звал к мобилизации сил народа. Попытки напуганного короля как-то обмануть или умилостивить депутатов оказались тщетны. Стали поговаривать о готовящемся военном перевороте. Режим задумал силой штыков сломить патриотов. Мирабо в гневной речи клеймит иностранных сателлитов, купающихся «в вине и золоте», а также реакцию короля и его окружения, которое спит и видит, как бы половчее разогнать в собрании «левых». Любая революционная эпоха, сопровождающаяся переходом от одной формации к другой, требует от деятелей своего времени самопожертвования, героизма, ума и воли. Эти качества были наглядно продемонстрированы французской буржуазией. Как скажет один из известных героев Великой Французской революции Сен-Жюст: «Le grand secret de la revolution c`est d`aser!» (франц. «Великий секрет революции – это дерзать!»). 4 мая 1789 г. созываются Генеральные штаты. Событие революционное, так как Генеральные штаты не собирались давно. В 1614 г. дворянство Франции презрительно указало депутатам их место (сравнив их со слугами), а через полгода и вовсе распустило штаты, заявив тем, что они «устали» и им надо «отдохнуть». Народ, однако же, ничего не забывает. Полтора века спустя дворянам и королю также предложат «отдохнуть» – иным на гильотине, а затем спустя еще более чем столетие некий матрос в России скажет Учредительному собранию: «Караул устал!» Депутаты представляли 93 процента населения Франции (духовенство, дворянство, буржуа, крестьяне). Они назвали себя Национальным собранием и приступили к радикальным реформам. Необходимо ясно понять, более четко и ясно, что же представляли собой тогдашние Генеральные штаты. Господствующей формой правления времени этого были сословные собрания. Даже такие наиболее передовые в политическом отношении страны как Англия и США считали представительное собрание по французской модели чрезвычайно опасным для сохранения власти привилегированных слоев. Хотя об участии в его работе трудящихся речи не было. Рабочих там отсутствовали вовсе. Во время торжественного шествия для принятия присяги Генеральными штатами заметили только одного крестьянина в национальном костюме. И все же то, как средний класс Франции постарался «слить выборных в одну палату», заслуживает самых высоких похвал. Тем самым законодательная власть создала некую основу общенародного единства. Франция обрела то, чего так не хватает другим странам. Акт этот заложил «краеугольный камень, на котором воздвигнуто здание революции».[530] Свой резон был и в том, что палата представителей среднего класса провозгласила себя Национальным собранием. Народ требовал реальных реформ и компетентного управления страной, а этого можно добиться только при концентрации власти в руках представительного и единого национального собрания! В противном случае сословные палаты (дворянство, духовенство, буржуазия) не позволили бы работать на благо всего народа и государства. Именно поэтому король, высшее дворянство, часть духовенства Франция все время интриговали против Национального собрания, яростно сопротивляясь его созданию. Король настоятельно требовал от депутатов «разделиться и заседать отдельно». Как не вспомнить библейское изречение о государстве, разделившемся в основе своей, которое ждет неминуемая гибель. Мирабо в ответ на приказ короля «Разойтись и заседать отдельно!» скажет, что депутаты собрания выражают волю всего народа. Он дерзко воскликнет: «Находясь здесь по воле народа, мы разойдемся, только уступая силе штыков». Историк А. Манфред пишет: «С этого дня, с этой исторической фразы, на которой почти двести лет воспитывалось поколение французских школьников, Мирабо вошел в мировую историю». Он стал «героем в глазах всего цивилизованного мира» (В. Васильев). В решающий для страны час в том парламенте Франции нашлись мужественные и решительные люди, выступившие против монарха и его злоупотреблений. Даже в России (в книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву») чувствуется «тон Мирабо и других бешеных Франции». Знаменательно и то, что на полях пятой главы черновика «Евгения Онегина» портрет Мирабо рисует А. С. Пушкин.[531] 14 июля 1789 года – дата знаменательная для всего мира… Парижане взяли штурмом Бастилию. Абсолютистская власть пала. В Труа народ казнил мэра, ворвался в ратушу, заставил чиновников продавать продовольствие. Схожие события происходят в Страсбурге, Амьене, Руане, других городах. Аристократов и высоких господ охватил животный страх. Когда-то Мирабо бросил крылатую фразу «Молчание народа – урок королю». И вот народ заговорил… Взята Бастилия – оплот тирании. Народ сразу же после хлеба требовал одного – «Оружия!» Перед властью, дворянами, богачами забрезжила угроза «Варфоломеевской ночи»! Что произошло, если взглянуть на события несколько шире? Идет тотальное вытеснение старой преступной камарильи. Историки назвали те события (июля 1789 г.) «муниципальной революцией»… Мы скажем иначе: «Это – восстание Народа!» Фактически вооруженные отряды патриотов выгнали администрацию короля! Режим всем настолько опостылил, что роялистские силы и внутренние войска ничего уже не могли поделать. В этом главный урок восстания, принявшего общенародный характер. У тех лидеров хватило воли и смелости предстать людьми дела, а не пустых слов и обещаний. Третье сословие шло к победе – и победило!  Взятие Бастилии 14 июля 1789 года. Гравюра Берто с картины Приёра. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва. Жители восставшего Парижа приветствовали своих вождей бурными возгласами типа: «Да здравствует Мирабо – отец народа!» Французы говорят: «Le style c`est I`home» («Стиль – это человек»). Мирабо называли «путеводной звездой Европы», «гигант, язычник и титан». Его трудолюбие поражало всех. «Один день для этого человека был больше, чем неделя или месяц для других; количество дел, которые он вел одновременно, баснословно; от принятия решения до приведения в исполнение не пропадало ни одной минуты» (Дюмон). Говорят, он одним из первых дал определение понятию «цивилизация». Его популярность в первое время была просто невообразимой, а его смерть, якобы, исторгла у некоторых французов слезы отчаяния (едва ли не впервые со времен кончины Людовика XII).[532] Мирабо запечатлелся в сознании народа Франции как лидер первых и триумфальных дней восстания. Он был создан для любви и политики. Для того и другого одновременно. Есть такие натуры, что в кровати и парламенте ведут себя одинаково (с равным пылом). Надолго их, как правило, не хватает. Мирабо готов был из революции сделать роман, в котором ему, разумеется, уготована роль первого любовника. Шатобриан дал ему характеристику: «Уродство Мирабо, наложившееся на свойственную его роду красоту, уподобило его могучему герою «Страшного суда» Микеланджело… Глубокие оспины на лице оратора напоминали следы ожогов. Казалось, природа вылепила его голову для трона или для виселицы, выточила его руки, чтобы душить народы или похищать женщин. Когда он встряхивал гривой, глядя на толпу, он останавливал ее; когда он поднимал лапу и показывал когти, чернь бежала в ярости». Это был вихрь, «клубящийся хаос Мильтона».[533] Однако суть власти – это организация хаоса. Мы не можем подробно рассказывать о событиях тех лет. Стоит вспомнить дни, когда массовое недовольство масс стало перерастать в вооруженные выступления. Всегда есть грань, за которой Народ окончательно порывает с правящей элитой – и тогда раздается клич: «На фонари!» Главным лицом в любой Революции всегда был и будет народ. Такая «точка кипения» наступила после падения Бастилии и формального утверждения «Декларации прав человека и гражданина». В начале после ее принятия народ ничего не понял. Как же так? Феодализма, вроде бы, уже нет, все живут «в условиях демократии», с тиранией старой партии покончено, а бедняки по-прежнему стоят в очередях. Да и денег у них как не было, так и нет. Положение могли бы спасти займы, но финансисты, увы, не имеют родины. Патрули Лафайета запрещают выражать недовольство. Власти схватили Марата, Друга Народа, лишили свободы издателей патриотических журналов и газет. В то время как страна голодала, в Версале, как встарь, устраивались попойки. Шампанское текло рекой, их Величества утомленно отдыхали после охоты, Мария Антуанетта в роскошном платье милостиво принимала знаки внимания. Фиестов пир, на котором, по греческой мифологии, царю подано мясо собственных детей, пир сыновей Иова (завершился полным крахом «их дома»). Английский историк Карлейль (у которого мы берем описание последующих сцен) далее рассказывал, что эти приемы и пиры возмутили измученных и голодных тружеников, месяцами не видевших хлеба. И тогда своё слово сказали славные французские женщины, подлинные героини Великой Французской революции. 5–6 октября они двинулись на Версаль, это прибежище королей и знати, каким в России исторически являлся и является Кремль (или раньше – Царское Село). 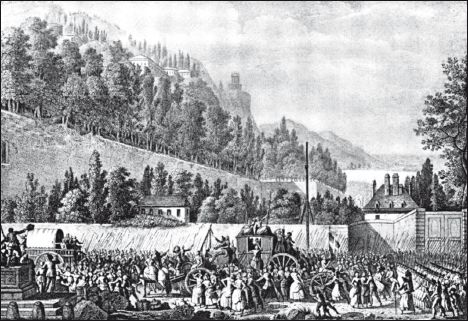 Парижские женщины в походе на Версаль 5 октября 1789 г. Гравюра Берто с картины Приёра. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва. «Вставайте, женщины; мужчины-лентяи не хотят действовать, они говорят, что мы должны действовать сами! И вот, подобно лавине с гор, потому что каждая лестница – это подтаявший ручей, толпа грозно растет и с шумом и дикими воплями направляется к Отель-де-Виль. С шумом, с барабанным боем или без него; вот и Сент-Антуанское предместье подоткнуло подолы и, вооружившись палками, кочергами и даже проржавевшими пистолетами (без патронов), вливается в общий поток. Грандиозное зрелище… представляло множество Юдифей, всего от восьми до десяти тысяч, бросившихся на поиски корня зла!.. Национальные гвардейцы выстраиваются на наружной лестнице, опустив штыки, но десять тысяч Юдифей неудержимо рвутся вверх – с мольбами, с простертыми руками, только бы поговорить с мэром… И вот двери разлетаются под ударами топоров: Юдифи взломали арсенал, захватили ружья и пушки, три мешка с деньгами и кипы бумаг. Захваченные пушки привязаны к… повозкам; в качестве канонира восседает мадемуазель Теруань с пикой в руке и в шлеме на голове «с гордым взглядом и ясной прекрасной наружностью»; некоторые считают, что ее можно сравнить с Орлеанской девой, другим она напомнила «образ Афины Паллады». Затем они идут на Версаль с грозными и драматическими криками: «Хлеба! Хлеба!»[534] Мы уважаем и глубоко чтим во французах их давнюю революционную страсть. Слава тебе, нация мыслителей, поэтов, революционеров! Почему одни восстают, а другие рабски и скотски терпят угнетение!? Шлоссер, работая над историей XVIII в., однажды спросил аббата Грегуара: «Скажите же мне, наконец, каким образом Робеспьер мог так ворочать всей Францией?» Грегуар преспокойно ответил: «Да в каждой деревне был свой Робеспьер!» Он мог бы добавить: «Робеспьер – воплощение того, что творилось в то время в каждой деревне». А разве в России в каждой деревне и городе нет своего Стеньки Разина или Емельки Пугачева (а если исходить из нынешних нравов, то и своего «Соловья-разбойника»)?! Важно тщательно разобраться в том, при каких обстоятельствах у общества возникает потребность в роковых фигурах? Что же, в конце концов, выводит на авансцену Робеспьера, Жанну Д`Арк? Чем интересен опыт первого революционного этапа? Ясностью, прозрачностью политических, имущественных, экономических интересов. Тому, кто пожелает знать, куда идет страна накануне той или иной «бури», нет нужды копаться в бумагах, пускаться в досужие теоретические рассуждения. Взгляните на состав правительств, мэрий, дум, муниципалитетов. Обратите внимание на тех, кому досталась большая часть земли и имущества. Обещаю: получите ответы на все главные и наиболее интересные вопросы. Менее всего придавайте значение речам демагогов. Все грандиозные политические события, в ряду которых, конечно же, и Великая Французская революция, заключают в себе экономический ящик Пандоры. Богатства всюду ограничены. За них ведется отчаянная схватка (не на жизнь, а на смерть). Немецкий исследователь Г. Кунов в книге о французской революции («Die revolutionare Zeitungsliteratur wahrend der Jahre 1789-94») писал о наличии внутри движущих сил во Франции острых противоречий. Уже в конце 1789 г., спустя восемь месяцев после созыва Генеральных штатов, не только представительство третьего сословия в Национальном собрании распалось на разные энергично боровшиеся друг с другом партии, но и среди парижского населения бушевала партийная борьба; и почти каждое из этих разнообразных течений уже имело свою газету, которая писала для него, отстаивая его права. Имели свои органы и низшие социальные слои. Радикальная буржуазия, большинство полупролетарской интеллигенции читали «Парижскую революцию» Лустало. Студенты, литераторы, представители необеспеченных слоев, безвестные художники, адвокаты читали «Революции Франции и Брабанта» Камиля Демулена, а интеллигентные рабочие, мелкие мастера, отчасти и интеллигентный пролетариат – газету Марата «Друг народа». Противоречивый характер материальных интересов явственно выразился внутри буржуазного лагеря. Обнаружилась невозможность создания единой политической платформы. Газета Марата выступила как представитель интересов рабочих и мелких ремесленников, проповедуя борьбу против финансистов-спекулянтов, купцов, рантье, надменных академиков, тогда как «Французский патриот» Бриссо был голосом состоятельной буржуазии (выступив против трудящихся масс). Классовые противоречия обострялись тем больше, чем дальше развивалась революция. В Бордо треть муниципалитета была составлена из юристов, а две трети из негоциантов (крупная и средняя буржуазия). Мирабо громит эти муниципальные органы: «алчные муниципалитеты, нисколько не радеющие о счастье народа и веками занятые только тем, что множат его оковы и расточают плоды его труда». В Марселе ситуация иная. Там против спекулянтов, воров, монополистов выступил единый фронт народа, включая национально мыслящую среднюю буржуазию. В городе тружеников Лионе сложилась радикальная ситуация (введен низкий избирательный ценз, ворье сажают, патриоты берут в руки прессу). Там ворье в полном составе пойдет на гильотины. Расклад интересов примерно таков и в любой другой стране. Наиболее бурные события происходят в сфере собственности… Повсюду идет откровенный передел церковного и государственного имущества (по сути дела, это грабеж). Захват столь лакомых кусков новой буржуазией дал ей возможность сразу же окунуться в болото спекуляций. Вот уж величайший шанс загрести невероятный куш – d`une seule haleine (франц. «одним махом»). Подобно факиру, деньги добывали прямо из воздуха. Но так как ничто из ничего не возникает, всем было ясно, что «приватизаторы» тянули из кармана государства. Буржуазия понимала, что обманула народ, ибо «ничего не могла ему дать». Надо было хоть что-то подсунуть массе (помимо «демократических сказочек»). И тогда эти господа во всю мощь своей продажной прессы затрубили о «правах человека» (объявив сей чахлый плод величайшим достижением). Разумеется, было бы верхом наивности полагать, что простому народу передадут вот так во владение национальное имущество на миллиард франков. Демократия буржуазии охотнее обратит к народу «лик горгоны Медузы»! Жан Жорес писал: «Но во что превратилось это право на жизнь в обществе, где столько человеческих существ гибнут под тяжестью чрезмерных лишений? Во что превратилось право на труд в обществе, где безработица обрекает на нужду стольких людей, жаждущих трудиться?» Надо отдать должное французским патриотам. Это был мужественный и грамотный народ. Патриоты призывали отказаться от наивной веры в банки и займы. В условиях нестабильности те всегда крадут (по-крупному) и вывозят звонкую монету (или припрятывают ее), что парализует экономику страны. Что делать? Ясно – ограничить их власть! Главный сборщик налогов, депутат третьего сословия от Парижа г-н Ансон говорил в Национальном собрании (1790): «Предоставим администрации старого порядка совершать ошибки, прибегая к промежуточным кредитам: покажем наконец всей Европе, что мы сознаем всю огромность наших ресурсов, и очень скоро мы уверено вступим на широкую дорогу нашего освобождения, вместо того, чтобы плутать по узким, извилистым тропинкам раздробленных займов и кабальных договоров». К словам патриота надо бы прислушаться в России, если бы наша компрадорская буржуазия не следовала девизу «Virtus post nummos!» (Добродетель после денег).[535] У всякой революции, народного движения непременно есть Гора и Жиронда, «авангард» и «болото». Среди представителей последнего масса тех, кто быстрее и полнее воспользовались результатами перемен (прежде всего бюрократы, спекулянты, часть интеллектуалов из числа придворной челяди, представители официальной оппозиции, получившие наделы и ордена). Все эти вчерашние «честные люди» тут же принялись отхватывать самые жирные куски. Народу же бросили «кость» в виде неизвестно что из себя представлявшей «свободы». Однако наиболее дальновидные деятели Горы тотчас раскусили трюк «демократов». Они говорили: «Вы хотите свободы без равенства, а мы хотим равенства, хотим, потому что без равенства мы не можем представить себе свободы. Вы – «государственные люди», вы хотите организовать республику для богатых, а мы люди не государственные… мы ищем законов, которые извлекли бы бедных из нищеты и сделали бы из всех людей при всеобщем благосостоянии счастливых граждан и ярых защитников нашей обожаемой республики». Противоречия заложены в самой основе буржуазной революции. Бриссо возмущался: как же можно уравнять «талант и невежество, добродетели и пороки, места, жалования, заслуги»? Как можно ставить на одну доску парламентария и землекопа? Другая сторона стремилась к «всеобщему благосостоянию», к передаче власти «в руки общин и народных обществ». Конечно, столь диаметрально противоположные интересы трудно, пожалуй, даже невозможно воплотить в жизнь. Власть должна идти на уступки народу. Такое решение требует большого ума, воли, совести, не говоря уже о серьезных талантах и способностях..[536] Выдающийся деятель французской буржуазной революции Жан-Поль Марат (1743–1793), павший впоследстви? от кинжала Шарлотты Корде (эту сцену монументально изобразит художник Жак Луи Давид), по понятиям тогдашнего времени принадлежал к буржуазии. Его отец, чертежник, рисовальщик, преподаватель иностранных языков, хотел видеть сына ученым. Марат получил хорошее воспитание. Юноша любил читать, усердно занимался в библиотеке города Невшателя, увлекался историей, географией, мечтал о путешествиях. В школе он изучал языки: немецкий, английский, итальянский, испанский и голландский. Читал по-латыни и по-гречески. О жизненных планах юноши можно было судить по следующему признанию самого Марата: «В пять лет я хотел стать школьным учителем, в пятнадцать лет – профессором, писателем – в восемнадцать, творческим гением – в двадцать». Марат – подлинный сын народа. Поэтому его, как и Робеспьера, крупная буржуазия не любит и боится. Для них Мирабо и Дантон ближе и роднее подобно тому, как родные сыновья дороже подкидыша. Карлейль даже называл Марата проклятым человеком, фанатическим анахоретом, Симеоном Столпником, пещерным жителем. Мы думаем иначе… Это – Человек с большой буквы. Среди множества талантов и сильных личностей Франции той поры никто, пожалуй, не был столь близок к нуждам и заботам простого народа. Мирабо заполучил славу «оратора», маркиз Лафайет – славу «героя Нового Света», Дантон – «спасителя Отечества», Робеспьер – титул «Неподкупного», и лишь Марат – скромное имя «Друга Народа»… Можно с полным правом утверждать: «Его гений приблизил революцию!» Найдется ли сегодня хотя бы один, кто с такой же одержимостью и яростью отстаивал бы заботы и нужды Народа?! Кстати, ведь и он вел свое происхождение не от плебеев, а от «буржуа». Наше отношение к нему выразим лишь фразой: «Summa cum pietate» (лат. «С величайшей почтительностью»). Когда летом 1790 г. Национальное Собрание издало декрет, по которому три четверти совершеннолетних граждан Франции были напрочь лишены прав участвовать в избирательных собраниях (это право предоставлялось лишь состоятельным), Марат назвал этот закон позорищем первого года свободы. Он призвал беднейшую часть населения к протесту, а в случае необходимости даже к восстанию. Трибун призывал не уповать на речи членов Собрания и не думать, что можно ими накормить народ. Нужны конкретные и жесткие меры (в сфере регулирования цен, налогов, подвоза зерна, муки и т. д.). Именно Марат предупреждал народ об опасности измены представителей знати и высшей буржуазии. Он высмеивает «идолов» буржуазии – Мирабо и Лафайета. Мирабо в течение нескольких месяцев истратил на покупку имений около 3 млн. ливров, тогда как еще пару лет тому назад он вынужден был, как образно выразился историк, «заложить у ростовщика свои штаны за шесть ливров». Откуда у господина «революционера» и «реформатора» такие бешеные деньги на покупку дорогостоящих особняков и содержание наложниц?! Из каких бездонных источников эта сволочь нашла средства на покупки замков и вилл? Генерал Лафайет характеризуется Маратом как жалкий болтун и политический комедиант, который готов ради власти вступить в союз с самим чертом (кстати, и Наполеон Бонапарт назвал Лафайета не иначе как «простофилей»).  Жан-Поль Марат. На мой взгляд, особый интерес представляет оценка им тех кругов, что и пришли к власти в итоге революционных событий во Франции. Марат писал: «А вокруг этих честолюбивых интриганов, – презренной придворной челяди, – скоро сплотились, в качестве опоры и телохранителей, дворянство, духовенство, офицерство, судьи, правительственнные и судейские чиновники, банкиры, спекулянты, пиявки общества, краснобаи, крючкотворы и паразиты двора, – словом, все те, у кого положение, состояние и надежды основываются на злоупотреблении правительственной властью, все, кто извлекает выгоды из ее пороков, начинаний и расточительности, все заинтересованные в сохранении злоупотреблений, ибо от этих злоупотреблений они богатеют. А вокруг них постепенно собрался более широкий круг: дельцы, ростовщики, ремесленники, производящие предметы роскоши, литераторы, ученые, артисты, которым расточительность богачей дает случай к обогащению, крупные торговцы, капиталисты и те жаждущие покоя граждане, для которых свобода есть дишь устранение препятствий, мешающих их промыслам, лишь укрепление их собственности и ничем ненарушимое наслаждение жизнью. А к ним примыкают те робкие, которые рабства страшатся меньше, чем волнений политической жизни, и те отцы семейств, которые боятся, как бы перемена в условиях не лишила их положения, занимаемого ими в современном обществе».[537] Зато вот простые люди Франции любили Марата всем сердцем. Хотя в 1795 г. «золотая молодежь», это скопище экзальтированных невежд, которых полно в любой стране, выбросит священный прах из Пантеона, разобьет его скульптурное изображение. Однако разве не это же видим мы в Англии, когда тела героев славной революции – Кромвеля, Брэдшоу, Айртона – вытащили из усыпальниц в Вестминстере и повесили вверх ногами, когда в 1790 г. молодые ничтожества, после пьянки, вскрыли могилу великого Милтона в церкви святого Джайлса, растащив и распродав его бренные кости?! Разве не такую же вакханалию толп видели мы в революционной, а потом и в «демократической» России, где осквернялись церкви, а затем и многие памятники культуры?! (Ныне все те же «сокрушители основ» из невежественных толп подрывают столпы государства!) Везде один и тот же принцип разрушения и мести, которым обычно руководствуются самые ничтожные, тупые подонки («шпана»). Марат всей своей жизнью и трудом революционного журналиста доказал, что честная народная газета («Публицист Французской республики»), громящая воров, предателей и негодяев, для тиранов куда опаснее пушек и армий. Клика не простит ему его позиции: «Недостаточно помешать увеличению нищеты, нужно начинать с ее уничтожения».[538] Никого так люто не ненавидели предатели и мошенники, как его и Робеспьера. За что? Марат сам ответил на вопрос: «Я хорошо знаю, что мои произведения не созданы для успокоения врагов отечества: мошенники и изменники ничего так не боятся, как разоблачения. Поэтому число злодеев, поклявшихся погубить меня, огромно». Стоит ли жалеть, что в нем ученый и врач уступил место публицисту и революционеру? Ведь, без титанических усилий этих героев человечество не сделало бы шагов в нужном направлении. Марат отдал всего себя делу служения революции. Он обладал каким-то особым нюхом на предателей отечества (выявил связи Мирабо с королевским двором, измену Лафайета и Дюмурье и т. д.). Он же одним из первых заговорил и на языке террора. Толпа жаждет мести. Он писал в 1790 г.: «Шесть месяцев назад пятьсот-шестьсот голов было достаточно. Теперь, возможно, потребуется отрубить 5–6 тысяч голов». Затем он заговорит уже о 20 тысячах и даже 200 тысячах голов. Да, за все надо платить… Тогда-то и явилась из Кана «мстительница» Шарлотта де Корде (праправнучка великого поэта и драматурга Корнеля). Убийство Марата открыло путь жирондистам. Во имя чего пошла она на жертву? Те, кто пришли на смену Марату, не стоили и его мизинца. Ничтожества, обеспокоенные только собственной наживой. Корде напрасно «умерла за Родину» (как ей тогда казалось). Смерть Марата вызвала вопль радости у ничтожеств. Его подвиг сумел по достоинству оценить великий художник Давид, посвятивший ему картину «Смерть Марата». А в далекой России критик Белинский так сказал о его учении: «Я понял… кровавую любовь Марата к свободе… я начинаю любить человечество по-маратовски».  Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793 г. Наиболее яркой фигурой, бесспорно, являлся Максимилиан Робеспьер (1758–1794), мрачный гений и герой Великой Французской революции. Робеспьер не был счастлив в юные годы, оставшись сиротой (отец, потомственный адвокат, рано умер). Благодаря поддержке опекуна юноша сумел попасть в коллеж Луи-ле-Гран, представлявший собой школу-интернат. Вместе с ним там учился и Камил Демулен, ставший его другом. Все Робеспьеры из поколения в поколение были судейскими. Учился он хорошо, полностью отдаваясь чтению и грезам о будущем. Его героями и духовными учителями стали Брут, Гракхи, Спартак. Он буквально был напоен римской историей. Видимо, потому его и прозвали Римлянином. Однако время нуждалось в новых идеях. Новая идеология во многом формировалась просветителями, среди которых первое место занимал Жан-Жак Руссо. Во времена молодости Робеспьера жизнь Руссо уже клонилась к закату. Великий философ не сумел скопить хоть малой толики денег и в последние годы проживал в бедности, ища приюта и поддержки. Однажды в имении маркиза Жирардена и произошла знаменательная встреча мыслителя и революционера. Они гуляли по аллеям сада в Эрменонвиле, и там великий Руссо развернул перед студентом панораму мыслей. Содержание беседы так и осталось для всех тайной. С 1781 г. Робеспьер работает в коллегии адвокатов при Совете Артуа. Хотя первое свое дело он проиграл, удача не покинула его. Она пришла к нему вместе с изобретением Бенджамина Франклина. Тот изобрел громоотвод, и один из жителей решил установить его на крыше своего дома. Однако соседи решили, что он хочет спалить их дома. Робеспьер, который вел это дело в суде, с блеском защитил авторитет науки и свой собственный. Вел он неоднократно и тяжьбы крестьян, так что был прекрасно осведомлен о тяжелом положении народа. Он выступил как публичный политический деятель, обратившись к народу провинции с предложением преобразовать провинциальные штаты (1788). «Нашим штатам, – писал Робеспьер, – нет дела до нужды и нищеты задавленного поборами народа; у них не находится денег, чтобы дать народу хлеб и просвещение, но они необычайно щедры, когда требуется отпустить огромную сумму денег губернатору, которому понадобилось выдать замуж дочь… Наши деревни полны обездоленных, поливающих в отчаянии слезами ту самую землю, которую понапрасну возделывают в поте лица».[539] Уже с первых своих речей в Национальном собрании (его избрали депутатом третьего сословия от Арраса), в мае-июне 1789 г., он ввязался в острейшую политическую борьбу. Вначале его не замечали. Пресса даже путала имя Робеспьера. Однако твердость и суровость его речей начали оказывать свое магическое действие. В 1789 г. газеты отметили лишь 69 выступлений в Учредительном собрании; в 1790 г. – 125; в 1791 г. – уже 328 выступлений (за девять месяцев его деятельности). Даже прославленный Мирабо так оценил его: «Он пойдет далеко, потому что он верит в то, что говорит». Народное восстание 14 июля 1789 г. (ныне это главный национальный праздник французов) пробудило в нем бешеную энергию. Он выступает против той части буржуа, что хотела подавить народное движение. Этим ничтожествам он бросает в лицо фразу: «Не забывайте, господа, что только благодаря этому мятежу нация обрела свою свободу». Грустно, когда у наследников другой великой революции нет ни ума, ни сердца, ни чести, чтобы сохранить в истории великую дату. В первые дни восстания стало ясно, что в его лице Франция обрела радикального, отважного революционера. Он одобрил и поддержал поход народа на Версаль, крестьянские выступления в деревнях, сожжение усадеб ненавистных дворян-помещиков. Это – настоящий вождь «партии равенства» (как назвал его Буонарроти). Хотя он осуждал крайности, выступив против тезиса Жака Ру: «Необходимо, чтобы серп равенства прошелся по головам богатых!», он был против вопиющего неравенства, стремясь к выравниванию состояний (этим путем шли скандинавы и русские революционеры в XX веке). Подлые и ничтожные умы пытаются сделать из Робеспьера страшилище, деспота, тирана. Однако у истории, в отличие от иных людей, крепкая память. В одной из речей, в речи «О свободе печати», произнесенной 22 августа 1791 года, Робеспьер сказал: «Это, господа, приводит нас к заключению, что нет дела более щекотливого, и, пожалуй, более невозможного, чем издание закона, налагающего наказания за мнения, опубликованные людьми по любым вопросам, являющимся естественными предметами человеческих знаний и рассуждений. Что касается меня, я заключаю, что нельзя издать такого закона… Другой, не менее важный вопрос относится к государственным личностям. Надо заметить, что в любом государстве единственным эффективным тормозом против злоупотребления власти является общественное мнение и, как необходимое следствие, свобода выражать свое индивидуальное мнение о поведении государственных должностных лиц, о хорошем или плохом применении ими той власти, которую им доверили граждане. Но, господа, если это право можно будет осуществлять лишь рискуя подвергнуться всевозможным преследованиям, всевозможным юридическим жалобам государственных должностных лиц, не станет ли этот тормоз бессильным и почти недействительным для того, кто, стремясь выполнить свой долг по отношению к родине, будет разоблачать совершенные государственными должностными лицами злоупотребления власти. Для кого не ясно, каким огромным преимуществом обладает в этой борьбе человек, вооруженный большой властью, располагающий всеми ресурсами громадного кредита и огромного влияния на судьбы индивидов и даже на судьбу государства? Для кого не ясно, что лишь очень немногие люди были бы достаточно мужественны, чтобы предупредить общество об угрожающих ему опасностях? Позволить государственным должностным лицам преследовать как клеветников всех, кто осмелится обвинить их за совершенные ими действия, это значит отречься от принципов, принятых всеми свободными народами».[540]  Максимилиан Робеспьер (1758–1793) В то же время отвагой и мужеством Робеспьера восхищались многие истинные сыны своих отечеств… Так, Герцен с присущим ему жаром революционера восклицал: «Максимилиан – один истинно великий человек революции, все прочие – необходимые блестящие явления ее и только». Впрочем, он же, прежде восхищавшийся Европою, увидев спустя годы казнь тысяч мятежников (после революции 1848 г. в Париже), скажет в отношении нее уже совсем другие слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж. Пора окончить эту тупую Европу». Дух времени, пробужденный усилиями Монтескье, Гельвеция, Вольтера, Дидро, Руссо, Марата, Робеспьера и стал своего рода джинном, выпущенным из бутылки. Ранее нами уже не раз отмечалось, что идеология Просвещения несла в себе известную долю преклонения перед науками, знаниями, искусством, культурой. Корифеи прошлых лет – Гельвеций (с его тезисом «Воспитание всемогуще»), Локк («Мысли о воспитании»), Руссо – внесли огромный вклад в воспитание революционеров. В школах и институтах нации вырастают будущие мараты и эберы! Карлейль скажет: «Не только евангелист Жан-Жак – нет ни одного сельского учителя, который не внес бы свою лепту»…[541] В особенности, когда к словам учителя прибавляется грозный вид гвардейцев, баррикад, гром пушек! К тому же, для полного развенчания идеологии деспотизма революции понадобились радикальные инструменты перемен. Представляют интерес взгляды революционеров-якобинцев на воспитание и образование. Дантон однажды сказал: «После хлеба самое важное для народа – школа». Умная национальная буржуазия нуждается в науках и просвещении! После денег это наиболее мощный инструмент влияния. Подлинный переворот совершается в умах, а не в конституциях и правительствах. Шамфор с сарказмом говорил: «Национальное собрание 1789 года дало французскому народу конституцию, до которой он еще не дорос. Оно должно немедля поднять его до этой конституции, учредив разумную систему народного просвещения».[542] Мысль верная, хотя и не бесспорная. Кое-где считают, что достаточно одарить народ конституцией и лишить его при этом достойной системы просвещения. В странах, где у власти недоучки и невежды, школы и вузы брошены на произвол судьбы, а их обитатели прозябают в нищете. Воззрения Робеспьера в данном вопросе близки к взглядам другого якобинца – Лепелетье де Сен-Фаржо (1760–1793), автора «Плана национального воспитания» (убит роялистом Пери накануне казни короля, поскольку подал голос в поддержку этого акта). Он представил Конвенту план от имени Комиссии народного образования. Очевидно, «Неподкупный» полностью разделял взгляды Сен-Фаржо на проблему образования. Суть документа такова. Дети воспитываются за счет республики. Воспитание должно быть национально ориентированным и равным для всех. Все будут получать одно и тоже питание, одну и ту же одежду, иметь равные условия в приобретении знаний. Воспитание граждан – долг республики. Родители не должны уклоняться от обязательств дать своим детям приличное воспитание. Цель национально ориентированного воспитания – укрепление тела и духа детей, подчинение их благотворной дисциплине, предоставление им полезных знаний в различных профессиях. По окончании обучения воспитанники должны заняться производительным трудом (в ремеслах и земледелии). Жажда знаний и склонность к искусствам и творчеству, по мысли реформаторов, будут всячески поощряться республикой. Обучаться дети должны бесплатно. Их учебу и оплату труда учителей берет на себя государство. Курс обучения разделен на три ступени: общественные школы, институты, лицеи. Туда будут приниматься после получения молодежью национального воспитания, обязательного для всех. Для изучения литературы, наук и изящных искусств выбираются одаренные дети – из расчета один из пятидесяти. Избранники народа содержатся на средства республики. Затем и из них должны быть отобраны самые талантливые, которых и направят учиться дальше. Половина воспитанников республики, с отличием окончивших курс образования в институтах, будет избрана в лицеи, где они пройдут курс обучения в течение четырех лет, находясь на содержании республики.[543] Быть может, в том и заключается природная мудрость французской буржуазии, что она даже после завершения революции не пыталась искоренить ее великих, здравых, прогрессивных начал. Это особенно справедливо в отношении сферы образования и культуры. Вот что можно прочесть в некоторых поздних мемуарах на сей счет: «Во времена террора, в 1793 году, был опубликован декрет Робеспьера, учреждавший бесплатные школы и обязывавший всех молодых французов обучаться чтению, письму, счету и основам сольфеджио. Дети освобождались от посещения публичных школ, если родители могли доказать, что ребенок обучается всему этому частным образом или любыми иными средствами. Декрет не был отменен: короли сохранили наследие своего врага».[544] Французская буржуазия была умнее. Напомним хронологию перемен в сфере высшего образования. После создания первого университета в Сорбонне (1215) география высшего образования расширяется. Научные исследования в те времена велись не в университетах, а в специальных институтах, таких, например, как Колеж де Франс, основанный в 1530 г., Жардан де Плант (Ботанический сад) – 1626 г., Обсервер де Пари (Парижская обсерватория) – 1672 г., Эколь дес Понс э Шассис (Школа мостов и шоссе) – 1747 г., Эколь дес Минс (Горнорудная школа) – 1783 г. Судьба учреждений науки и образования складывалась своеобразно. В 1793 г. университеты во Франции были упразднены, заменены высшими школами под общим названием «Гран Эколь». Возрождение собственно университетского образования состоится уже в конце XIX века.[545] С другой стороны, нельзя не признать, что крылатый конь Пегас (символ поэзии), видимо, не случайно явился на свет, во-первых, из капель крови горгоны Медузы и, во-вторых, после того, как Персей отрубил ей голову. Так вот и науки с искусствами становятся доступны массам лишь в итоге завоеваний революции, хотя это не всегда гарантирует их высокий уровень. Гельвеций, Руссо, Дидро указали на то, что неравенство состояний ведет к урезанию прав народа на просвещение. Глашатаи социального прогресса (Тюрго, Сиейес, Кондорсе) говорят, что само по себе равенство в политических правах ничего не даст, если нет равенства на деле (egalite de fait). Желанное равенство, по мысли Кондорсе, представляет собой главную цель социального искусства. Неравенство состояний и образования – главные причины всех зол. Этот акцент все громче слышен в многочисленных наказах избирателей. Поэтому важно видение проблем образования и воспитания деятелей радикального крыла Французской революции (так называемыми «бешеными»). В их взглядах нашли отражение позиции беднейших слоев населения (Жак Ру, Варле, Леклер и другие). Их идеология исходила из простой посылки: «Революция – дитя Просвещения». К ним были близки и некоторые другие мелкобуржуазные идеологи. Жак Ру говорил, например: «Так как свобода рождается только при свете просвещения, так как забвение обязанностей вытекает из незнания прав, будем распространять просвещение, помогающее человеку познать его достоинство, его могущество, добродетели и чудеса свободы». В другом месте читаем: «Образование для членов великой семьи человечества является тем же, чем оказалось солнце для земли». В том же духе говорят Варле и Леклер. Революция ускорила и прогресс человеческих знаний.[546] Французы, пожалуй, и явились одной из первых наций на континенте, конституировавших свои просветительские нужды и потребности столь определенно и ясно. Никто не сумел проявить столько воли и настойчивости в усилиях впрячь государство в воз образования. В составленной Варле «Торжественной декларации прав человека в общественном состоянии» говорилось, что воспитание и образование, наряду с проповедью общественной морали, являются священным долгом государства в отношении всех граждан. Только с их помощью становятся реальными обретенные политические права. Свобода не стоит и су, если в результате революции не наступит расцвет школьного образования. Высшее счастье они видели в служении неимущим в качестве добровольных учителей. «Почтенные неимущие, – писал Варле в предисловии к «Плану новой организации центрального клуба Друзей конституции», – при режиме несправедливостей, когда вы не имели понятий о своих правах, политика попов, королей, знати, финансистов и судейских заключалась в том, чтобы держать вас в цепях невежества… Неимущие, несшие до сих пор на себе всю тяжесть общественных бедствий, изучайте законы вашей родины, и вы сможете пользоваться всеми благами конституции; вы сможете возвышать голос в собраниях, и тогда все увидят, что приобретенные знания стирают все грани. Бедные, но образованные, вы превзойдете богатых неучей».[547] В итоге бурных событий тех лет республике удалось наметить реформу просвещения. По предложению Робеспьера организована специальная Комиссия по народному образованию. Из имеющихся проектов отдано предпочтение плану Кондорсе, которому принадлежала и идея создания Политехнической школы для подготовки гражданских и военных инженеров. Вскоре Конвент учредит Нормальную школу для подготовки преподавателей высших наук. Те, кто учился тут, наряду с обретением теоретических знаний, должны были получить и политическое воспитание (в республиканском духе)… Организован Институт, некое подобие Академии наук с ее отделениями, который отныне должен был состоять из трех секций (физико-математической, морально-политической, литературно-художественной). Он заменил существовавшую аристократическую Академию. Институт был посредником для ученых, благородным сообществом, где бы находились в постоянных контактах представители наук и искусств. Бывало, разумеется, и так: декреты и указы реформаторов так и оставались на бумаге. Как мы знаем, нет ничего более ненадежного, чем указ. Камил Демулен в «Истории бриссотинцев» писал о некоторых серьезных просчетах тогдашних революционеров в деле образовательной политики: «Одно из преступлений Конвента состоит в том, что все еще не учреждены начальные школы. Если бы в деревнях в кресле священника сидел присланный нацией учитель и разъяснял бы права человека… то уже давно исчезли бы среди жителей Нижней Бретани наросты суеверий, это странное явление – погруженные в тьму невежества Вандея, Кемпер, Корантен и Ланжюине, где крестьяне обращаются к вашим комиссарам со словами: «Скорее гильотинируйте меня, чтобы я мог воскреснуть через три дня»[548] Во времена Великой французской революции появились и другие проекты образовательных реформ, предложенные столь разными по своим взглядам людьми как Талейран и Кондорсе. Представляют интерес взгляды математика Ж. Кондорсе (1743–1794). Хотя имя Жана Кондорсе не так широко известно, как имена Марата, Дантона, Робеспьера, оно заслуживает внимания (родоначальник теории прогресса). Кондорсе принадлежал к древнему аристократическому роду. Его предки одними из первых приняли протестантскую религию (среди них были епископы и военные). Уже в школе проявилась его горячая любовь к гуманитарным наукам. Как почти все великие умы Франции, он воспитывался иезуитами. В Наваррской коллегии он получил математическое образование, в котором преуспел. Талант его отмечен Д'Аламбером, Клеро и Фонтенем. И все же его сердце и ум отданы были мыслям о судьбах человечества. Он верил в то, что род человеческий способен к беспредельному совершенствованию. Все тверже решение посвятить себя наукам. В 1769 г. он поступил в академию, а уже через шесть лет стал ее секретарем. Ему патронировал Д'Аламбер (на 26 лет старше его), который ради принятия его в члены академии выдержал не одну битву. Когда же это случилось, он сказал: «Я меньше был бы рад открытию квадратуры круга, чем этой победе». Кондорсе также отвечал математику глубокой привязанностью. Оставим анализ его трудов по интегральному исчислению, определению пути комет и т. п. ученым-естественникам. Посмотрим, каков путь его собственной жизненной кометы, увы, трагично закатившейся. Для нас ценно в нем то, что он не позволял даже науке становиться между ним и народом. Жизнь страны и народа была на первом месте. Во имя справедливости и истины порой приходилось поступаться даже религией. Еще в 1775 г. он написал своему другу Тюрго: «Необходимо подчинять все личные интересы чувству долга и беречь как драгоценный дар свою природную чувствительность и сострадание к ближним…». Сострадание – основа его философии. Кондорсе был добрейшим человеком. Он не упускал случая помочь друзьям не словом, а делом. Дверь его дома была открыта «для всех и каждого». Тем не менее ради занятий наукой он совершенно отказался от радостей светской жизни (театр и проч.), работая по десять часов в день. Несмотря на его спокойный характер и мирный нрав, в нем бушевал огонь. Недаром Д'Аламбер как-то сказал: «Это – вулкан, покрытый снегом». В чреве этого вулкана бурлила лава, которая то и дело выплескивалась в виде ярких и восхитительных эссе, посвященных таким личностям, как Вольтер и Тюрго. К нему прислушивался Вольтер, говоря: «Никогда не стыдно ходить в школу, даже в лета Мафусаила» (когда Кондорсе все же отговорил его от нападок в печати на «Дух законов» Монтескье). Глубокая личная привязанность существовала между Кондор-се и министром Тюрго. Он посвятил ему очерк, сказав: «Среди министров, которые короткое время держат в руках своих власть, немногие заслуживают внимания. Нечего и упоминать о людях, разделявших убеждения и предрассудки своего века. Их история сливается со всеобщей историей. Но люди, одаренные высшими умственными способностями, со взглядами, опередившими свой век, должны возбуждать интерес всех веков и народов. К числу таких людей принадлежал и Тюрго. Любовь ко всему человечеству, воодушевлявшая его, побудила и меня написать его биографию». Когда в Европу приехал Павел I, Кондорсе его приветствовал («Пределы Европы раздвинулись в царствование этого государя; науки проникли в новую империю»). В его доме в Париже собирались Лафайет, Мирабо, Кабанис, Джефферсон. Кабанис называл дом центром всей просвещенной Европы. В годы революции он выступал за мирную республику и издавал первую во Франции республиканскую газету. Эпоха безжалостно втянула его в самую гущу битвы. Он рвет отношения с Лафайетом, поддерживает Дантона, осуждает Марата, говоря: «Катон и Брут покраснели бы при мысли оказаться в сообществе Марата». Тогда надо было выбирать, с кем ты: с «красными» или «белыми». Для него это было трудно (г-жа Ролан даже назвала его «ватой»). Ему предлагали стать морским министром, он отказался, заняв пост комиссара казначейства, затем президента Законодательного собрания, посвятив себя делу организации публичного образования. О его роли в Национальном собрании пишет автор очерка Е. Литвинова: «Кондорсе представлял собой и ум, и совесть Конвента».[549] Скрываясь от террора якобинцев в доме вдовы скульптора Вернэ, Кондорсе пишет свое главное произведение – «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». В этой интереснейшей книге он дает такую оценку эпохе Просвещения: «Просвещение стало предметом деятельной и повсеместной торговли. Отыскивать рукописи стало такой же необходимостью, как для нас теперь искание редких произведений. То, что ранее читалось только немногими, могло, таким образом, быть прочитано целым народом и повлиять почти одновременно на всех людей, владеющих одним и тем же языком. Стал известен способ говорить с рассеян?ыми нациями. Мы присутствуем при сооружении трибуны нового вида». Трибуной должна была стать и система образования. В этом мыслителе можно увидеть провозвестника будущей планетарной цивилизации. В основу её должны быть положены обширнейшие знания, высокая культура, широкий кругозор. Ж. Кондорсе формулирует и общее направление поиска: «Вопрос, занимавший этих философов, разрешается в настоящем труде. Здесь мы увидим, почему прогресс разума не всегда вел общества к счастью и добродетели, каким образом предрассудки и заблуждения могли оказывать свое вредное влияние на блага, которые должны были явиться плодами просвещения, но которые зависят в большей мере от чистоты знаний, чем от их обширности. Тогда ясно станет, что этот бурный и мучительный переход первичного грубого общества к цивилизации просвещенных и свободных народов является отнюдь не вырождением человеческого рода, но неизбежным переломом в его постепенном движении к полному совершенству. Мы увидим, что пороки просвещенных народов обусловлены были не ростом, а упадком знаний и что последние не только никогда не развращали людей, но всегда смягчали нравы, если уже не могли их исправить или изменить».[550] В докладе «Об общей организации народного образования» (1792) оно преподносилось как всеобщее и включало пять ступеней: 1) начальные школы (из расчета отдельная школа на каждые 400 жителей); 2) школы второй ступени; 3) учебные заведения широкого профиля, как бы завершающие общее воспитание человека; 4) лицеи, или академии, выпускающие ученых, для которых работа исследовательского ума «составляет закон всей жизни»; 5) национальное общество наук и искусств, исследующее факты окружающего мира. Однажды он сказал: «Злоупотребление научным языком превращает в науку слов то, что должно бы быть наукой фактов». В проекте Кондорсе уделено место и просвещению взрослых. Увы, жизнь мыслителя оказалась в разительном контрасте с теми радужными перспективами, которые сам же он рисовал перед обществом. Ведь, «спираль его прогресса» завершилась в тюремной камере. Кондорсе задержали и направили в тюрьму Бург-ля-Рень, где он, желая избегнуть публичной казни, принял яд, как некогда философ Сократ.[551] Другой проект подан виднейшим ученым-химиком Антуаном Лораном Лавуазье (1743–1794). Немногие знают, что в 1793 г. он стал одним из организаторов и вдохновителей Нового лицея. Тяга к знаниям становилась повсеместной в годы революции. Агент доносил властям: «Со всех сторон идут требования о создании начальных школ; молодежь всемерно стремится приобрести основы республиканизма». В самые тяжелые для республики годы Лавуазье одним из первых протянул руку помощи образованию! «В тот самый момент, – писал он, – когда прозябает торговля, когда изящные искусства заброшены, когда большая часть богатых людей покинула свои насиженные жилища, когда старый Лицей на улице Валуа уже еле держится, когда зажиточные люди сами добровольно подвергают себя лишениям, боясь привлечь на себя бремя налогов, – в этот момент в лоне Парижа создана новая большая организация. Эта организация… устроила роскошные торговые помещения, залы для собраний и спектаклей; она создала план бесплатного народного обучения по всем почти областям человеческого знания; она собрала превосходных профессоров; она распределяет премии и призы…» Средства, на которые существовал институт, складывались из: 1) доходов от спектаклей; 2) сумм, получаемых от сдачи торговых помещений; 3) продаж платных образовательных услуг. В лицее существовал курс системных знаний, включавший в себя политическую экономию, баланс торговли, статистические знания, взгляды на государственное устройство, методы подъема и стимулирования промышленности, оживления коммерции и земледелия. Как видите, весьма актуальные проблемы и для нашего времени.  Портрет супругов Лавуазье. В этой связи нельзя не сказать и о его удивительном «Размышлении о народном образовании» (1793). Мы говорили о разных проектах на эту тему (Лепелетье, Талейран, Кондорсе, Робеспьер). Проект Лавуазье занял особое место в силу той значимости, которую он придавал развитию промышленности. Он четко понял, что ни о каких серьезных реформах в образовании не может идти речь, пока образование оторвано от основ человеческой деятельности (промышленность, земледелие, наука). В начале доклада он говорил: «…из всех представленных вам планов устройства национального публичного воспитания, промышленность, повидимому, была совершенно забыта». Лавуазье считал, что в главных центрах Франции, должны быть созданы специальные, профессиональные школы трех типов: механических, химических, смешанных ремесел. Одновременно необходимо учредить школы обществоведения, политической экономии, коммерческих наук. «Существует ряд профессий, которые связаны с результатами всех человеческих знаний, в которых нельзя иметь успеха без углубленного изучения почти всех наук, – таковы мореплавание, кораблестроение, для которых необходимо знание геометрии, астрономии, географии и физики; таковы инженерные науки; таковы медицина и ветеринарное искусство, хирургия, фармация, требующие обширных познаний в области всех физических наук… Успехи, которых может достигнуть земледелие при помощи просвещения, просто неисчислимы: ведь земледелие дает более, чем вся промышленность в целом, или, вернее, только земледелие продуктивно, потому что все другие искусства только изменяют форму, но ничего не прибавляют к существующим ценностям». Проект был поддержан рабочим классом. 15 сентября 1793 г. в Якобинский клуб явилась мощная депутация от народных обществ, секций коммун Парижа. Депутация обратилась к якобинцам с прямым и жестким требованием: «Мы не хотим, чтобы образование было исключительным достоянием слишком долго пользовавшейся привилегиями касты богатых, мы хотим его сделать достоянием всех сограждан».[552] Великие и верные слова. Главным завоеванием Великой Французской революции стали не формальные признаки свободы, и уж тем более не словесные штампы и лозунги, а реальная возможность народных масс (третьего сословия) принять активное участие в экономической и социокультурной деятельности. Революционеров волновало и положение мелкого собственника («человека в сорок экю»). Многие из них твердо верили, что общество, в конечном счете, сумеет-таки достичь некоего гуманистического и справедливого идеала. В нем установятся порядки, когда каждому воздастся за его труды, а также исчезнут различия меж бедными и богатыми. Однако если буря сотрясает общество, тут уж не до манер. На войне – как на войне! Мирабо заявлял, что «безразличие к несправедливости есть предательство и подлость». И тут же вдруг с легкостью допускает возможность применения в борьбе «всех средств без исключения». Франция, поощрявшая науки и образование, вдруг, заявит устами Фулье-Тенвиля: «Республике не нужны ученые!» Геометрическая фигура – треугольник Декарта – воплотился в дьявольскую машину доктора Гильотена. В тюрьмы, на гильотины пойдут Кондорсе, Лавуазье, Демулен, многие другие. Науку лишают средств для достойного существования. Главные места в правящей верхушке и науке заняли те, кто рады-радешеньки выполнить любой социальный заказ новой власти. Их роль известна – роль подзаборных шлюх идеологии. Руссо, Робеспьер, Марат, Кондорсе мечтали о разумной человеколюбивой системе. Отчего же случилось так, что идущие за ними больше преуспели в палачестве и воровстве, нежели в обновлении общественных устоев?! С тревогой писал о «бессмысленной черни» Руссо, говоря, что заурядные учителя и ученые могут лишь ограничить кругозор знаний и преобразований «узкими рамками своих собственных возможностей». Тревогу по поводу сосредоточения власти в руках тех, кто «перешибает крылья гению», заглушая в уме всякое истинное знание, высказывал Гельвеций («О человеке»): «Изувер желает, чтобы люди дошли до нелепостей; он боится просвещения. Кому же поручает он задачу довести их до скотского состояния? Схоластам. Из всех сыновей Адама эти самые тупые и горделивые… Схоласт, богатый словами, слаб в рассуждениях. Поэтому он и воспитывает людей тупых в своей учености и горделиво-глупых… существует два вида глупости: одна – природная, другая – благоприобретенная; одна – результат невежества, другая – результат воспитания».[553] Школы и университеты не только не избавляют нас от дураков, но делают их намного изощреннее и опаснее для народа. Знаете, кто всего опаснее для простого люда? Ученые схоласты, воспитанные в догматическом духе, волею судеб нежданно ставшие «реформаторами в законе». Вынесенные на вершину власти, они становятся подлинным национальным бедствием. Эти мерзавцы готовы без ножа зарезать всю нацию. В особенности это справедливо по отношению к «экономистам базарного профиля»… Это – современные бандиты-инквизиторы. Их экономика совершенно не учитывает интересов народа. Шамфор (1740–1794) сказал о них: «Ученый экономист – это хирург, который отлично вскрывает труп острым скальпелем, но жестоко терзает выщербленным ножом живой организм».[554] Народ для них – живой труп. Революции благотворны и необходимы. Без них нет прогресса, но им вторит гром пушек и стук гильотины. Увы, нередко случалось так, что плод, зародившийся в недрах общественных движений как «дитя разума и света», словно по мановению злой феи вдруг трансформировался в существо далеко не идеальное. Многое из блистательных идей и благородных помыслов, воплощаясь в жизнь, приобретало неузнаваемый облик, когда за их осуществление брались невежественные массы, ремесленники и даже полуграмотные буржуа. Показательна история стекольных дел мастера Менетра. Современник и участник Великой Французской революции, в мемуарах он описывал события, свидетелем которых стал. Обыденные факты сведены им в ясную картину. Но вот попытка глубже разобраться в характере политической борьбы оканчивается плачевно. Даже он, активист Парижской секции, не очень-то понимал, что происходило в Париже.[555] Что можно требовать от пролетария, когда и у нас в России, почитай что два века спустя иные академики («архитекторы перестройки») проявляют редкую тупость, а еще больше подлость, быстро забыв о смысле и заслугах нашей Революции. Когда же за реформы берутся бездари и недоучки (даже со степенями и званиями), страны и народы подвергаются страшной опасности геноцида, а то и полного уничтожения. Среди реформаторов противоречия обострялись. Жизнь становилась все более тяжкой. Массы начинали роптать. Они видели, как часть революционеров спекулирует на победе демократии. Собственность аристократов, крупных богачей, церковников как-то незаметно стала переходить в руки иных мэров и вождей «новой демократии». Мэры, губернаторы, чиновники столицы и крупных городов Франции сказочно обогатились. Далеко не все патриоты и революционеры сумели удержаться от соблазна быстрой и неправедной наживы… Наиболее известен Жорж Дантон – лев, переродившийся в гиену. Еще в 1791 г. он был банкротом и должником, но в результате революции стал крупным собственником и землевладельцем, ловко скупив с помощью подставных лиц национальное имущество. Состояние его было оценено в кругленькую сумму (203 тысячи ливров). Тогда и во Франции (1793 г.) как никогда остро встал вопрос о продажности части депутатов и политиков. Враги революции не жалели средств на подкуп верхушки новой власти. Глава английского правительства Питт специально выделил колоссальную сумму в пять миллионов фунтов стерлингов на подкуп французских «демократов». Английский банкир Вальтер открыл в Париже контору, где ссужал депутатов Делонея и Шабо отнюдь не безвозмездно (они помогли удрать из Парижа, когда Комитет общественного спасения наложил арест на все его капиталы). Австрийский банкир Проли платил Демулену и Дантону. Прикрываясь якобинским колпаком, иные «революционеры» обворовывали французов (вместе с банкирами, спекулянтами, поставщиками армии). Так, близкий друг Дантона, республиканец Робер, сделал состояние на спекуляции ромом. У барона де-Баца в Париже устраивались шикарные обеды, в ходе которых политиканы и торгаши обделывали свои делишки. Они подделывали документы, проворачивали миллионные аферы, обсуждали планы по спасению Марии-Антуанетты, арестованных вождей Жиронды.  Жорж Дантон. А народ в это время голодал. Уголь стал большой редкостью. Простые люди порой не имели даже куска хлеба. Цены на продукты выросли в десятки, а то и в сотни раз. В сентябре 1793 г. радикал Фуше выдвинул лозунг: «Стыдно быть теперь богатым». Однако так не считали Дантон и его друзья-спекулянты. Они жаждали прибылей и наслаждений. Не было предела их безнравственности. Робеспьер заметил: «Из всего хода нашей революции видно, что все безнравственное является и политически непригодным, все, клонящееся к разврату, носит контрреволюционный характер». Для Дантона и либералов, выступивших против патриотов и истинных революционеров, страшна позиция Робеспьера. Я думаю, всем понятно – почему. Воплями о «демократии», «свободе», «правах человека» они старались прикрыть страх. Они боялись, что придется отвечать за аферы. Именно крупные воры и их глашатаи выступали против смертной казни (как и в нынешней России). Сен-Жюст сказал: «Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них». В широком смысле те и другие отражали настроения разных слоёв общества. В их основе – противоречия Горы и Жиронды, Народа и Спекулянта. Франция – не исключение. И даже Дантон на поверку оказался нуворишем и спекулянтом в духе Гобсека. Он словно аккумулировал в себе достоинства и пороки победившей буржуазии. К Дантону будет привлечено внимание и после его гибели. Даже Р. Роллан посвятил ему одноименную драму. Красноречив и такой факт: из всех монтаньяров французская буржуазия возвигла памятник одному – Дантону! Подобный расклад не нравился бедным слоям. Те восстали против тотального воровства, всех этих больших и малых «гобсеков», которых О. Бальзак очень точно охарактеризовал – «живоглоты». Глашатаями восстания стали эбертисты (Эбер, Каррье, Шометт). Назрел заговор. Каррье был комиссаром Конвента, и его имя «наводило ужас на буржуазное население Юга». Силы их были сосредоточены главным образом в Клубе Кордильеров. Клуб Кордильеров постановил покрыть черным крепом доску Декларации Прав Человека и Гражданина, ибо народ был лишен элементарных прав. Обращаясь к трудящимся массам, Эбер заявил: «Пора народу показать всем этим жуликам и грабителям, что их царство недолговечно. Люди, ютившиеся раньше по чердакам, а теперь живущие в роскошных помещениях, разъезжающие в пышных каретах и упивающиеся народной кровью, эти люди скоро станут добычей гильотины». К сожалению, сил беднейших слоев в Париже оказалось недостаточно для победы этой политической линии, которую можно было бы условно назвать «Партией фактического равенства». В итоге, заговор 14 марта не удался и 24 марта 1794 г. главные вожди эбертистов были казнены.[556] С их поражением дело равенства и справедливости не погибло. Среди жертв террора были те, кто никоим образом не мог быть причислен к «радикалам». Умница Шамфор, директор Национальной библиотеки, бросивший в мир лозунг «Мир хижинам, война дворцам», в числе первых ворвавшийся в Бастилию, один из организаторов якобинского клуба, падет жертвой доноса и кровавого террора. Однажды он с глубокой грустью пророчески заметил: «Людей безрассудных больше, чем мудрецов, и даже в мудреце больше безрассудств, чем мудрости». Его арестовывают и сажают в тюрьму Ле Мадлонет. Через несколько дней выпускают вместе со знакомыми, но приставляют к ним жандармов, которых они обязаны содержать за свой счет. Однако Шамфор не пожелал внять предостережениям друзей и продолжал острить. Его не насторожили слова «Анакреона гильотины» Барера: «Нет, пусть враги погибнут! Только мертвые не возвращаются». О силе и язвительности его строк говорит одна из фраз: «Хочу дожить до того дня, когда последнего короля удавят кишками последнего попа». Впрочем, в годы революции казнили не только священников, но порой «рубили головы» даже фигурам каменных святых в некоторых монастырях. Предъявляется новый ордер на арест… Шамфор стреляет себе в голову (хотя рана оказалась не смертельной, несколько месяцев спустя она свела его в могилу). Своим преследователям он гневно бросает в лицо: «Я, Себастьян-Рок-Никола Шамфор, заявляю, что предпочитаю умереть человеком, чем рабом отправиться в арестный дом. Я свободный человек. Никогда меня не заставят живым войти в тюрьму». Умирая, он скажет Сийесу: «Мой друг, я ухожу, наконец, из этого мира, где человеческое сердце должно или разорваться, или оледенеть». Слава к нему придет после смерти («post obitum»). Неужели нет иного выхода для разума?! Трагически завершилась жизнь и великого Лавуазье… Ему не простили деятельности откупщика. Известно, что еще в 1768 г. он вступил в Генеральный откуп, а в 1779 г. стал полноправным пайщиком этой финансовой «пирамиды». Вольтер, характеризуя этих господ, называл их «плебейскими царями», которые арендуют империю. Они кое-что отдают монарху («делятся»), а остальное преспокойно кладут себе в карман. Занятие не достойное великого ученого, но, бесспорно, очень выгодное. Хотя Лавуазье уж никак нельзя ставить на одну доску с нашими «реформаторами». Он и как деловой человек был на уровне своего огромного таланта. На Лавуазье было возложено взимание сборов со всех товаров, что шли в Париж из провинции. Это бешеные деньги (прибыль делилась поровну между казной и откупщиком). В 1773 г. он добился от правительства осуществления давней своей мечты – окружить Париж решетчатой оградой, цель которой борьба с теми, кто уклоняется от уплаты ввозных пошлин (усиление роли таможни). Хорошо если бы в этом акте главным моментом было бы «радение об интересах отчизны». Однако почтенный академик руководствовался личными интересами. Будучи хватким и ловким дельцом, он не упускал случая сорвать куш везде, где можно (продажа пороха, соли и т. д.). Гражданские, научные, просвещенческие заслуги Лавуазье уже были не в счет. Его замысел привел к чудовищному росту цен на рынках, к ухудшению без того тяжелого положения бедных слоев (честно говоря, истинным мотивом действий откупщиков была единственная страсть: безмерно обогатиться за счет народа и государства). В Париже ходила острота: «Стена, стесняющая Париж, заставляет Париж стонать» («Le mur, murant Paris, rend Paris murmurant»). Повсюду тогда звучала песенка: Чтобы росла статья доходов, В итоге, против этой идеи выступили все. Мнение народа о Лавуазье выразил и Н. Карамзин (1790): «Быв перед Революцией генеральным откупщиком, имеет, конечно, не один миллион». Во времена революции быть откупщиком, финансистом, крупным спекулянтом опасно. Угнетенный и ограбленный люд может спросить (имеет полное право): «А куда это ушли уворованные у нас деньги?» Тогда путь у воров один – в тюрьму или на гильотину. Это и произошло, к сожалению, с умным, и даже гениальным Лавуазье. Никому нет дела до того, что большую часть средств он тратил на производство важных научных опытов, что его труды в лаборатории привели к значительному увеличению взрывной силы пороха, что он автор «Очерков земельных богатств Франции» (1791) и т. д. 8 мая 1794 г. он, как и все 28 бывших генеральных откупщиков Франции, был гильотинирован на площади Революции. 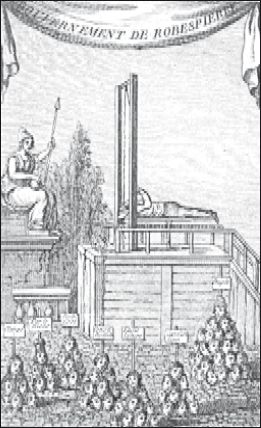 Ее Величество Гильотина, «уравнивающая» всех (анонимная гравюра). Причем, Лавуазье мог бы её избежать, так как, видимо, предупрежденный, успел спрятаться в Лувре… Однако узнав, что все его товарищи в тюрьме, что арестован и его тесть, он решил разделить с ними их участь и отдался в руки трибунала. Казнь была молниеносной. Многие узнали о ней лишь из газет на следующий день. Ему так и не удалось, как он однажды изволил выразиться, удлинить продолжительность жизни даже на несколько дней.[557] Имя этого учёного, жертвы политических битв, заняло место в пантеоне бессмертных. Химик М. Дюма так определил роль Лавуазье в истории науки: «Это он заставил нас понять сущность воздуха, воды и металлов. Единственно ему мы обязаны открытием тайн и законов горения тел, дыхания животных, брожения органических веществ. Люди не воздвигли ему памятника ни из бронзы, ни из мрамора, но он сам себе воздвиг памятник, несравненно более прочный: этот памятник – вся химия».[558] Для истинного гения и эшафот может стать памятником!  Камиль Демулен. Люсиль Демулен. Таковы революции! Богачи должны помнить, что хотя «поднять интеллектуальный уровень последнего из крестьян до гения какого-нибудь Лавуазье невозможно» (Г. Лебон), самому ничтожному из толпы не составит труда опустить топор гильотины или спустить курок! Террор стал необходимостью, как бы подтверждая пророчество Нострадамуса. 250 лет тому назад, описывая будущее Франции, тот предсказал: «И будут бури, огонь и кровавые казни!» Важная и нравоучительная мысль: если власть теряет меру, бросая народ в крайнюю нищету, ограбив его до последней нитки, если она благодушествует в роскоши и богатстве, обрекая на голод массы, возмездие близко – «казненной головой» может стать ваша собственная голова и голова ваших близких. Мораль же проста – умное правительство никогда не доводит народ до столь отчаянного состояния, когда у того нет выбора, кроме восстания! Или все же поэт К. Рылеев прав, сказав: «Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?!» В экстремальных условиях, когда стране плохо, когда ее экономика трещит по швам, а на границах скапливаются враги, пример Франции следует учесть всем. Вспомним и жесткие требования санкюлотов, выраженные в лозунге К. Демулена: «Пока санкюлоты сражаются, господа должны платить». Свободу торговли пришлось на время ограничить. Ввели известный «закон о максимуме», прижавший спекулянтов и денежных воротил. Наконец, «закон о подозрительных» и «уравнивающая всех гильотина» дружно и эффективно ударили по казнокрадам, убийцам, контрреволюционерам, продажным чиновникам, подлым и лживым журналистам, предателям и перевертышам-депутатам. Помните: тогда экстремальные меры спасли страну! Террор против «внутренней сволочи» открыл путь к величию, славе Народа.[559] Вперед, санкюлоты, вперед!.. Понятно, что однажды запущенный маховик репрессий остановить уже трудно. Репрессиям подвергнутся и другие герои революционных лет. Один из них – капитан инженерных войск Клод Руже де Лиль (1760–1836), любивший сочинять стихи и музыку «по случаю». Когда Франция объявила войну Австрии и Пруссии, срочно потребовалось написать военный марш для войск, уходивших на фронт. Поручили это сделать Руже де Лилю. За одну ночь в апреле 1792 г. сочинил он ноты и слова песни, которая вскоре стала известна как марш марсельских добровольцев «Вперед, сыны отчизны!» Прошло несколько месяцев, и знаменитую отныне «Марсельезу» поет уже вся Франция. Эта песня проникала в самое сердце французов. Так никому неведомый капитан создал национальный гимн. Франция объявила войну Европе (25 апреля 1792 г.). Как напишет об авторе революционного гимна С. Цвейг в своем очерке «Гений одной ночи»: «Победоносное шествие «Марсельезы» неудержимо, оно подобно лавине. Ее поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквах после Te Deum, а вскоре и вместо этого псалма. Каких-нибудь два-три месяца, и Марсельеза становится гимном целого народа, походной песней всей армии». Военный министр республики почувствовал огромную окрыляющую силу этой единственной в своем роде национальной походной песни. Он издал приказ срочно разослать сто тысяч экземпляров «Марсельезы» по музыкантским командам, и два-три дня спустя песня автора получает более широкую известность, чем все проивзедения Расина, Мольера и Вольтера. Ни одно торжество не заканчивается без Марсельезы, ни одна битва не начнется, прежде чем не сыгран этот марш свободы. Судьба автора не была триумфальной. Руже де Лиль не принял власти якобинцев. Его лишили чинов, пенсии, посадили в тюрьму и чуть не казнили. У него отняли мундир, лишили пенсии, обрекли почти на полную нищету. Его осаждали кредиторы. Наполеон, став императором, даже вычеркнул песню из программ всех торжеств. А после Реставрации Бурбоны и вовсе её запретили. Только в 1830 г. ему выделят небольшую пенсию. Во время первой мировой войны его прах перенесут в Дом инвалидов и похоронят рядом с Наполеоном.[561]  Руже де Лиль поет «Марсельезу» у мэра Страсбурга Д. Дитриха. По картине де Пиля. Лувр. Аресту был подвергнут и великий французский актер Франсуа-Жозеф Тальма (1763–1826). Он называл себя «сыном революции» и принадлежал к «красным» актерам. Во Франции актерская братия в годы революции также разделилась на «красных» и «белых». Среди последних – привилегированная актерско-богемная элита, получившая от прошлого режима все мыслимые и немыслимые блага (ордена, деньги, славу). Обласканные новым режимом подлецы (мы насмотрелись на таких и в России в последние годы), а иначе нельзя назвать всех этих маститых режиссеров, актеров, певцов и певичек («театр дамочек и рабов») – со злобной яростью обрушились на революцию. Тальма вызвал одного из таких холуев (Ноде) на дуэль. Некоторых артистов «Комеди Франсэз» (Театра Нации) сажают в тюрьмы. В Конвенте реакционное крыло театра было обвинено в пособничестве спекулянтам, аристократам и ворам. Против этого было трудно возразить. Хотя, предвидя, что требование ареста встретит возражения (всё же слуги Мельпомены!), Барер подчеркивает воспитующее и обучающее значение театра: «Если эта мера покажется кому-нибудь слишком суровой, я отвечу: «Театры являются первоначальными школами для просвещения людей и пособием в общественном воспитании». Абсолютно верная оценка роли деятеля сцены (кто бы он ни был). Мастера искусств, хотят они того или нет, всегда есть и будут «учителями народа». А учителя должны нести знания, порядочность, нравственность, а не превращать театры, экраны и площадки в «бордели». Правда, корифей театрального искусства К. Станиславский однажды вроде бы заметил: «Не будем говорить, что театр – школа. Нет, театр – развлечение. Нам не выгодно упускать из наших рук этого важного для нас элемента. Пусть люди всегда ходят в театр, чтобы развлекаться. Но вот они пришли, мы закрыли за ними двери, напустили темноту и можем вливать им в душу все, что захотим».[562] Велик Станиславский, а тут вот неправ. В современном обществе и так более чем достаточно тех, кто «напускает темноту в душу». Впрочем, арест актеров, с которыми успел сродниться (столько дней и вечеров вместе) ошеломил Тальма. Его допрашивали в трибунале с пристрастием, но «не решились сразить театрального короля». В день казни жирондистов он играл Отелло («с чувством передал ярость мавра»). Разумеется, прискорбно, что новая власть изгоняла из театра не только неугодных актеров, но и неугодные репертуары… В ходу трагедии «Брут», «Вильгельм Телль», «Кай Гракх», «Друг народа», воспевающие революцию, борьбу против тирании. Перед спектаклем и в перерывах зрители и актеры пели «Марсельезу». Впрочем, согласитесь, что труженик имеет право на «свой театр». Суровые декреты угрожали карами актерам и режиссерам за постановку пьес, имеющих целью «развратить общественное сознание и пробудить позорнейший предрассудок роялизма». Тогда арестованнных актеров выручил делопроизводитель Комитета общественного спасения, Ш. Лабюсьер, ярый поклонник артистов. Он ухитрился пробраться ночью в бюро – и просто выбросил все обвинения трибунала в Сену.[563]  Колло д`Эрбуа. Гравюра Боссельмана по рисунку Раффе. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва. Ни о какой свободе слова уж не могло быть и речи. Г. Лихтенберг обвинил буржуазных революционеров в подавлении свободы слова: «Прежде при обращении в новую веру пытались искоренить мнение, не затрагивая головы. Во Франции поступают теперь проще: мнение отсекают вместе с головой».[564] История будет повторяться не раз (и в России). Революции часто поедают своих детей. При этом они же избавляют нацию от шлака и хлама истории. Так что трудно сказать с уверенностью, каков общий итог баланса. Что поделаешь, такова неумолимая логика политической борьбы и народных революций: чтобы «дать простор свету» в головах масс – нужно лишить голов самых яростных противников их просвещения! И самых откровенных воров! Связь между справедливостью и образованием прослеживается и в брошюре Бийо-Варенна (1793). «Мы слышали крик, – писал он, – «Война замкам, мир хижинам!» Прибавим к этому следующее основное правило: не надо граждан, избавленных от необходимости иметь профессию; не надо граждан, поставленных в невозможность научиться ремеслу».[565] Поэтому нельзя не говорить о том, что в любой революции наряду с извергами и палачами действуют законы суровой необходимости. О тех и других можно судить по следующему эпизоду, дающему характеристику одному из главных деятелей термидорского переворота Колло д`Эрбуа. Когда прокурор террора Фукье-Тенвилль (его называли «топор республики») однажды был вызван в Комитет общественного спасения, он был встречен Колло д`Эрбуа, с мрачной усмешкой ему заявившего: «Чувства народа стали притупляться. Надо расшевелить их более внушительными зрелищами. Распорядись так, чтобы теперь падало до пятисот голов в день». Некоторые палачи станут затем ярыми хулителями революции и завзятыми «демократами». Другие же, более совестливые, испытывали почти что физическое содрогание от казней. «Возвращаясь оттуда, – признавался потом Фукье-Тенвилль, – я был до такой степени поражен ужасом, что мне, как Дантону, показалось, что река течет кровью…» Толпа всегда готова приветствовать падение тиранов (будь то тиран республики, монархии или «демократии»). Толпа же приветствовала казнь короля, банкира, епископа, Дантона, Робеспьера. «А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала!» За ужасами террора нельзя не видеть конструктивных деяний Французской революции. Да и сам факт репрессий никак нельзя вырывать из общего контекста международных событий тех лет. В действительности, надо четко осознавать, что революционная Франция (как и новая Россия спустя 200 лет) оказалась под прессом ненависти реакционной Европы, объединившейся против Франции. Хотя на первых порах та и не очень спешила приступать к военным действиям (Пильницкая декларация августа 1791 г. призывала монархов Европы к интервенции). Война была объявлена лишь 20 апреля 1792 г. Вскоре приходит конец и монархии (10 августа 1792 г.). А 20 сентября 1792 г. в сражени при Вальми революционная армия под командованием Дюмурье и Келлермана («пятьдесят тысяч босяков») придают новую энергию революционному урагану. На следующий же день Конвент официально отменяет монархию, а 23 сентября провозглашает Республику («единую и неделимую»). Даже монархист Гете вынужден был заявить, что это событие открыло «новую эру в мировой истории».[566] Сегодня, конечно же, довольно легко с высот двух столетий (или 80 лет социализма в СССР), поджав безвольные губы кастратов и извращенцев, «выговаривать революции». Тут и тут-то она неправа, а тут и вовсе вела себя «по-зверски». Честный и знающий человек поинтересовался бы условиями, в которых тогда приходилось действовать. Следует помнить и то, что в народе накопился тысячелетний гнев к своим угнетателям и эксплуататорам. Да, любой из народов не похож на совершенное, гуманное существо («светоносного ангела»). К тому же не забывайте: мы видели «гуманизм» монархий, да и победой демократии сумели в первую очередь воспользоваться самые гнусные и бессовестные личности, ждавшие своего часа, чтобы вылезти из тьмы преисподней на свет Божий, и, обретя власть, начать грабить и унижать тех, кто во сто крат их умнее, трудолюбивее, талантливее. Задолго до революции Д. Дидро в «Племяннике Рамо» вывел образ такого негодяя (вполне современного). Отвечая на вопрос «Но если бы вы разбогатели, что бы вы стали делать», Рамо говорит, не смущаясь: «То, что делают все разбогатевшие нищие: я стал бы самым наглым негодяем, какого только видел свет. Тут-то я и припомнил бы все, что вытерпел от них, и уж вернул бы сторицей. Я люблю приказывать, и я буду приказывать. Я люблю похвалы, и меня будут хвалить. К моим услугам будет вся… свора, и я им скажу, как говорили мне: «Ну, мошенники, забавляйте меня», – и меня будут забавлять; «Раздирайте в клочья порядочных людей», – и их будут раздирать, если только они не вывелись. И потом у нас будут девки, мы перейдем с ними на ты, когда будем пьяны; мы будем напиваться, будем врать, предадимся всяким порокам и распутствам; это будет чудесно. Мы докажем, что Вольтер бездарен, что Бюффон всего-навсего напыщенный актер, никогда не слезающий с ходуль, что Монтескье всего-навсего остроумец; Даламбера мы загоним в математику. Мы зададим жару всем этим маленьким Катонам вроде вас, презирающим нас из зависти, скромным от гордости и трезвым в силу нужды».[567] Личностью иного масштаба был Робеспьер… Отребье революции его избегало и ненавидело. Предатели страшились. Палачи часто пользовались его именем для прикрытия. Ничтожества, что, как шакалы, приходят на места львов, оболгали Неподкупного. Ламартин писал о нем в «Жирондистах»: «Побежденный людьми, из которых одни были лучше, а другие хуже его, он имел несчастие умереть в день окончания террора, так что на него пала та кровь жертв казней, которые он хотел прекратить, и проклятия казненных, которых он хотел спасти. День его смерти может быть отмечен как дата, но не как причина прекращения террора. Казни прекратились бы с его победой так же, как они прекратились с его казнью».[568] На что уж буржуазен Бонапарт, но и тот говорил о Робеспьере только в уважительных тонах, считая, что он непременно восстановил бы царство закона, придя к позитивным результатам (и без жутких потрясений). Он-то понимал, что власть должна быть суровой и жесткой. 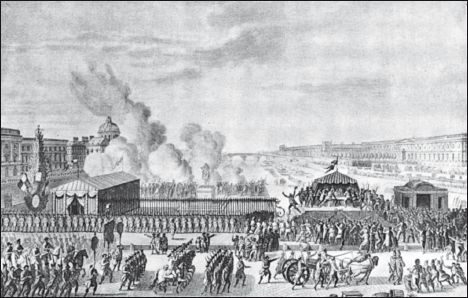 Провозглашение в Париже лозунга: «Отечество в опасности!», 22 июля 1792 г. Гравюра Берто с картины Приёра. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва. Обратимся вновь к этой выдающейся личности, ибо тема «Робеспьер и Террор» стала впоследствии этакой «черной легендой». Реакционеры всех мастей постарались внедрить ее в сознание широких народных масс. Конечно же, проще всего представить Робеспьера (Ленина или Сталина) чудовищами и монстрами, стоящими по колено в крови. В России продажные писаки и телевидение создают образы исторических злодеев и покорителей мира (на деньги Запада). Эти мать родную зарежут ради пачки банкнот. Меня «удивляет» другое: почему никто из буржуазных историков не видит близость и даже прямую схожесть требований Народа и Робеспьера. Плутократы, демократы, этнократы упорно обходят эту тему за сотни верст. Почему?! Ясно. Если бы они попытались честно ответить на этот вопрос, тут же выяснилось бы, что, во-первых, все самые жестокие меры в тяжкие, переломные эпохи применялись в революциях по воле Народа, и, во-вторых, как правило, были направлены против наиболее скомрометировавших себя в глазах того же Народа правящих элит. Политический мотив всегда играл и играет в Терроре не последнюю роль. Поэтому Робеспьер не только объединял себя неразрывными узами с Народом («я – сам народ»), но и противопоставил Народ наследственной аристократии. Близость его к широким народным массам ничуть не уменьшилась от того факта, что его выступления проходили «в закрытых помещениях и перед избранной публикой» (за исключением обращения к Толпе в праздник «Верховного существа»). Террор в его понимании выглядел как орудие управления и достижения политических целей. Автор очерка о нем Б. Бачко отмечает: «Робеспьер никогда не ставил под сомнение ту власть, идеологом и грозным творцом которой он являлся. Он практически не знал жестоких и грубых реалий Террора; даже руководя Бюро общей полиции, он ни разу не посетил тюрьму, не посмотрел на гильотину. Человек собраний и бюро, он ни разу не ездил ни в миссию, ни в департаменты, ни в армию». Так же вел себя в России и Сталин, русский Робеспьер. Отсюда их полное равнодушие к меркантильно-денежным интересам.[569]  Конституция на игральной карте, символизирующая шулерские проделки власти. Прежде чем осуждать суровые меры, принятые якобинцами, посмотрим, против чего и кого они направлены. Что такое Жиронда? Крупные буржуа, использовавшие народ для победы над старой структурой. Затем они пожелали загнать его в стойло. Бриссо вопит: «Никаких восстаний! Уважайте конституцию! Возлюбите судей!» Но кого защищают судьи и конституции? Бюрократов и чинуш, обогатившихся на смене режимов. Характеристику этой публике дал П. Кропоткин: «Народ и его революционный порыв, спасший Францию, для них не существовал. Они оставались бюрократами. Вообще говоря, жирондисты были верными представителями буржуазии. По мере того как народ набирался смелости и требовал налога на богатых и уравнения состояния – требовал равенства как необходимого уровня свободы, буржуазия приходила к заключению, что пора отделиться от народа, пора вернуть его к «порядку»… С этого момента жирондисты решили остановить революцию: создать сильное правительство и принудить народ к повиновению, если нужно, то при помощи гильотины и расстрелов».[570] Левое крыло должно ответить на террор и угрозы действием. Обратим внимание на обстоятельства, которые заставили якобинцев прибегнуть к Террору. Фраза Сен-Жюста о «силе обстоятельств», заставивших якобинцев обратиться к крайним мерам, не столь уж и далека от истины. Аналитики признают наличие критической ситуации к тому времени, когда власть прибегла к насилию (осень-зима 1793 г.). В Тулоне заправляют англичане. На юге, в Вандее, разгорается гражданская война. Революционная республика окружена врагами и вынуждена яростно отбиваться. Внутри страны подняла голову контрреволюция. В Конвенте все чаще слышны голоса сомневающихся и напуганных. В этих условиях террор был крайне неприятным, страшным, но необходимым средством спасения. Честные исследователи говорят: «Нравится это или нет, но Террор составляет единое целое с общим течением демократической и либеральной революции 1789 года» (К. Мазорик). Среди жертв чаще всего называют имена казненных депутатов из Учредительного собрания Франции (102 человека от общего числа в 1315 депутатов и их заместителей). Оценочной цифрой жертв Террора мог бы служить список лиц, канонизированных в 1926 г. папой Пием IX (191 мученик революции). Социальный состав погибших депутатов таков: 12 процентов – дворяне, 8 священники – священники, 5 процентов – депутаты третьего сословия. Среди казненных депутатов – оба стана, как сторонники, так и противники революции (первых даже больше – 55 процентов, противников – 45 процентов).[571] Такова полная картина тех событий. В истории Великой Французской революции заметная страница – казнь Людовика XVI, «высшего суверена». Первый вопрос, который обязан задать себе Друг народа – «Во сколько обходится французам, русским, англичанам и так далее вся королевская рать?» На содержание придворного штата Людовика XVI, состоявшего из 15 тысяч человек, уходило 40 миллионов ливров (десятая часть всех государственных доходов). Правительство Людовика было откровенно воровским, о чем прозрачно свидетельствует отчет Неккера Учредительному Собранию (1789): 4 млрд. 467 млн. государственного долга, 56 млн. ежегодного дефицита, 262 млн. выбранных наперед налогов. Место президента (парижского парламента) стоило 500 тысяч ливров. Ясно, что сей господин жил «на нетрудовые доходы». Роскошествовал и высший клир церкви, чьи прибыли были просто баснословны, а расходы на общество минимальны (поскольку король освободил их от всех податей и налогов). Этот прожорливый и алчный тысячеглавый Голиаф должен был быть низвергнут и побежден (если у народа хватает мужества). Монархию ненавидело большинство французов, как её некогда отвергло большинство населения России. Людовик был столь же глуп, как и Николай II. Не желая стать конституционным монархом, он во что бы то ни стало старался сохранить корону. Его бегство в Варенн, сношения с иностранными правительствами и эмигрантами, интриги и козни убеждали людей, что в лице своего властителя они имеют самого страшного врага. Все чаще с улиц раздавался клич: «На гильотину Капета!» Якобинский клуб потребовал суда над низложенным королем. Один из якобинцев заявил: «Вопрос о суде без конца откладывается в Конвенте… Я требую, чтобы мы самым решительным образом выдвигали на очередь этот вопрос, пока не будет казнена вся семья бывшего короля. Когда эти головы слетят с плеч, всякие беспорядки прекратятся!» Суд над Людовиком XVI не был актом каких-то слепых одиночек, «кровожадных безумцев», но стал общенародным лозунгом (К. Беркова). Если восставший народ найдет когда-либо возможным порыться в сейфах и тайниках низвергнутой власти, он найдет массу убийственных и бесспорных доказательств преступности вчерашних правителей и главы страны… Уже в докладе комиссии 24 (Дюфриш-Валазэ) было продемонстрировано, что король и его окружение («двор») израсходовали 1,5 млн. ливров на подкуп депутатов Законодательного Собрания, на организацию бегства и военные приготовления в лагере Монмеди – более 6 млн. ливров, на контрреволюционную агитацию, на субсидии роялистской прессе и т. д. Тайная переписка Людовика станет впоследствии известна. И вот что говорилось в его секретном послании прусскому королю: «Я обратился к австрийскому императору, русской императрице и королям испанскому и шведскому с предложением составить коалицию первоклассных европейских держав, опирающуюся на вооруженную силу; это будет наилучшим средством, чтобы обуздать здешних бунтовщиков, установить более желательный порядок вещей и помешать снедающему нас злу распространиться на все европейские государства. Надеюсь, что Ваше Величество одобрит мою мысль и сохранит по этому поводу строжайшую тайну». Мы видим: французский король, по сути, открыто призвал к интервенции против собственного народа. Глава страны вероломно нарушил Конституцию, в верности которой он ранее истово клялся. Общественное мнение Франции осудило это. Кто такой Людовик XVI? Первое должностное лицо в государстве. Qualis vita, et mors ita[572] Ну, а если первое лицо страны само нарушает все законы совести, порядка и свободы? Оно должно непременно понести наказание. Первое лицо, если оно виновно, должно первым и идти под суд! Никаких гарантий государственным преступникам высокого ранга! Нечего болтать об «абсолютной неприкосновенности» первых лиц! Оставим эти аргументы продажной прессе, ворам и парламентариям. Иные из них так замазаны в аферах, подкупах, интригах, что видят лишь в парламентской или в президентской неприкосновенности «якорь спасения». В якобинскойФранции уже не было власти выше закона. Поэтому представитель Горы Грегуар имел все основания заявить: «Допустить абсолютную неприкосновенность – значит объявить в законодательном порядке, что вероломство, зверство, жестокость ограждены неприкосновенностью; вот почему можно сказать, что допуская эту фикцию, защитники ее возводили ужасающую безнравственность в элементарный принцип общественного блага… Неприкосновенность короля, как институт политический, могла быть установлена только в видах общественного блага… Но ведь если эта прерогатива распространится на все поступки личности, именуемой королем, то она станет могилой нации, ибо превратится в одно из средств для освящения рабства и несчастий народов! А вы утверждаете, что для общего блага король должен иметь право безнаказанно совершать всевозможные преступления!» Король (этот номинальный глава страны) фактически предал свой народ, осудив его на немыслимые страдания и гибель. В ответ в Конвент идут многочисленные петиции народа, требуя казни короля. 30 декабря в Конвент явились депутаты из 18 парижских секций. Голос главы депутации тружеников дышал гневом: «Законодатели, вы видите вдов и сирот, изувеченных и израненных патриотов, которые пришли к вам требовать мести. Это жертвы, ускользнувшие от смерти, на которую обрек их тиран Людовик. Разве не слышите грозный голос, гремящий с неба: «Кто проливал кровь своих ближних, в свою очередь, да погибнет!» Слезы этих вдов, вопли этих сирот, стоны этих калек, тени сотен и тысяч павших борцов призывают вас моими устами выполнить это веление природы. Вслушайтесь в их голос! Людовик был изменником, клятвопреступником, убийцей, а вы так долго рассуждаете о том, должен ли он понести кару за свои злодеяния! Все человеческие законы требуют смерти убийцы; Людовик был убийцей многих тысяч французов, а вы еще колеблетесь! Он перебил граждан, которых обязан был защищать; следовательно, он должен умереть. Таков приговор, вынесенный общественной моралью и народным правосудием, приговор, которого не могут уничтожить пустые словопрения друзей и защитников народа». Вывод простого народа Франции был единодушен и однозначен: «Пусть предатель падет под мечом закона!»  Обри Бердслей. Награда танцовщице. Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Соломея». 1894 г. Иные правители лишены совести, а порой и грана морали. Аббат Грегуар говорил: «Но разве раскаяние создано для королей? История, которая занесет на свои скрижали преступления Людовика XVI, охарактеризует его одной чертой. В Тюильри были перерезаны тысячи людей, гром пушек возвещал ужасную резню, а здесь, в этой зале, он ел!»[573] (Тираны всегда устраивают банкеты после расстрела народа, испив его крови.) Социалистические настроения окрепли после взятия Тюильри и осуждения короля. Ему предъявили обвинение: «Людовик Капет, именуемый Людовиком XVI, виновный в заговоре против свободы нации и покушении на безопасность государства». 1 января 1793 г. Людовик XVI был казнен, воскликнув перед казнью: «Я не виновен!». Конечно, не все одобряли и одобряют казнь французского монарха. У народов и элит абсолютно разные, и даже полярные взгляды на революцию. Позицию элиты выразил и наш поэт Ю. Кузнецов в стихотворении «Уроке французского»: Кровь голубая на помост хлестала… Их и нынче немало, «плохих учеников Истории», которые не в состоянии усвоить её уроки… Перед народом, желающим избавиться от узурпаторов и несправедливых порядков, неизбежно встает проблема, с которой столкнулись 200 лет тому назад и французские трудящиеся. Где гарантия того, что после замены одной преступной власти ей на смену не придет другая, еще более преступная!? Народ должен всегда быть на страже своих интересов. Бдительность – его оружие. Стоит расслабиться и очередная клика тут же сядет ему на голову! Великие поэты думали иначе… Вспомните строки стихотворения В. Гюго из его сборника «Все струны лиры» (1888), увидевшего свет уже после смерти писателя: Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ, Хотя «дубина народной войны», нельзя этого не признать, порой слепо наносит удары. Но слепая жестокость народа более понятна, чем циничная и обдуманная жестокость правящих элит. Следует все же рассмотреть некоторые варварские деяния революционеров. О чем идет речь? В декабре 1793 г. толпа в ярости разбила надгробие Ришелье, вскрыла гробницу, в клочья растерзав его забальзамированную мумию (случайно от Ришелье сохранились голова, палец и посмертная маска, захороненные Наполеоном III в университетской церкви Сорбонны). Ощутив себя хозяевами положения, массы первым делом решили воздать за грехи прошлым узурпаторам, грабителям, насильникам. Я не считаю, что это были действия «дикого зверя», если только вы не готовы признать еще более диким зверьем самих правителей. Народ пожелал отмстить многовековым обидчикам. Имел право. Но так как многие из них давным-давно мертвы, он поднял и перетряс их кости, символы, памятники, реликвии, гробницы, усыпальницы, наконец, их имена. Эти действия восставшего народа являются излюбленным аргументом для его врагов. Исписаны горы книг на эту животрепещущую тему. Перегибы не отменяют самого факта революции (как действия неизбежного). Нужна смена режима власти и методов социального устройства и хозяйствования! При всей ограниченности простых людей, их доверчивости и долготерпении есть черта, за которой они уже не верят королям и президентам. Века, пусть даже годы издевательств и угнетений привели к тому, что Народ принял решение покончить с ненавистным режимом. Эксцессы – это лишь побочный акт! Поэтому у нас вызывает неприятие негативистская оценка «ученым Гегеля» революции и диктатуры как «абсолютной свободы и ужаса» («Феноменология духа»). Спросим себя (если в сердце есть место для совести и чести): а разве лучше узаконенная правом сильного власть элит, свобода грабежа и беспредела – повседневный, многолетний ужас, на который обрекают народы тысячи и тысячи лет всевозможные правители, короли, президенты, парламентарии, банкиры, торговцы? И не является ли в этом случае бешеный, иногда с кровавой пеной на устах праздник народной свободы достойным и закономерным ответом на их деяния? Поэтому «самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не большее, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды», вовсе не итог «наступления равенства», но как раз наоборот – прямое следствие отсутствия такового. Этот «акт исторического возмездия», можно представить наглядно, прочитав великолепную книгу О. Кабанеса и Л. Насса «Революционный невроз». После победы революции во Франции декретом Конвента предписано разрушение по всей стране остатков королевских памятников, гробниц и т. п. Первым подстрекателем вандализма (или что ближе к истине, акта народного возмездия) стал С. – Денисский городской муниципалитет. Как заявит в Конвенте Барер, достойным ознаменованием падения королевской власти стало бы уничтожение пышных гробниц королей. Вот как обосновали эти действия: «Во времена монархического режима даже и посмертные жилища предназначались для прославления земных владык. Величие и гордость королей не смирялись и после их смерти. Скипетроносцы, принесшие столько зла родине и человечеству, продолжают кичиться своим улетучившимся величием даже в могилах. Властная десница республики должна немилосердно стереть с лица земли их высокопарные эпитафии и снести мавзолеи, являющиеся хранителями останков печальной памяти монархов». То была политическая воля народа, опьяненного победой. Далее действия толпы приняли неуправляемый, хаотичный характер. Оказались разрушены: гробница короля Дагобера, ближайшая к алтарю; раздроблен на куски чудесный мавзолей Генриха II (его останки вывозили на десятке подвод); под киркой и лопатой погибали дивные мраморные статуи, колонны, барельефы; вскрыли гробницы короля Пепина и маршала Тюрена, национального героя Франции. В последнем случае, когда останки полководца укладывали в ящик, один из героев революции отделил от трупа палец (на память). Это был никто иной как народный трибун Камиль Демулен! Не тревожь праха усопших! Возможно, он вспомнит об этом, когда телега повлечет и его самого к гильотине! Останки Тюрена показывали стекавшейся в огромном количестве толпе за деньги. В распродажу пошли даже зубы маршала, вырванные сторожем из челюсти. Повсюду разрушались и королевские статуи… 12 августа 1792 г. пала статуя Генриха IV, а ведь Генрих считался любимцем народа. Вскрыли гроб. Но толпа не пощадила и его труп (какая-то женщина ударила мертвое тело по лицу, ребенок утащил два королевских зуба и оторвал у трупа усы, а некий солдат отрезал от его бороды длинный клок волос – на «счастье» себе и на «страх» врагам). В действиях вандалов, хотя это и нельзя созерцать без отвращения, заметен был не только пароксизм классовой ненависти, но порой и некий рациональный смысл. Страна тогда нуждалась в пушках. Большая часть бронзы памятников пошла на завод Крезо на отливку пушек, вскоре послуживших для отражения иноземного нашествия. Приходится горько сожалеть, что на эти цели вынуждены были пустить даже свинцовые плиты с гробницы великого Леонардо да Винчи, завершившего жизненный путь в замке Клу (1519). Его прах – в общей могиле. Столь же страшные потери понесло прекрасное французское искусство (книги, скульптуры, иконы, предметы быта и обихода). Буквально за бесценок распродали огромное число замечательнейших по редкости, роскошных по исполнению книг. Требник Капетинской часовни, находившийся в Версале, едва не использовали в качестве материала для ружейных патронов (его спасла Национальная библиотека). Пергаменты монастырских архивов, манускрипты, иллюминованные искусной рукой рисовальщиков-миниатюристов средних веков, папские буллы, требники и другие драгоценнейшие книжные редкости «ушли попросту на картузы для пушечных снарядов». Кое-что удалось спасти (увы, немногое). Этого невеждам показалось мало. Вот что сказал епископ Грегуар в докладе Конвенту: «Пока вандейские злодеи разрушали памятники в Партенее, Анжере, Семхоре и Шиноне, Ганрио задумал возобновить подвиги калифа Омара в Александрии. Он предлагал не более и не менее как сжечь Национальную библиотеку, и такое предложение повторилось также и в Марсели». Однако за неимением публичной библиотеки, здесь были вынуждены ограничиться уничтожением дворянских документов, хранившихся в общественных архивах. Акты безжалостного и дикого вандализма потрясают. Их легко списать на толпу, глубоко не анализируя события.  Дерево Свободы (Свобода, Равенство, Братство). Посажено в первую годовщину падения Бастилии. Их сажали повсюду во Франции. Но обратите внимание вот на что: а кто же зачастую оказывался инициатором погрома (кто был его «закоперщиком»)? К уничтожению дворянских архивов призывал, кто бы вы думали? Не поверите. Ученый, философ, автор «Картин прогресса человеческого ума», маркиз Карита де Кондорсе! Некий г-н Амейльон, вполне искренне считавший себя учёнейшим историком, председательствовал при сожжении 652 ящиков исторических документов. Авторы пишут: «С августа 1789 года по всей Франции вспыхнули костры: среди пляски и диких воплей опьяненной черни сжигались тысячи предметов неоцененной стоимости: мраморные столы, камины, зеркала, витрины, цветные стекла, статуи, резные церковные кресла и пр. «Осветители» замков не щадили даже вековые деревья, которые срубались и сжигались тут же. Иконоборцы набрасывались не только на изображения «бывших» ангелов, «бывших» Христов, «бывших» святых, но также и на балдахины, хоругви, подсвечники, светильники, чаши, сосуды, блюда и все украшения обихода, так называемого, «бывшего» католического культа. Рабочих привлекали насильно к «делу», их заставляли бросать свою работу, чтобы идти на разгромы церковных и господских владений. Картины, украшавшие церкви, должны были быть также «удалены с глаз республиканцев, которых возмущал вид апостолов лжи, «сих смехотворных» фигур, напоминающих о веках невежества».[576] Все, что служило прошлым режимам в качестве предметов жречества, ритуала, наслаждения, шло в пламень, переплавлялось, кромсалось, уничтожалось, подвергалось разграблению. Слуги церкви шли на всякие ухищрения во имя спасения драгоценных реликвий. Так, в одном из городков избранный мэром монах надумал для спасения иконы Богоматери «приписать ей водяными красками красный колпак и таким образом превратить ее в весьма презентабельную богиню Разума, чем и спас образ от рук иконоборцев». Неисповедимы пути твои, Господи! Однако давайте вспомним опять же, кто поднял первым руку на Господа Бога. Отнюдь не темные крестьяне какой-нибудь далекой Вандеи, а просветители – Вольтер, Лейбниц, Вольней, Гольбах. Вольтер прямо заявил, что «христианство и разум несовместимы». В одном из его атеистических произведений («Оповещение публики») читаем: «Людей испортили главным образом монахи. Мудрый и глубокомысленный Лейбниц ясно доказал это. Он показал, что десятый век, который называют железным веком, был гораздо менее варварским, чем тринадцатый и следующие, в которых родились эти толпы нищих, давших зарок жить на счет мирян и мучать их… Их монастыри – жилище раскаяния, раздора и ненависти. Наконец, они изобрели инквизицию». Вольтер показывал, к чему приводят религиозные «страсти». Однажды прусский король в Силезии столкнулся с тем, что некое протестантское местечко, завистливо относящееся к католическому селению, попросило у короля разрешения убить всех в этом селении… Король осведомился у них, а как бы они посмотрели на то, если бы католики обратились к нему с аналогичной просьбой расправиться с протестантами. Протестанты убежденно заявили: «О, ваше всемилостивейшее величество! Это совсем другое дело: мы истинная церковь!»[577] Такова психология поведения многих групп населения. Разрушительные действия масс и революционеров не могут быть оправданы. Слава прошлого «в его немых памятниках» имеет право на сохранение и заботу потомков. Мы вполне согласны с авторами, осуждающими «заговор во славу мракобесия»: «В своем стремлении сбросить всякое иго, порвать всякую связь с прошлым к чему было революции накидываться на мертвые камни? Эти руины, которые она нагромоздила за собой, останутся для нее вечным укором, от которого ей будет, может быть, труднее освободиться, чем от всего прочего. Нельзя не согласиться, что истребление произведений литературы и искусства оставило по себе даже более глубокое впечатление, чем все потоки крови, пролитые в гражданской войне. Это чувство было живее и болезненнее не только потому, что камень, глина и полотно были, так сказать, безоружны и неповинны в партийных раздорах, и не потому даже, что было прямо безбожно уничтожать в одну минуту то, что стоило стольких веков труда и усилий. Основа его лежит глубже и заключается в сознании, что все, что носит на себе отпечаток духовной жизни, не может и не должно погибать без того, чтобы человечество не чувствовало себя глубоко задетым и оскорбленным в какой-либо области своей интеллигентно-духовной жизни: религиозно-правовой, ученой или художественной. Эти издевательства над человеческой культурой непростительны и не могут быть ничем оправданы».[578] Однако хочу спросить: «А что прикажете ожидать от народа, который сотни и тысячи лет содержался в условиях более худших, чем скотина?!» Что ему все эти манускрипты и пергаменты, уникальные предметы искусств и раритеты?! Он что, мог их читать и смотреть? Была ли у него тогда такая возможность? Анализ популярной среди народа печатной продукции («голубая библиотека») говорил: любимыми темами и героями простолюдина были феи, волшебники, святые и разбойники. Среди героев книг той поры – Карл Великий, Роланд, Оливье, Гар гантюа, Тиль Уленшпигель, Скарамуш (сохранилось порядка 450 названий). Встречаются в списке произведения и профессионально-воспитательного жанра, дающие некую сумму элементарных знаний (ремесла, арифметика, медицина, астрология и метеорология). В указанных брошюрах народного чтива вы, конечно, не найдете имен великих философов, ученых, писателей эпохи Просвещения. Их место в людском быту прочно заняли катехизис (библия простолюдина), фольклор, песни, танцы. Пласты народной культуры этим не исчерпывались. Заметную роль в ее формировании играли всевозможные суеверия и предрассудки. Скажем, простой народ Франции и Англии долгое время верил, что коронованные особы обладают некой волшебной силой, что они способны исцелять больных и немощных. Во Франции XVII-начала XVIII вв. крестьяне говорили, что Людовик XII ежегодно даровал исцеление примерно 500 подданным, а Людовик XIII, якобы, мог запросто избавлять от «королевской болезни» (скрофулез) до 3 тысяч за раз. Таков уровень народа. О степени дремучести крестьянского сознания говорит и такой факт. Неподалеку от Лиона среди крестьян ещё в XIII в. бытовало суеверие, что если принести на могилу св. Гинефора больного младенца, тот обязательно выздоровеет. Доминиканец Этьен де Бурбон выяснил (1260 г.), что святой – это борзая собака, по ошибке убитая хозяином – владельцем замка. Церковь тогда же запретила это нечестивое поклонение. Однако и шесть веков спустя, в 1879 г., некий лионский любитель старины обнаружил, что крестьяне этой местности продолжали поклоняться святому Гинефору, зная, что это – борзая. «Миновали средневековье, Реформация, Просвещение, Революция, дехристианизация, наступил век пара и железных дорог, – отмечает в этой связи историк, – а какие-то существенные черты общественного сознания крестьянина, делавшие возможным столь противоестественное сочетание, как собака и святой, оставались, по-видимому, неизменными… Ритмы изменения «высокой», интеллектуальной культуры и культуры народной, фольклорной совершенно различны».[579] Наряду с экономическими проблемами, в годы революции во Франции остро встал вопрос о роли и месте религии и церкви в обществе и государстве. Сугубо богословские и теологические проблемы, конечно, оставим тут в покое. Мы не желаем выставлять их в виде той «черной кошки», которую враги революции запирали в дарохранительницы священников, перешедших на сторону народа (дабы представить их у народа Вандеи в облике дьяволов). Вера – верой, а материя – материей. Можно ли сказать со всей уверенностью, что абсолютно все шаги, предпринятые революционерами против церковников и их имущества, неверны? Обратимся к «Письму доброго друга» аббата Каволо (кантон Марей), в котором приведены основания, говорящие в пользу радикальных перемен и в смаой церковно-религиозной епархии. Жорес справедливо называл оное «Декларацией прав человека для самого христианства». Почтенный и честный кюре открыто бросал в адрес высшего духовенства ряд серьезных упреков. Первое, что оно сделало: разразилось страшными воплями не по поводу забвения народом веры, но лишь по поводу отмены их имущественных привилегий. Бедные приходские священники встали на сторону нации, выразив согласие с ликвидацией привилегий высших церковных сановников. Когда же республика отменила десятину, епископы и вовсе стали призывать на головы «нечестивцев» громы небесные. Кюре пишет: «Когда же Национальное собрание осмелилось передать церковные имущества в распоряжение нации, тогда все увидели, с какой яростью призывало духовенство силы небесные защитить его владения, которые у него отбирали. Тогда все увидели, с каким бесстыдством дело божие смешивают с делом Маммоны и кричат о гибели религии потому, что не будет больше епархий, приносящих 100 тыс. ливров ренты». Так что и среди священников было немало тех, кто поддержал великую революцию, ибо видел в ней надежду на воцарение царства Божия.[580]  Французская слава в зените. Архитектурное украшение свободы. Английская карикатура. Что же касается упреков, направленных в адрес революционеров в связи с их политикой в отношении официальной церкви и религии, то и тут не все так однозначно. Известно, что Робеспьер был против ниспровержения религиозных основ, придавая немалое значение празднику Верховного Существа. По сути дела, это ничто иное как прославление Христа, унаследовавшего идеалы Просвещения и Революции! Откроем классический труд А. Олара «Культ Разума и культ Верховного существа во время Французской Революции». Историк, главный редактор журнала «La Revolution Francaise» (с 1887 г.), рисует картину антирелигиозной кампании, проводившейся во Франции. Первое, на что он обращает внимание, так это на факт, что мысль об уничтожении католицизма и замены его иной «верой» возникла уже в поздний и самый критический период революции. Страна боролась на два фронта – против восставшей Вандеи и враждебной Европы. Священники же мешали призыву в армию солдат, которые должны были защищать родину (призыв в марте-мае 1793 г. должен был поставить под ружье 300 тысяч человек). 22 июля 1793 г. департамент Соны и Луары потребовал разрешить перелить в пушки колокола, бесполезные для культа. В то же время было решено оставить по одному колоколу в приходе. Нельзя не учитывать и то, что отношение народа к религии изменилось не в лучшую сторону (вспомним участие церковников в поддержке губительного курса, их алчность, участие в разного рода «черных мессах» и преступлениях). Олар справедливо заметил: «Короли не раз давали пример ограбления церквей: теперь обирали храмы, чтобы спасти отечество». Факт, который никем не был опровергнут. С другой стороны, некоторые из мер, принятых радикалами революции, конечно же, не способствовали привлечению народа на сторону революции. Народ в своей массе консервативен. Его нельзя силой «отрешать от веры отцов». Это и бесполезно, и неразумно, и дико. 19 сентября 1793 г. Конвент декретирует составить сборник героических подвигов патриотов Франции и заменить ими жития святых. Сборник распечатали тиражом в 150 тысяч экземпляров и разослали по школам, муниципалитетам, армиям, народным клубам. Шометт и Фуше открыли бюст Брута на празднике антирелигиозного характера (22 сентября 1793 года). Жители Риз-Оранжис, что на берегу Сены, считавшие своим патроном святого Блэза, низложили его и поставили на это место Брута, назвав его именем коммуну. Кюре же отпустили с миром. Члены Коммуны воздвигли рядом с Собором Парижской Богоматери храм Философии (1793). У входа – бюсты Вольтера, Руссо, Монтескье, Франклина. Собор стал Храмом Разума. По приказу Коммуны печатаются и распространяются стихи со словами: Французы, Разум вас просвещает; Психолог С. Московичи писал: всякое общество стремится создать некую религию, подкрепляемую теми или иными символами. Люди сами творят себе богов. Хотя это выглядит шокирующе и даже кощунственно. Далее он пишет в книге «Машина, творящая богов»: «Ничто не появлялось в ходе нашей истории такого, что не создавало бы священных предметов и не стремилось бы во что бы то ни стало их навязать. Несмотря на свои предубеждения и враждебность к культам, Французская революция должна была установить культ Высшего существа и богини Разума. Люди, проникшиеся философией Просветителей, разбивали алтари, изобретали символы и устраивали праздники в честь этих новых божеств. Досадно, что естественный отбор действует в отношении богов так же, как и вотношении смертных. И они, эти боги, практически не пережили тех событий, которые им дали жизнь». Что произошло потом? Разве крушение якобинского режима привело к восстановлению истинной веры? Нет. Случилось так, что «сегодня мы стали менее религиозными». И это потому, что «современная наука и цивилизация изолировали нас, сделали одинокими и индивидуалистичными». Итог побед западной цивилизации вполне очевиден – «мы стали неверующими».[582] Почему стала возможной победа термидорианской реакции? В основе ее немало причин экономического, политического, духовно-психологического порядка (недовольство торговцев, средних слоев, обывателей). Усталость и страх от постоянной угрозы Террора испытывали многие. Важным фактором поражения революции стала половинчатость реформ. Жирондисты обманывали народ, а вожди оппозиции не сумели организовать массы. Об этом писал французский историк Матьез в «Термидорианской реакции». Депутаты парламента не желали брать на себя ответственность в серьезных вопросах, «играя в легальность», когда нужно было принимать крайние меры. Народ проявил себя, как это часто бывает, мужественнее и решительнее. Где были эти «герои», трусливо прятавшиеся за стенами парламента, когда голодные ремесленники бросились навстречу полиции и армии порядка?! Неужто жертвовать собой?! Какой там!!! Господа парламентарии принадлежали к «белой кости», к совершенно другому классу, чем простонародье. Эти сытые господа рады-радешеньки представлять народ в законодательных собраниях и выступать от его имени. Для них простой народ всего лишь отвлеченная величина, служащая источником будущей власти. От людей труда их отделяло воспитание, состояние, семейные традиции. Конечно, во всех революциях и социальных движениях во главе, как правило, оказываются более просвещенные люди. Но ведь и совесть надо иметь, господа парламентарии! Не всё же облизывать денежных баронов и спекулянтов! Болтаете о своей верности народу. Так хотя бы не продавайте его столь нагло и цинично. Сколь часто мы видим, как трусость и барство лидеров отражается негативно на священной борьбе народа. «В этом заключалась глубокая причина того, – сделал вывод Матьез, – что депутаты-монтаньяры не были настоящими вождями, главарями в полном смысле этого слова, …вождями с инициативой, которые не думают об уклонении от ответственности, главарями, которые приказывают и заставляют повиноваться себе. Народ не имел еще представителей из своей собственной среды. Монтаньяры защищали его по доверенности. Должно было пройти около ста лет до тех пор, пока этот народ стал сам вести свои дела, пока он научился читать». История Франции наглядно показывает, какие личины могут надеть на себя мнимые «защитники и друзья народа». Как охотно предают они труженика, на плечах которого въезжают затем в парламенты или в правительства. Двести лет тому назад рабочий люд (чернь) и праздный класс (собственники) составили во Франции два непримиримых лагеря. Этот пример, разумеется, не единственный в новейшей истории.[583] Считаю своим долгом выступить защитником дела энциклопедистов и их продолжателей, великих французских революционеров. Целых два столетия полчища филистеров, обывателей, неучей и нечистых на руку дельцов обрушивают потоки желчи и ненависти на Руссо, Робеспьера, Сен-Жюста. За что?! За то, что посмели объявить крупную собственность причиной многих социальных бед и несчастий («От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли для всех, а сама она – ничья!»). Но ведь и сам Руссо никогда и никоим образом не отрицал права собственности, напротив: считал ее истинным основанием гражданского общества, важнейшим условием выполнения всех обязательств граждан и государства. Собственники всех времен и народов должны усвоить нечто очень важное, жизнеполагающее для них и для народа: собственность – это не только право, но и величайшее в мире обязательство. Владеющий ею обязан распоряжаться собственностью умно, честно и толково. Иначе он должен быть лишен её в законном и общепризнанном народом порядке. Должны быть установлены пределы собственности, используемой в личных, корыстных целях. Руссо верно ориентировал будущее общество на мелкую и среднюю частную собственность.[584]  Антуан Сен-Жюст. Якобинцы произвели на свет «Декларацию прав человека и гражданина» 1793 года. В ней говорилось об «общем счастье». Они решительно высказались против сосредоточения чрезмерной собственности и богатств в руках ничтожного меньшинства народа. Однако искус неправедных богатств, отнятых в ходе революции у дворян и церкви, оказался силен. И это несмотря на горячий призыв Робеспьера: «Я вовсе не отнимаю у богатых людей честной прибыли или законной собственности, я только лишаю их права наносить вред собственности других. Я уничтожаю не торговлю, а разбой монополистов; я осуждаю их лишь за то, что они не дают возможности жить своим ближним». Мудрая и справедливая позиция. Однако её не могли принять «новые богачи», которые пришли в итоге переворота к власти и хотели в полной мере воспользоваться переделом богатств страны. Слова «нация», «суверенитет нации» заменили на слова «демократия», «народ» и «суверенитет народа» – вот и всё! Пустые, ничего не значащие слова. После контрреволюционного переворота буржуа-термидорианцы с наслаждением отдались спекуляциям и коррупции. Налоги на богатых и законы о максимуме были отменены. Из конституции исключили революционные положения Декларации якобинцев (из нее изъяли права народа на восстание, свободу собраний, печати). Простому люду бесцеремонно указали место прислуги – в «прихожей республики». Что представляли собой люди, свергшие Робеспьера? Обогатившись в ходе приватизации, они нарушили принципы демократии. Satis verborum (лат. «Слов было сказано предостаточно»). Они не способны были поддержать элементарный порядок в стране, но в произволе и воровстве им не было равных. Начались посягательства на свободу граждан. Противников и оппонентов заключали в тюрьмы. Никогда нищета масс не была еще столь ужасающей. Власть отнимала у них детей на войну, взгромоздила на них заботы церкви, а ее административные и финансовые канцелярии «превращались в купеческие и банкирские конторы». Критика Термидора шла не только слева, но и справа. Французский писатель-эмигрант, граф Жозеф де Местр (1802–1817), которого революция выгнала из Франции в 1792 г., в работе «Рассуждения о Франции» (1797) упрекал тех, кто обогатился в ходе французской приватизации. (Тогда писали ясно и открыто, а не темнили, как темнят и изворачиваются плутократы России.) Местр прямо говорит «новым французам»: ваши расчеты «не остановят контрреволюцию» (читайте, революцию). Ваши злоупотребления во Франции за известный всем анархический период столь велики, что «сделают контрреволюцию неминуемой, а приход ее внезапным» (речь шла скорее о возмездии народа): «Между тем известно, при каких условиях совершались приобретения; известно, какими бесчестными махинациями, какими скандальными agio (повышение курсов ценных бумаг по отношению к номиналу, – В. М.) они сопровождались. Изначальная и продолжающаяся порочность… приобретательства впечатлила всех; таким образом, французское правительство не может не знать, что если оно будет душить налогами этих стяжателей, то общественное мнение окажется на его стороне, а действия правительства сочтут несправедливыми только сами приобретатели; впрочем, при народном правлении, даже законном, стыд глаза не ест из-за несправедливости; можно только прикинуть, каковой она будет во Франции, где правительство, переменчивое, как и сами люди, и лишенное лица, никогда не отказывалось вернуться к своим деяниям, дабы переделать то, что уже было сделано. Значит, покусится оно и на имущество, при первой же возможности. Опираясь на общественное мнение и (о чем не следует забывать) на зависть всех тех, кто не обладает и толикой национального имущества, правительство станет терзать его обладателей или новыми распродажами, по неким образом измененным правилам, или общим судебным пересмотром сделок с повышением их цены, или чрезвычайными налогами; одним словом, обладатели (имущества) никогда не будут в покое».[585] Упреки народа «в революционности» (со стороны средств информации) являются ничем иным как подлостью «интеллектуалов», щедро оплаченной денежными тузами. Нобелевский лауреат А. Камю осуждает восстание народа («Свобода – это страшное слово, начертанное на колеснице бурь»). Народ отнюдь не жаждет революций, разрушений и мести. Его к тому вынуждают. Кстати, именно народ после победы революции опрокинул в Версале эшафот и разрушил орудие колесования, видя в эшафоте «алтарь религии и несправедливости». Что несуразного в том, если он решил назвать короля Людовика XVI – Последним?! Все правильно! Час королей, царей, президентов давно пробил. Зачем вытаскивать на арену смердящие трупы?! То, что Камю говорит о десакрализации и развоплощении христианства, верно лишь отчасти. Истина конкретна. Революция и есть приближение царства Христа в его зримой, материальной форме. Пора всем понять, что в Англии, Франции, России рубили (и будут рубить) головы не столько королю («человеку слабому и доброму»), а монархизму и деспотии. Скажу еще более определенно: всем тем, кто на земле каждодневно и вполне зримо осуществляет одну сплошную многовековую казнь людей труда! Поэтому даже архиепископ К. Фоше заметил в дни Французской революции: «День откровения наступил. Восстали кости, услышав глас французской свободы; они свидетельствуют против столетнего угнетения и смерти, пророчествуя о возрождении человеческой природы и жизни народов».[586] Нам ближе всех нобелевских, да и прочих лауреатов, мнение великого французского историка Жюля Мишле (1798–1874). Автор замечательных произведений, сын типографа, сочетавший философию с историей (они «дополняют друг друга»), создал книгу «Народ» (1845). Ни одну из книг не писал он с такой страстью. Он ответил там клеветникам Французской революции, пожелавшим взвалить всю вину на народ. Вопреки бытующей вздорной версии, как мы видели, вожаки эпохи Террора вовсе не были людьми из народа. Это были преимущественно буржуа и дворяне, люди утонченные, образованные, схоласты и софисты. А разве не такой же вывод делаем мы в отношении вожаков другой революции – Октябрьской, в России 1917 года?! Это не только не люди «из народа», но, заметим вдобавок и подчеркнем особо, – еще и не люди из среды Русского народа (во всяком случае, не они стояли во главе!). Наполеон, осмысливая в изгнании причины французской революции, писал: «Французская революция произошла не от столкновения двух династий, споривших о престоле; она была общим движением массы… Она уничтожила все остатки времен феодализма и создала новую Францию, в которой повсюду было одинаковое судебное устройство, одинаковый административный порядок, одинаковые гражданские законы, одинаковые законы уголовные, одинаковая система налогов… В новой Франции двадцать пять миллионов людей составляли один класс, управляемый одним законом, одним учреждением, одним порядком».[587] Это было замечательное время (несмотря на кровь и казни). Великие свершения имеют место не только в политике, но в науке и образовании. Лавуазье и Кавендиш творят новую химию. Братья Монгольфье открыли эру воздухоплавания. В 1797 г. в небе над Парижем совершен первый прыжок с парашютом.??рат ставил опыты по электричеству. Бытуют и заблуждения. Тот же Марат причислял физика Вольта и знаменитого химика Лавуазье к шарлатанам. Он считал, что академии не нужны, ибо они – нарост на теле державы. Настоящий научный работник, якобы, не нуждается в чинах, званиях и больших гонорарах. Скромный лавровый венец или почетная лента в состоянии более поощрить его труд, нежели все золото мира. В любой схватке социальных сил неизбежно присутствуют политика с философией (и отражающие их интересы ученые). Между ними всегда существует связь. Как скажет Бриссо: «Самый крепкий монумент нашей революции – это философия». Зарождение «коммунистических теорий» (Морелли, Мабли, Бабефа, Буонарроти) было логичным следствием обострения борьбы «плебеев» и «патрициев» (бедняков и богачей). Уроки тех лет поучительны. для. Ведь, нашим современникам также не мешает усвоить: если массы лишены элементарных средств к существованию, переворот становится неизбежным! Это подтверждает, в частности, история бабувистов («заговора равных»), заслуживающая обстоятельного анализа. Уже безнаказанно торжествовала алчность спекулянтов и финансистов. Отменен закон о максимуме. На местах царят жуткое воровство, развал, коррупция. Во времена Робеспьера их быстро бы отправили на плаху. Если статистика 1789 г. противопоставляла положение привилегированных 100–300 тысяч «всему народу», то в 1794/1795 гг. в массах уже поговаривают о необходимости истребить миллион купцов, которые доводят до голода «25 миллионов людей». Знаменательный поворот в настроениях. Читатель обязан войти в положение трудящихся. Масса лишены куска хлеба. Рабочие угрожающе ропщут. Женщины кричат, что убьют себя и детей, ибо их нечем кормить. Возникают огромные «хвосты» (les queues) у булочных, становящиеся центрами ненависти и протеста. В 1795 г. голод охватил не только Париж, но и провинцию. Голодные толпы собираются для похода на реакционный Конвент. Еще большую угрозу для «термидорианцев» представляла голодная армия. А ведь известно, 1794 г. во Франции выдался урожайным. Народ убежден, что голод в стране вызван действиями спекулянтов и купцов, осуществляющих совместно с правительством тайные махинации. Он недалек от истины. Поэтому охотно слушает радикальных агитаторов. Вооруженный люд стал разгонять патрули и полицию. «Гроза собирается на «купцов», на «лавки», на «богатых», на спекулянтов», – писал Е. В. Тарле. О четком противоборстве интересов народа и буржуазии говорили уже открыто (Левассер записывает: «с одной стороны – народ, с другой – буржуазия»). История жестко требовала – покончить с термидорианцами во Франции. Оценку эпохе, наступавшей после поражения революции во Франции (низвержения якобинцев) дал английский историк Т. Карлейль: «Стало быть, тебе, труженик, твоя борьба и отвага в продолжение этих долгих шести лет восстаний и бедствий не принесли никакой пользы? Ты по-прежнему ешь свою селедку и запиваешь водой в благословенный золотисто-багряный вечер». Большинство русских читателей наверняка повторило бы это фразу, обратив её к «либеральным героям» последних десятилетий. А далее Карлейль пишет: «В сущности, какое положение могло бы быть естественнее этого и даже неизбежнее, как не переходное после санкюлотства? Беспорядочное разрушение Республики бедности, окончившейся царством террора, улеглось в такую форму, в какую только могло улечься. Евангелие Жан-Жака и большинство других учений потеряли доверие людей, и что же еще оставалось им, как не вернуться к старому евангелию Мамоны? Общественный договор не то правда, не то нет; «братство есть братство или смерть», а на деньги всегда можно купить стоящее денег; в хаосе человеческих сомнений одно осталось несомненным – это то, что удовольствие приятно. Аристократия феодальных грамот рухнула с треском, и теперь в силу естественного хода вещей мы пришли к аристократии денежного мешка. Это путь, которым идут в этот час все европейские общества. Значит, это более низкий сорт аристократии? Бесконечно более низкий, самый низкий из всех известных. В ней, однако, есть то преимущество, что, подобно самой анархии, она не может продолжаться… А какое великодушное сердце может притворяться или обманываться, будто оно верит, что приверженность к денежному мешку – чувство благородное? Мамона, кричит великодушное сердце во все века и во всех странах, самый презренный из известных богов и даже из известных демонов. Какое в нем достоинство, перед которым можно было бы преклониться? Никакого. Он не внушает даже страха, а, самое большее, внушает омерзение, соединенное с презрением!.. Приведи его в порядок, построй из него конституцию, просей через баллотировочные ящики, если хочешь, – оно есть и останется безрассудством – новая добыча новых шарлатанов и нечистых рук, и конец его будет едва ли лучше начала. Кто может получить что-нибудь разумное от неразумных людей? Никто. Для Франции наступили пустота и всеобщее упразднение, и что может прибавить к этому анархия? Пусть будет порядок, хотя бы под солдатскими саблями, пусть будет мир, чтобы благость неба не пропала даром; чтобы та доля мудрости, которую она посылает нам, принесла нам плоды в урочный час! Остается посмотреть, как усмирители санкюлотизма были сами усмирены и священное право восстания было взорвано ружейным порохом, чем и кончается эта странная, полная событий история, называемая Французской революцией».[588] Просто потрясающе, как История, эта «старая лентяйка», идет почти одними и теми же путями, как она повторяет (или готова повторить!) один и тот же сценарий (сначала во Франции, а спустя двести лет и в России!). И еще в одном был прав Карлейль. Он говорил, что «мысль сильнее артиллерийских парков» и был твердо убежден, что власть мамоны, которая анархична и глупа по своей сути, «не может долго продолжаться». Ей нужна дисциплинирующая, волевая, железная рука мыслителя и творца. Возле каждого денежного туза, говоря образно, должен стоять капрал (хотя б из налоговой полиции). Итогом революции не всегда была свобода и обязательное благо народов. Однако без «восстания масс» у них нет ни малейшего шанса прекратить действие страшного маховика эксплуатации и насилия. Молчаливые и робкие всегда останутся рабами. Для них просто не будет места в мире хищников, если они с помощью оружия (или законов) не загонят тех в клетку. О. Бланки, «благородный мученик революционного коммунизма», во многом прав, говоря, что «каждая революция – это прогресс»… Вспыхнуло восстание 12 жерминаля. Контрреволюционная буржуазия действует хитро и коварно. Вначале делает вид, что в столице, якобы, ничего не происходит, не предпринимает даже попыток остановить массу народа, не усиливает охраны правительственных зданий. Все её действия говорят об умышленной тактике, цель которой – завлечь массы в расставленную западню. Напрасно патриоты предупреждают: некоторые члены Совета безопасности стали орудиями иностранной интриги. Буржуазия беспощадна и цинична. Она не остановится перед морем крови, чтобы спровоцировать народ на преждевременное выступление. Как писал Тарле, она лезла из кожи вон, дабы «дать монтаньярам время и возможность скомпрометировать и погубить себя». К сожалению, у народа не нашлось умных, решительных и дальновидных лидеров, способных переиграть коварного противника. Мы видели, что на первом этапе революции важную роль в борьбе народных масс против тирании сыграла прогрессивная печать. Однако среди журналистов было немало и тех, кто нес на себе клеймо древнейшей профессии. Если бы патриоты вовремя нейтрализовали этих подлецов («раздавили гадину»), они облегчили бы путь свободе народа. «Видишь этих мошенников? – спрашивал Дюкенуа одного санкюлота, показывая на ложи журналистов. – «Они все подняли оружие против народа, и они никогда не вернутся в свое логовище». Ницше говорил о плетке, якобы, необходимой мужчине для его бесед с женщиной. Эту аллегорию я бы скорее употребил в отношении продажной прессы. Восстание 1 прериаля не удалось потому, что не были отслежены главари термидорианцев, не захвачены важнейшие комитеты… «Луве подтверждает, что если бы инсургенты во-время захватили комитеты общественного спасения и общественной безопасности, то все было бы кончено и центр правительственного сопротивления был бы уничтожен». Якобинец Брут Манье в 1795 г. открыто сожалел, что «восставшие не догадались арестовать членов правительственных комитетов, равно как главарей термидорианцев в Конвенте» – Фрерона, Тальена, Лежандра, Барраса, Ровера, Дюмона, Тибодо, Оги, Бурсо, Шенье, Дюбуа-Крансэ, Сиейса, обоих Мерленов и всех убийц Робеспьера. Им нужно было бы захватить кучку лидеров в одну ночь (или как-то нейтрализовать всех их вместе). В итоге же, за этим просчетом последовало поражение – и народ вплоть до июльской революции 1830 года, «казалось, подал в отставку». В итоге же, «третий класс» (крупная буржуазия) победил «низшие слои» населения (бедноту). После этого всем уже стало ясно: путь диктатору (во Франции) был открыт.[589] Каковы же итоги этой победоносной для буржуазии эпохи? Они противоречивы. Утопист Ж. Мелье (1664–1729) упрекал общество: «Никто не догадывается взяться за… просветительскую работу среди народа, вернее, не решается на это, а если кто решился, то его книги и писания не получают широкой гласности, их никто не видит, их умышленно устраняют и скрывают от народа для того, чтобы они не открыли ему, как его обманывают и держат в заблуждении».[590] Изменилось ли что-либо в этом вопросе после 1793 года? Безусловно, хотя перемены и не сразу бросались в глаза. Если основная победа эпохи Просвещения состояла в осознании наличия чудовищной пропасти, разделявшей культурный, властный слой и невежественные массы, а энциклопедисты тревожным звоном колокола сзывали передовую часть общества к «просветительской мессе», то в результате революционных бурь 1789–1795 гг. стали пробуждаться к деятельности и трудящиеся массы. Причем порой дети революции, «взыскующие града», находили истоки своей веры в прошлом. Французские патриоты повторяли имя Катона; Бабеф стал Гракхом (то есть, выбрал себе имя легендарного героя прошлого). Любой сапожник во Франции готов был называть себя не иначе как Сцеволой.  Гракх Бабёф. Основатель движения «равных», Гракх Бабеф (1760–1797) писал в сочинении «Постоянный кадастр» о том, что образование стало «своего рода собственностью, на которую каждый вправе претендовать». Он убежден, что «в человеческом обществе или совсем не нужно образования, или все люди должны получать равное образование». Пока дела будут обстоять иначе, образованные хитрецы будут надувать менее ловких и неграмотных. Просвещение необходимо, дабы «дать народу возможность защищать права, еще оставшиеся у него от незаконных притязаний просвещенных интриганов…»[591] Тем паче, что сами учителя недалеко ушли от обучаемых. Бабеф говорил: «Нет ничего более обычного, чем учитель, не умеющий читать». Он предлагал принять необходимые законодательные меры, говоря: «В самом деле, для нации было бы величайшим благом, если бы был издан закон, предписывающий вместо примитивных учреждений, созданных повсюду для бедного народа, вместо всех учителей приходских школ, способных прививать своим ученикам лишь варварские представления, поставить учителей, способных по меньшей мере обучать чтению и нравственным правилам. Следовало бы требовать от них совершенного знания правил языка и обязать их преподавать только в соответствии с этими правилами, разумеется, при условии повышения оплаты каждого из этих учителей соответственно тем дополнительным знания, которые им придется приобрести». Бабеф был прав. У народа, который желают поработить всерьез и надолго, в первую очередь отнимают образование! В проекте декрета говорилось о труде ученых и преподавателей. От лиц, занимающихся наукой, педагогическим трудом, требуется подтверждение гражданской честности и порядочности. Лишь в этом случае их труд признается полезным. Суть образовательной доктрины «бабувистов» такова: «Согласно взглядам Повстанческого комитета воспитание должно быть национальным, общественным, равным».[592] Однако с другой стороны, ведь мечты миллионов рядовых французов так и остались мечтами. Чем завершилась революция, если называть вещи своими именами? Одна группа правящей элиты отняла деньги, власть и собственность у другой. Вот и всё. Широкие слои народа по-прежнему остались нищими. Её политические итоги можно подвести одной фразой Робеспьера: «Республика погибла! Настало царство разбойников!» В 1791 г., когда в стране завершилось формирование конституционных институтов, из 24 млн. человек населения Франции только около 4,3 млн. человек обрели права активных граждан и около 40 тыс. могло быть избрано. Наверху достигли хрупкого согласия между старой и новой властью (дворянством и крупной буржуазией). Выборы во власть отныне становились чисто денежным вопросом: у кого больше доход и состояние, тот и получал теплое место наверху. Широкий разброс мнений в Европе и мире возник в связи и по поводу Французской революции. Большинство тех, кого принято называть «передовыми мыслителями» в Европе и мире, в основном, приняли революцию во Франции как неизбежный и справедливый акт возмездия. Пейн, Стэнхоуп, Фокс считали её делом всей французской нации. Английский историк Маколей писал, что 24 миллиона человек во Франции избавились «от всего, что унижало здравый рассудок и причиняло страдания». Проповедник Прайс называл «славными» французскую и американскую революции. Пристли был убеждён, что прежняя система правления «стала крайне ненавистной для страны в целом» и отмечал всеобщее и искренее участие в ней народа. Позитивное отношение к революции продемонстрировал и Карлейль. Он никоим образом не считал ее «безумным событием». Напротив: видел в ней величайший и героический акт народа, хотя и отмечал, что событие это выглядит апокалипсично: «В самом деле, без Французской революции мы вряд ли знали, что вообще надлежало делать с таким временем, как наше… Это настоящий, хотя и ужасный, апокалипсис (откровение) для этого изолгавшегося, поблекшего, искусственного времени… Всяким правдоподобностям настал конец, пустой рутине настал конец; многому настал конец. И вот все это было возвещено людям во всеуслышание, подобно трубному звуку в день Страшного суда. Изучите же по возможности скорее этот апокалипсис, и вы станете мудрейшими людьми. Пройдут многочисленные поколения с омраченным сознанием, прежде чем он будет понят надлежащим образом, однако мирная жизнь невозможна, пока это не свершится!»[593] Далеко не все стояли на позициях поддержки Французской революции. Одним из самых известных её противников был английский публицист и философ Эдмунд Бёрк (1729–1797). Этот сын дублинского адвоката, ирландец и лидер вигов, с неожиданной страстью обрушился на французов. Самым популярным произведением считается работа «Размышления о революции во Франции», где он выдвинул в адрес революции ряд упрёков. Так, отмечая великие успехи Франции во всех областях знаний, промышленности, культуры, он задался вопросом, а столь ли были уж велики пороки старого общества, «чтобы дать право сразу же сравнять с землёй это огромное здание» (1793). Упреки его несправедливы. Во Франции ни о каком «сравнении с землёю» ценностей цивилизации не шло речи. Наоборот. Революция освободила дорогу новым социально-промышленным силам, одновременно убрав с арены тех, кто не смог или не захотел вписаться в новые реалии. Вместе с тем, Э. Бёрку не откажешь в наблюдательности. Он понял, что революцию творит, в основном, активное меньшинство. Всё население в результате революции делится на угнетателей и угнетённых. «Первые распоряжаются всей государственной властью, всеми вооруженными силами, всем бюджетом страны, всей конфискованной у отдельных лиц и корпораций собственностью. Они отрывают люд низкого звания (the lower sort) от повседневных занятий и берут к себе на жалование, формируя из них корпус янычар, дабы держать в страхе тех, у кого есть собственность…» Надо признать обоснованность этих замечаний. Хотя Э. Бёрк и совершенно не касается столь «простого вопроса» как: «Была ли у других хоть малая частица колоссальной собственности, которая имелась у правящего класса и элиты?» Наконец, почему бы Бёрку не спросить и себя: «А разве ранее в аристократической Франции всем не заправляла еще более узкая корпорация угнетателей?!» Как бы там ни было, а Бёрк во многом способствовал изменению отношения английского правительства к мятежным событиям во Франции.[594] Революция завершилась воцарением плутократии. Разумеется, это был далеко не лучший финал. Не станем и мы безоглядно восторгаться Французской революцией. Оснований для критики в её адрес более чем достаточно. Президент США Дж. Адамс упрекал французов в непоследовательности, в зависимости от императора-диктатора (Наполеона) и церкви (1811): «Французские философы были слишком опрометчивы и торопливы. Они были столь же хитры, как и себялюбивы, и такие же лицемеры, как священники и политики Вавилона, Персии, Египта, Индии, Греции, Рима, Турции, Германии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Италии или Англии. Они не понимали того, что собирались делать. Они ошиблись в своих силах и возможностях: и в результате были разгромлены со всеми своими теориями. Боюсь, что поспешность и опрометчивость философов задержали прогресс человечества по крайней мере на сто лет… Они вынуждены были искать прибежище у Наполеона, а Гиббон сам стал защитником инквизиции. Какие милые и славные Равенство, Братство и Свободу они установили теперь в Европе!»[595] Возможны разные взгляды на это событие, различно и понимание терминов «революция», «интересы народа», «демократия». Многое, если не все, объясняется классовой, политической позицией. Классики буржуазной психологии и социологии Г. Тард и Г. Ле Бон конца XIX–XX вв. убеждены, что «народные классы, революция представляют собой опасность, которой демократия во Франции не может противостоять».[596] Мы же уверены в обратном: без революций нет и истинной демократии! 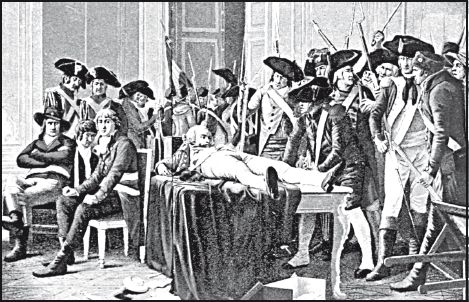 Термидорианская реакция во Франции. Серьезным и глубоким умам надо попытаться лучше понять логику событий, проникнув взором в суть этого акта… Равенство и братство явились на волнах народного гнева, а свобода подкреплена штыками и гильотиной. Не лучший путь? Согласен. Но избежать этого трудно. Не бывает революций «в лайковых перчатках». Уж слишком полярны и взимоисключающи интересы сторон. А если власть имущие, владельцы огромных состояний не желают пойти на компромисс, на уступки народу, что ж, его праведный гнев рано или поздно настигает их. И здесь вина полностью ложится на правящие слои и на богачей! Роялист граф Жозеф де Местр (1754–1821) заявит в своей изданной «подпольно» книге «Рассуждения о Франции» следующее: «Каждая капля крови Людовика XVI обойдется Франции потоками крови. Четыре миллиона Французов, быть может, заплатят своей головой за великое народное преступление – за противорелигиозный и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством» (1797). Написанная после казни Робеспьера и начала термидорианской реакции эта книга откровенна, интересна и поучительна. В схожей ситуации оказалась и Россия, вынужденная заплатить за революцию миллионами жизней её граждан. Де Местр не оставляет камня на камне от демократии, воцарившейся в буржуазной Франции. Система власти там напрочь исключала отправление суверенитета народом. Демократы и республиканцы после ухода Робеспьера приняли законодательство, «лучше расчитанное на истребление прав народа». Он вынужден согласиться даже с якобинцем Бабефом: «Следовательно, был вполне справедлив тот презренный якобинский заговорщик, который откровенно отвечал во время судебного допроса: «Я думаю, что нынешнее правительство является узурпатором власти, нарушителем всех прав народа, который оно ввергло в самое прискорбное рабство. Этот ужасный порядок счастья для немногих, опирающегося на угнетение множеств. Это аристократическое правление так заткнуло народу рот, так опутало его цепями, что разорвать их ему становится труднее, чем когда бы то ни было» (допрос Гракха Бабефа в июне 1796 г.). Что толку в провозглашении конституции, в фиктивном праве избирать представителей, которые неизбежно оказываются далеки от простого народа и его нужд. Самое важное и решающее в нынешней ситуации то, что и при новой власти «народ остается совершенно отстраненным от правления; что он является более зависимым, чем при монархии, и что слова великая республика исключают друг друга, как слова квадратный круг».[597] Фарисейство буржуазных оракулов безмерно. Сколько яду вылито «цивилизаторами» на могилу Робеспьера, Марата, Эбера, иных известных якобинцев за «грехи террора» (несколько тысяч казненных)! Наполеон уложит в могилу целый миллион – и хоть бы что (в его честь слагаются песни, прах диктатора перенесен в Пантеон). Те, кто относят себя к честным людям, должны были бы сказать, что справедливым актом всемирной истории является: изыскать Народу надежное средство, с помощью которого он надежно упрячет диктатуру крупной буржуазии в «железную клетку» разумного и грамотного народного управления. Декларация прав требовала придания вороватых членов Директории суду народа и наказания «смертью узурпаторов народного суверенитета» (1793). Первое, что сделали «демократы термидора», придя к власти, они тотчас поспешили создать нового грозного бога, что обезопасил бы их от карающей длани Народа. Они желали воровать и грабить, но при этом оставаясь неподсудными! Порядки, установленные контрреволюцией, вызвали у народа отвращение и гнев. Напуганная буржуазия стала судорожно маневрировать, понимая: власть плутократов не сможет держаться вечно.[598] Они стали искать выход. Известный ученый К. Г. Юнг (1875–1961) в «Психологических типах» впоследствии напишет: «Французская революция, вспыхнувшая в то время, явилась столь же живым, сколь и кровавым фоном для этих слов; начавшись под знамением философии и разума, с высоким идеалистическим подъемом, она кончилась хаосом, обагренным кровью, из которого вышел наконец деспотический гений Наполеона. Богиня разума оказалась бессильной перед лицом разнузданного зверя».[599] После поражения Французской революции и падения якобинцев первое, что сделала реакция – она изменила конституцию. В ней победившая крупная буржуазия обрушилась на права народа. Старая конституция 24 июня 1793 г. показалась ей слишком демократической. Во Франции 22 августа 1795 г. имел место имел место «августовский путч» (но антинародного свойства). «Банда одиннадцати» навязала Конвенту новую конституцию. Принцип народовластия был подвергнут ограничению. Из декларации прав, которой открывалась конституция, оказалось выброшено право народа на сопротивление властям. Вопиющее нарушение естественных и неотъемлемых прав человека. Русский исследователь проблем французского либерализма В. А. Бутенко (1877–1931) заметил, что в конечном счете предательство интересов народа французской верхушкой и привело к власти Наполеона. Он писал в работе «Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации» (1913): «Этим разочарованием в конституции III года и объясняется то обстоятельство, что переворот 18 брюмера был встречен единодушным сочувствием приверженцев либеральных идей. Его главным вдохновителем был Сийес. Его приветствовали одинаково г-жа Сталь и Бенжамен Констан, Лафайет и братья Ламеты, Дону, Кабанис и другие «идеологи» И можно даже утверждать, что без сочувствия защитников либеральных идей Наполеону не мог бы удаться переворот 18 брюмера».[600] Так же действует реакция в любой другой стране. В первые же дни после контрреволюционного переворота она стремится сковать силы Самсона (народа), дабы тут же заковать его в новые цепи. Потрясающе, какой головокружительный кульбит совершила буржуазия за пару веков (а то и всего за несколько лет!). То, что казалось очевидным лучшим представителям этого класса в XVIII в., после прихода к власти крупных буржуа подается как опасность, ложь, ошибка, преступление. Быстро же вы прошли ваш путь от величия к ничтожеству, господа! А ведь А. Тюрго незадолго до начала Французской революции убежденно восклицал: «бедствия революции быстро исчезают, благо остается, и человечество совершенствуется».[601] Следует вспомнить и слова выдающегося историка Франции Ж. Мишле, который говорил, обращаясь к памяти французов (1845): «Пусть ребенок все это изучит и узнает, что Франция была спасена дважды: первый раз – Жанной д`Арк, второй раз – революцией 1789 года».[602] Дети, забывшие язык революции, никогда не становятся взрослыми. Их ждет плачевная судьба. Конечно же, революция – процесс, ограниченный во времени. Перманентных революций не бывает. Главные участники тех событий – живые люди, а они не могут долго находиться в состоянии столь бешеной активности, сверхчеловеческого напряжения, высшей концентрации сил и энергии. Природа, как известно, время от времени переживает «возмущения». Тогда над землей проносятся, сметая все на пути, смерчи, ураганы, бури, тайфуны, лавины и т. д. После этого Природа на какое-то время «успокаивается», входит в нормальное и упорядоченное состояние. Таким же образом ведет себя и общество, нуждаясь в умиротворении. 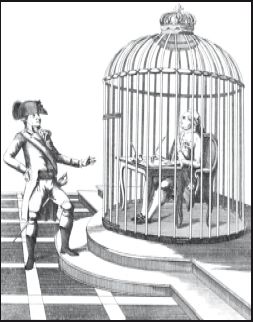 Приход диктатора. Он утверждал указы… В этой связи одной из интереснейших и, полагаю, актуальнейших проблем является проблема диктатуры и вообще – «периода после»… Когда и при каких обстоятельствах нация обращается к диктатору? При всем разнообразии нюансов и сюжетов на эту непростую тему думаю (с высокой степенью вероятности) следующее: такое случается, когда та или иная страна долгое время пребывает в анархическом или полуанархическом состоянии, когда властные корпоративные группы преследуют исключительно свои узкие и эгоистические цели, когда народные массы фактически преданы своими вождями и брошены на произвол судьбы «культурными элитами», когда миллионы и миллионы прозябают в голоде, холоде, болезнях и нищете, когда превозносимая продажной прессой «шлюха-демократия» лишь ухудшает положение абсолютного большинства, когда между кучкой богачей и всем народом вырастает чудовищная пропасть. Тогда неизбежно приходит диктатор! Подобная ситуация сложилась во Франции после краха якобинцев и победы термидорианцев-плутократов. Tel maitre, tel valet![603] Понимая близость конца «демократического режима», власть судорожно ищет спасения! Правящий класс лихорадочно вел поиски «сильной личности». Она должна была защитить его интересы (украденные у народа и отнятые у былого строя несметные сокровища). Крупные собственники и дельцы вытащили на политическую арену сначала одного, а затем и другого Наполеона. Немногие осознают ту роковую роль, которую сыграл в судьбах мира Бонапарт. С ним современные государства вступили в эпоху тотальных мировых войн. Во многом под его скипетром стало создаваться антидемократическое и тираническое буржуазное государство. Он же потопил мечты века Просвещения в потоках крови и ненависти. Система провинциальных и локальных войн была им отброшена. На горизонте возник призрак мировой империи нового типа. Светлые надежды, взлелеянные титанами Просвещения, оказались нагло попраны, а затем и вывалены в помойную яму отходов цивилизации. Разум изнасилован и освистан бандой жалких политиков, банкиров, писак, жандармов и генералов. Человечество издавна с каким-то особым, болезненно-пристальным вниманием отслеживает судьбы национальных гениев. Согласно мнению одних, такого рода люди имеют высший (предельно возможный) интеллект и эрудицию. Другие основанием для награждения этим титулом называют интуицию. Третьи требуют от гения, наряду с умом, таланта, мастерства и воли. К примеру, «Grande Encyclopaedie» считает, что гений должен обладать высшим разумом и могучим воображением, приводимыми в действие сильной волей. Четвертые отмечают умение гениев концентрировать «несколько индивидуальностей в своей собственной» (Ж. Гюйо). Пятые, как наиважнейшее свойство гения, выделяют его «способность творить чудеса». Шестые говорят о наличии в гениях, якобы, обостренного чувства грядущего, яркого и образного видения будущего и т. д. Оставим в покое «гениальность» Наполеона. Попробуем понять, как стал возможен приход его к власти в стране, где в течение XVII–XVIII вв. масса просветителей и ученых воспевала свободу, разум, науки. Первое, что обязан сделать ясный ум, желая проникнуть в существо явлений, отбросить всю словесную шелуху. Итак, место событий – Корсика, игравшая заметную роль на геополитической арене Средиземноморья. Задолго до появления Бонапарта Руссо пророчески скажет в «Проекте конституции для Корсики»: «Есть в Европе еще одна страна, способная принять свод законов – это Корсика. Достоинство и упорство, с каким этот мужественный народ отстоял свою свободу, вполне заслужили того, чтобы какой-нибудь мудрец увековечил ее для него. Меня не оставляет предчувствие, что когда-нибудь этот маленький остров еще удивит Европу». Так и произошло. С Корсики явился миру Наполеон. Почему стал возможен его приход к власти в могучей стране, в которой хватало и коренных претендентов? И что это означало для Франции? Сам по себе приход чужака к власти явление не столь уж необычное для некоторых стран… Вспомним хотя бы ту же Россию, где немцы, поляки и прочие «французы» довольно часто оказывались во властных структурах. Если сказать одной фразой, то она прозвучала бы примерно так: «Наполеона-диктатора породило бездарное правительство воров, взяточников и демагогов!» Во Франции после революции и термидорианского переворота к власти пришли ничтожные фигуры. Чего стоил хотя бы глава правительства периода Директории Поль Баррас (1755–1829). Этот дворянин – продувная бестия, казнокрад, взяточник и террорист (вместе с Тальеном, Ровером, Фрероном, Бурдоном они в годы террора запятнали себя жестокостями в Марселе, Тулоне, Бордо). Таких вот «баррасов» наверху, во властных структурах, было множество. Дабы избавиться от подобных господ, порой нужны «наполеоны».  Ж.-Л. Давид. Генерал Наполеон Бонапарт. В контексте вышесказанного вполне можно предположить, что приход к власти Наполеона (1769–1821) в каком-то смысле был закономерен и неизбежен. Упомянутый Карлейль как-то заявил: «Пока человек будет человеком, Кромвели и Наполеоны всегда будут неизбежным завершением санкюлотизма»… Наполеон был родом из обеспеченной дворянской семьи (3 дома, имение, виноградники, мельница, пахотные земли на Корсике). Легенды приписывали ему родство чуть ли не с царствующей английской династией, византийскими императорами и даже патрицианским родом Юлиев. (Глядя на иные его поступки, скорее можно поверить в антилегенду, утверждавшую, что он был потомком привратника и скотницы). После учебы в коллеже и военной школе (в Бриенне) Буонапарте получил рекомендацию в Парижскую военную школу. Надо сказать, что его успехи на ниве наук в те годы далеко не блестящи (по успеваемости он 42-й из 58). Хотя вряд ли на этом основании можно судить о способностях. Каковы его культурные интересы и политические взгляды? Обратимся к книге профессора Сорбонны Жана Тюлара, крупнейшего знатока наполеоновской эпохи. Его взгляд на Наполеона близок нам. Поэтому его уста, в известном смысле, и наши уста. Являясь уроженцем Корсики, Наполеон воплощал чаяния и надежды гордых островитян, не раз восстававших против иностранного владычества (1729). У корсиканцев были свои герои (Паскаль Паоли), порядки, своя конституция, даже свое понимание счастья и справедливости (так, в 1791 г. Наполеон представит в Лионскую академию «Рассуждение о счастье»). Для Франции Наполеон был «иностранцем» (Сенат в воззвании 3 апреля 1814 г. так и назовет его). Позже Шатобриан скажет, что в нем воплотилось «нечто чуждое». Перед французской оккупацией Бонапарты владели на Корсике солидным состоянием. После вторжения они почти всего лишились. Отсюда естественная ненависть к французам. «Он презирал, – говорила мадам де Сталь, – нацию, избранником которой желал быть». Показательно и признание Наполеона той поры (1786): «Французы, вам мало, что вы отняли у нас самое дорогое, вы развратили наши нравы. Положение, в котором находится моя родина, и невозможность его изменить – лишний повод к тому, чтобы бежать из страны, где по долгу службы я обязан превозносить тех, кого по совести должен ненавидеть». И продолжал: «Я причиню французам все зло, какое буду в состоянии причинить». Французская монархия уничтожила созданное Паоли государство Корсика. Поэтому Бонапарт не мог не быть на первом этапе врагом монархии. Он умело маскировал честолюбивые цели под маской «простака». Так называл его Баррас, покровительствуя ему и видя в нем лишь грубоватого и неотесанного служаку. Его появление было неожиданным. Диктаторы появляются нежданно-негаданно, подобно чуме, урагану, тайфуну, наводнению. Возникая где-то в преисподней, они затем исчезают в её безднах. И все же, что именно способствовало его утверждению во власти? Во-первых, в такие времена история полна интриг, а Наполеон как раз из породы людей, поднаторевших в битвах и ужасах гражданской войны на Корсике. Такому человеку (без принципов и совести) проще проложить путь наверх, на вершину власти, где приличных людей днем с фонарем не сыщешь. К тому же, Бонапарту удалось предстать перед народом в личине «отца нации». Он громогласно заявил о себе как о национальном миротворце и объединителе. (На деле натравил народ на народ и явился причиной кровопролитных войн). Во-вторых, он сумел создать ореол борца, героя, победителя. Не выиграв сражений при Флерюсе, Гейзберге и Цюрихе, он с помощью прессы и лубочных картинов (тогда еще не было ТВ) преподнес итальянскую кампанию «как самую настоящую Илиаду», а фактически проваленный поход в Египет под пером продажных борзописцев предстал «восточной эпопеей Цезаря или Александра». Уже тогда становилось ясно, что с помощью средств массовой информации, можно (при большом желании) из осла сделать Перикла, а из Иудушки-Головлева – чуть ли не Петра Великого. В-третьих, в Бонапарте были качества, ценимые буржуазией всех времен и народов – жестокость, беспринципность, алчность и тщеславие («самая могущественная страсть»). Каковы политико-философские истоки его воззрений? С известной натяжкой все же можно отнести его к сторонникам и последователям эпохи Просвещения. Многое из того, о чем писали и говорили просветители, энциклопедисты и революционеры, не выпадало из общей канвы его философии. «Разумный строй» в его понимании означал господство института буржуазной собственности. Таково же отношение и к простому народу. Вы помните, что еще Вольтер иронизировал по поводу дворянства, говоря, что он поверит в их наследственные права, когда увидит на пятках родившегося рыцаря шпоры. Однако он же готов пришпоривать простолюдинов, не стесняясь призывать к силе для обуздания народа. Его идеал – сильный правитель (вспомним раболепно-угодливые расшаркивания перед всеми государями Европы, включая Екатерину II). Монтескье не видел особой разницы между аристократией, монархией или демократией, считая, что исполнительная власть должна принадлежать королю. Но уж идеолог якобинцев Ж. – Ж. Руссо, казалось бы, должен был бы горой стоять за честную представительскую систему, то есть за власть народа. Однако и тут нас ждет некоторое разочарование. Руссо писал по этому поводу: «Чтобы переварить свободу, нужны крепкие желудки, а у народов Европы их нет». Он был твердо убежден: необходимо сначала просветить людей, а уж затем предоставлять в их распоряжение все прелести свободы. Робеспьер, как известно, вообще был сторонником «политики твердой руки», считая, что без наличия таковой справиться с управлением в государстве просто невозможно. Тут он был абсолютно прав. В этом направлении и шла эволюция мысли и власти во Франции: от Монтескье – к Вольтеру и Руссо, от Руссо – к Робеспьеру, от Робеспьера – к Наполеону. Потому и стал возможен Бонапарт, что в нем удачно соединились черты и мысли героев всех главных направлений и движений. Соедините лозунги и идеи тех лет, облачите их в подходящую для данной эпохи форму, найдите героическую фигуру, способную воплотить все эти замыслы и лозунги, – и, можете быть уверены: в ближайшем будущем обязательно получите ex dono (лат. «в дар») «Наполеона». Такой же линии в жизни придерживался и Бонапарт, считавший, что достаточно было бы одного пушечного залпа по толпе – и Людовик XVI сохранил бы корону. Однако известность он обрел все же благодаря поддержке брата Робеспьера, Огюстена, с которым его связывали дружеские отношения (не забывайте, что лейтенант Бонапарт одним из первых вступил в филиал Якобинского клуба). Кем же был Бонапарт в глазах миллионов людей – не только французов? Чтобы понять общее увлечение им, нужно взглянуть на него как бы из толпы, из самой гущи масс. Толпа из любого выскочки готова сделать кумира. Но для этого он должен быть «человеком ее мира», близким, понятным существом, твердо обещающим воплотить в реальность все ее надежды и чаяния. Поэтому столь опасны, непредсказуемы ее инстинкты и порывы. Попробуем более непредвзятым и трезвым оком взглянуть на французов, оставив на мгновенье все пышные словеса об их «демократичности и великом гуманизме». Тот, кто больше всех говорит об этом, менее всего к тому расположен. Обратимся к Шатобриану, как к очень точному барометру времени. Он так объяснял успехи, даже триумф Наполеона в глазах французов: «Каждодневный опыт заставляет признать, что французы инстинктивно льнут к власти; они вовсе не любят свободу; их единственный кумир – равенство. Меж тем равенство связано тайными узами с деспотизмом. Понятно, что Наполеон был мил французам: как воины, они льнут к власти, как демократы – обожают подводить всех под один уровень. Взойдя на трон, он усадил народ рядом с собою; король из простонародья, он заставлял королей и дворян униженно толпиться перед дверью его покоев; он уравнял все сословия, не низведя знатных до черни, но возвысив чернь до знати; первое ублажило бы завистливую толпу, второе потешило его собственную гордыню. Тщеславию французов льстило такое превосходство над всей Европой, обретенное благодаря Бонапарту; немало способствовал популярности императора и печальный финал его жизни. Важно и другое: чудесные победы наполеоновской армии покорили воображение молодежи, научив ее преклонению перед грубой силой. Неслыханный успех Бонапарта вселил в каждого дерзкого честолюбца надежду подняться до тех же высот. А между тем этот человек, чей каток проехал по Франции, уравняв в правах всех французов, к вящей их радости, смертельно ненавидел равенство и, как никто другой, способствовал явлению аристократии из недр демократии».[604] Так что не случайно, нет, далеко не случайно им одно время были поголовно увлечены толпы людей как в Старом, так и в Новом Свете. Знаменательно то, что даже известный американский просветитель Р. Эмерсон узрел в нем воплощение надежд и чаяний буржуазии (в своих эссе). Он напрямую связывает его имя с триумфом демократии. Ничего не скажешь, хорош «демократ», заваливший трупами всю Европу, Египет и пол-Азии. Должно будет пройти немало времени, прежде чем в головах толп, да и элиты наступит некое просветление. Хотя в годы якобинской молодости сам Бонапарт и признавался в письме, что он «ревностный демократ». И все-таки нельзя не признать, что в некотором смысле это была выдающаяся Личность… Чтобы в этом убедиться, достаточно пунктиром проследить его путь с юных лет. Жил он отшельником. В Бриеннском военном училище его отличала поразительная работоспособность. Он вставал не позже четырех часов утра и принимался за работу. Уже в одиннадцать лет проявилось его горделивое «эго». В ответ на сердитое замечание преподавателя, прозвучавшего словно вызов: «Кто вы такой!» – он с достоинством ответил: «Я человек!» Обладая феноменальной памятью, он работал, как вол, поглощая множество книг по истории (Полибия, Плутарха, Платона, Цицерона, Тацита, Монтеня и т. п.). Дорожный сундук Бонапарта был набит книгами. Наполеон неизмеримо превосходил товарищей знаниями и начитанностью. Разумеется, это не способствовало их дружбе. Мало того, что между ним и богатыми дворянами, коих было большинство в военных училищах Бриенны и Парижа, не было ничего общего, так он еще отказывался принимать участие в их пустых забавах и вечеринках. Он предпочитал посвящать все свое время серьезным занятиям – изучению античной истории и математики. Несколько его тетрадей исписаны заметками по артиллерии. Он изучил царствования Цезаря и Фридриха II. Не чужд он был и литературы (писал романы, новеллы, эссе). Знаменательны их названия: «О любви к славе и любви к отечеству», «Диалог о любви». Это создавало особый мир чувств, мыслей Бонапарта, записавшего в дневник (1786): «Всегда одинокий среди людей». Одинокий не так уж одинок. Его окружал мир великих умов (Вольтер, Монтескье, Гельвеций, Руссо, Рейналь, Мабли), по которым он и сверял часы своей жизни. И частью правы те, кто относил его к приверженцам «партии философов». Его старший брат Жозеф говорил о нем: «Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира». Таким образом, к 18–20 годам система взглядов Бонапарта в основном сложилась. Перед нами натура республиканского склада. Будучи на службе у короля, он тем не менее заявил: в Европе «остается очень мало королей, которые не заслуживают быть низложенными» (1788). Тем более оснований будет у него сказать эти же слова, но уже в адрес Директории (после блистательных итальянских походов, когда тот, кого называли «замухрышкой», «генералом алькова», стал символом республиканизма). Тогда же вокруг него и сформировалась знаменитая «когорта Бонапарта» – священная дюжина офицеров, которые составили «кулак будущей империи». В самом деле, когда у власти находятся такие трухлявые политические фигуры, как «триумвиры». Однако все это еще впереди.  А.-Ж. Гро. Бонапарт, посещающий зачумленных в Яффе 11 марта 1799 года. 1804 г. Звезда Бонапарта взошла под Тулоном… Судьбе было угодно, что в трудную минуту, благодаря поддержке комиссаров Конвента Саличетти, Гаспарена и Огюстена Робеспьера (брата могущественного главы Конвента), ему поручили командовать артиллерией армии, осаждавшей Тулон. В Тулоне был оплот Бурбонов. Город обороняли английские, испанские, сардинские солдаты (оккупанты и враги Франции). План Бонапарта был прост, как все гениальное. Он создал две мощные батареи, назвав их батареями Горы и Санкюлотов. В часы штурма он проявил мужество и хладнокровие. Подавая пример бойцам, он велел срыть все укрытия, заявив, что защитой им будет их патриотизм. Участвовал он и в яростном ночном штурме. Под ним убили лошадь, штыком прокололи ногу. Так был взят Тулон. Робеспьер-младший и Саличетти присвоили 24-летнему офицеру звание бригадного генерала (затем, правда, по доносу Саличетти, он будет отправлен в тюрьму, но голову он все же сохранил).[605] Следует стремительная карьера Наполеона. Первым шагом к будущей власти стали его итальянские походы. Как он выдвинулся? Чтобы ответить на сей вопрос, пришлось бы перечислить сотни, тысячи условий и моментов. Можно говорить о его любви к солдатам и офицерам (запретил рукоприкладство в армии и пытки), о его умении быстро схватывать суть событий и действовать («Время – это все!»), об установленной железной дисциплине. Он расстрелял солдат, укравших священные сосуды в церкви, приказав расстреливать «каждого проворовавшегося интенданта»: «Чрезвычайно важно, чтобы ни один из этих подлецов не ускользнул от кары». В основе побед армии лежали завоевания Великой Французской революции. В облике молодого Бонапарта привлекает его не по годам точное и зрелое видение политических задач. И, конечно, его воля! Воля – «больше, нежели талант» (Бальзак). Наполеон был весьма образованным человеком, хотя и не энциклопедистом. Историк А. Манфред отмечал, как во время итальянских походов в замке Монтебелло (под Миланом) он собрал поэтов, историков, художников, музыкантов. Бонапарт тогда написал известному астроному письмо (в гуще неотложных дел, занятый военными вопросами): «В свободном государстве нужно особо защищать науки, поднимающие интеллект человека, искусства, украшающие мир и сохраняющие великие деяния предков в памяти потомков. Все гениальные личности, все люди, пользующиеся известностью в мире науки, – являются французами, в какой бы стране они ни жили. Доныне они вынуждены были жить анахоретами, теперь же воцарилась свобода мысли, нет больше ни нетерпимости, ни деспотизма. Соберитесь у меня в замке и расскажите мне обо всех своих желаниях. Кто захочет поехать во Францию, будет принят там с почетом, ибо французский народ предпочитает приобрести великого математика, художника или какого-то другого талантливого человека, а не богатейшие провинции. Поэтому прошу вас передать эти чувства выдающимся людям Милана!»[606] Генерал, сумевший с таким триумфом провести важнейшие военнные кампании тех лет и обладавший вдобавок еще и знаниями, конечно же, заслуживал того, чтобы стать главой великого государства. К тому же, это было время, когда все законы писались кончиком сабли. Минует несколько лет – и жертвой диктатора станут не только пресса, но и представители средних слоев либеральной буржуазии, и даже простой народ. Как мы увидим, у тиранов не бывает возлюбленных. Вскоре судьба забросит его в Египет, где побывали Александр и Цезарь. Там будут жаркие битвы против мамелюков (с его фразой «Солдаты! Сорок веков глядят на вас с высоты!»), казни пленных (уничтожение восставших жителей Каира, чьи головы Бонапарт повелел посадить на кол), посещение заболевших чумой солдат в госпитале Яффы. Однако одновременно с этим он участвует и в работе созданного им знаменитого походного «Института». С собой в Египет он вывез немало известных ученых, включая Бертолле и Монжа, издавал печатный орган, во всем, даже в названии, похожий на парижское издание (Decade). Ученые помогают Бонапарту фильтровать воду Нила, строить ветряные мельницы, искать сырье для изготовления пороха. Приступают к изучению Египта (нильских рыб и минералов Красного моря, растений дельты Нила и химического состава песков пустыни), исследуют причины чумы и страшной трахомы, от которой слепнет половина Египта. Члены «Института» участвуют в раскопках древних храмов Верхнего Египта, прослеживают остатки античного канала и изучают возможности создания нового (спустя полвека это и претворит в жизнь Лессепс). Печатаются научные труды, рождаются мысли о новой цивилизации. Бонапарт скажет: «Только в Египте я чувствовал себя свободным от пут сковывающей цивилизации, я воочию видел средства осуществить все свои мечты. Я видел себя едущим на слоне с тюрбаном на голове и новым Кораном в руках, написанным в соответствиии с новой религией, которую я основал. Я хотел объединить в этом походе опыт Запада и Востока, поставить историю на службу себе, сломить английское господство в Индии и этими завоеваниями восстановить связи с Европой». Он называл себя султаном Эль-Кебиром.[607] Хотя в этих его мечтах мы видим уже скорее черты «покорителя мира». М. Робеспьер предвидел такое развитие событий, сказав с вступлением Франции в революционную войну: «Цезарь придет». После возвращения из Италии молодой генерал проявлял большой интерес к научным дисциплинам и искусствам. За обедом он частенько очаровывал своих гостей, рассуждая о математике с Лапласом, о метафизике с Сьейесом, с Шенье о поэзии, с Галлуа о политике, с Дану о законодательстве. Будучи избран в Институт на отделение физических и математических наук, он убеждал всех, что для него сей титул дороже всего на свете, что единственные подлинные победы, которые чего-либо стоят, так это победы, одержанные над невежеством. В иные времена из него мог бы, пожалуй, выйти какой-либо незаурядный ученый, блестящий организатор, наконец, возможно, художник или композитор, имей он на то дарования. Однако госпожа История распорядилась иначе, втянув его в гущу военных и политических водоворотов. Г. В. Плеханов несомненно оказался прав, сказав: «…если бы Наполеон вместо своего военного гения обладал музыкальным дарованием Бетховена, то он, конечно, не сделался бы императором». Так или иначе, а время накладывает отпечаток на любого. Особый интерес представляют взаимоотношения Наполеона с народом. Не зря же он ревностно изучал Плутарха и Цезаря («Ты похож на героев Плутарха»). Им он в известной мере и подражал. Народ же всегда готов склониться перед сильной личностью. Как психология народов воспринимает правителя или героя? Кого народ любит и превозносит? Людей, несущих в себе типические черты данной расы, ее идеализированное представление о самой себе, впрочем, как и иные ее пороки. Фуллье пишет, что хотя никогда не могло бы существовать «нации Наполеонов», но что был момент, когда «тайным желанием каждого француза было сделаться Наполеоном». Этот идеальный Наполеон не походил на грубого и вероломного исторического Наполеона. Это был образ, мечта, идея.[608] В массе людей, узревших в Наполеоне собственное alter ego, были миллионы мелких и средних буржуа. У них не было титулов, поместий, привилегий, богатств. В то же время это были люди энергичные и по-своему небесталанные. Все, чем они могли похвастаться, это бьющей через край энергией, жизненными силами, дерзкими мечтаниями. Так они врывались в общественную жизнь после революции: как якобинцы, возглавляющие новую власть на местах и в столице, или как отважные уланы и кирасиры в строй янычар и мамелюков – смело и отважно (чувствуя себя «маленькими наполеонами»). В своей блестящей работе «К вопросу о личности в истории» Г. Плеханов писал: «Тот же Наполеон умер бы мало известным генералом или полковником Буонапарте, если бы старый режим просуществовал во Франции лишних семьдесят пять лет. В 1789 г. Даву, Дезэ, Мармон и Макдональд были подпоручиками; Бернадотт – сержант-майором; Гош, Марсо, Лефевр, Пишегрю, Ней, Масэнна, Мюрат, Сульт – унтер-офицерами; Ожеро – учителем фехтования; Ланн – красильщиком; Гувиион Сен-Сир – актером; Журдан – разносчиком; Бессьер – парикмахером; Брюн – наборщиком; Жубер и Жюно – студентами юридического факультета; Клебер – архитектором; Мортье не поступал на военную службу вплоть до революции. Если бы старый режим продолжал существовать до наших дней, то никому из нас и в голову не пришло бы теперь, что в конце прошлого века во Франции некоторые актеры, наборщики, парикмахеры, красильщики, юристы, разносчики и учителя фехтования были военными талантами в возможности».[609] В том прелесть, если хотите то и «пикантность» переходных эпох, когда волны событий выносят на поверхность отнюдь не ан-гельско-невинные души, а пеструю массу, где представлены герои и проходимцы высшей пробы. Среди поклонников Наполеона были и те, кто шел в боевых армейских колоннах, кто работал в мастерских или на полях, кто торговал в лавках и на рынках, кто заполнял собой конторы и школы. Все они (так или иначе) жаждут всего и сразу – денег, собственности, славы. Всякие там моральные принципы: совесть, гуманизм, вера в Господа, иные «несущественные и бесполезные вещи» – мало занимали их воображение. Ими двигала единственная страсть – жажда успеха и быстрой карьеры! Личный интерес просматривается всюду. Требования времени определяют и лицо эпохи. Если обществу нужны солдаты – оно загоняет нацию в казармы. Если стране нужны ученые, инженеры, мыслители, умные головы, художники, писатели – она шире распахивает двери школ, лицеев, институтов и академий. Если же верхушке захотелось вдруг быстро и неправедно разбогатеть – она начинает плодить различного рода банки, конторы, биржи, «пирамиды», газетенки, дающие возможность нечистым на руку людям быстро сколотить огромные состояния. Наполеон бросил однажды фразу о том, что революции задумываются романтиками, осуществляются прагматиками, а завершаются отъявленными негодяями. Этим господам не свойственны моральные переживания. Ведь и их герой (Наполеон) любил повторять, что сентиментальность необходима лишь женщинам и детям. Все эти новые собственники и власть имущие ненавидели людей высокого образа мыслей (всяких там гуманистов), следуя итальянской пословице: «Если хочешь достичь успеха, не будь слишком хорошим». Наполеон так и поступал. Это проявилось при подавлении мятежа правых (1795 г.). Он не позволял контрреволюции, у которой было пятикратное превосходство в силах, взять Тюильри, где заседал Конвент. По его приказу великолепный Мюрат с эскадроном овладел пушками. Бонапарт отдал команду: «Огонь!». Достаточно было нескольких залпов, чтобы мятежники разбежались. Так и надо работать! Свершив эти «подвиги Геракла», Бонапарт мог рассчитывать на одобрение народа в вопросе обретения им неограниченной власти! Политическая ситуация было нестабильной и зыбкой. Любая сильная личность, в руках у которой была армия, могла тогда взять власть во Франции. Наполеон заполучил пост диктатора прямо из рук французского народа (4 миллиона – «за», и всего горстка – «против»), заявив: «Обращение к народу приносит двойную выгоду: оно не только подтверждает продление срока, но и облагораживает происхождение моей власти: в противном случае оно так и осталось бы сомнительным».[610] Народный вердикт, который часто так переменчив, закрепил наполеоновские преобразования. Далее уже не составляло труда облачиться в королевскую мантию и водрузить императорскую корону. Сменить генеральский мундир на корону – какая проза! Посмотрим на молодого Бонапарта глазами художника Жака-Луи Давида (1748–1825). Тот познакомился с ним после итальянских походов (1797). Его впечатление о генерале обычно черпают из воспоминаний Э. Делеклюза, ученика Давида. Тогда он сказал: «О друзья мои, какое у него лицо! Это чистота, это величие, это античная красота! Это – человек, которому в древности воздвигали бы алтари; да, друзья, да, дорогие друзья! Бонапарт – мой герой!» Вряд ли эта экзальтация свойственна Давиду, хотя он и любил античность. Впрочем, увлечение Бонапартом было всеобщим. Настоящий художник может преувеличить, но не солгать. Кисть его не врет. Поэтому стоило бы обратиться к тем рисункам, что хранятся в Ницце (музей Массена). В них есть экспрессия, энергия, нервность. Здесь тонко подмечены черты генерала (жесткость, властность, враждебность, подозрительность). Хищник, готовый растерзать жертву, попавшуюся в лапы. Как контраст, еще один Бонапарт – прославленный герой, «надежда всей Франции». Перед нами очищенный образ, канонизированный идеал (появляются «чистота, величие, античная красота»). Есть и еще один портрет генерала кисти Давида (хранится в Лувре), где дан набросок головы. Более он не возвращался к портрету. В дальнейшем в портретах нового владыки Франции уже не будет такой обнаженной правды. Бонапарт становился Наполеоном. Личные отношения художника и модели складывались непросто. Вначале Бонапарт хотел добиться внимания Давида, известнейшего художника Франции. Он даже предлагал ему принять участие в итальянских и египетских походах. А вернувшись в Париж из Италии, он сказал секретарю Директории Лагарду, пригласившему его на обед: «Я приду, но при условии, что у вас будет Давид». В этот романтическо-революционный период Бонапарта куда больше интересовали ученые и художники, нежели дельцы и политики. После битвы при Маренго он предложил Давиду написать его портрет.  Ж.-Л. Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар. 1801 г. Версаль, Национальный музей. Однако то время быстро закончилось. В Бонапарте все отчетливее стали проступать черты диктатора, будущего императора. Он чуть ли не силой заставляет Давида оставить работу над картиной «Леонид при Фермопилах», требуя написания собственного портрета. Он даже учит художника, как надо писать. Давид вынужден отвечать в дворцово-почтитель-ном духе: «Вы учите меня искусству живописи». Впрочем, когда Бонапарт однажды перешел все границы и предложил художнику «вместе сочинить трагедию», Давид остроумно ответил: «Охотно, генерал; но сначала составим вместе план кампании». Большое парадное полотно «Бонапарт на Сен-Бернарском перевале» – пример того, как художник выполняет царский заказ. По своим живописным качествам оно выглядит великолепно, хотя это и полнейшая идеализация действительности. Искусствовед Е. Кожина пишет: «Он отвлекается от той реальной обстановки, в которой французская армия совершала переход через Сен-Бернар, – переход, поистине героический, когда измученные полуодетые солдаты под ледяным ветром впрягались вместо лошадей в орудийные упряжки, а военные музыканты, выстраиваясь вдоль заваленных лавинами проходов, из последних сил играли им сигнал к атаке. Но та же реальная обстановка слишком приземляла образ Бонапарта. «Он не сидит, как изобразил его Давид, на горячем коне в героической позе, – свидетельствует современник. – Взобравшись на мула с неторопливой и надежной поступью, он медленно поднимается наверх». Художник, несомненно, хорошо знал все это. Эстетика классицизма не только позволяла ему, но даже предписывала отбросить такие случайные детали как нечто случайное, снижающее главную героическую ноту».[611] В работе нет той свободы, независимости и искренности, которые были ранее, в первых набросках и портретах. В том вина не Давида, а Бонапарта. Художник уже лишен возможности лично контактировать со своей моделью. Бонапарт ему не позировал, прислав в его мастерскую «замену» – мундир, сапоги и треуголку (те, что были на нем в день битвы при Маренго). От деспотов всегда и остаются лишь мундиры да сапоги. Что же за люди вознесли его? Во-первых, крупная буржуазия, нуждавшаяся в диктаторе и завоевателе. Ей позарез нужны были рынки и победы, победы и рынки. Бонапарт дал ей и то и другое. Он навязал Австрии выгодный для страны мир (договор в Кампоформио 18 октября 1797 г.), расширил границы Франции, аннексировав левый берег Рейна (Бельгия, Савойя, Ницца). За пределами страны «по французскому образцу» создаются марионеточные республики – в 1794 г. Батавская республика (Голландия), Цизальпинская (Мила) и Лигурийская (Генуя) в 1797 г., Гельветическая и Римская в 1798 г., Партенопейская (Неаполь) в 1799 г. Все это на руку крупным собственникам, банкирам. Поэтому Р. Эмерсон скажет: «Парижу, Лондону и Нью-Йорку с их коммерческим духом, властью денег и материальных благ также следовало иметь собственного пророка. И им стал с благословения свыше Бонапарт». Все буржуа на одно лицо. Обобрав народ, они нуждаются в «монархе», чтобы скрыть под его мантией свои нечистоты. Директория – пустое место. Слова Бонапарта: «Ваша директория – это кучка дерьма!». Но когда стервятники начинают «обсасывать кости монарха» (где бы то ни было), значит, они задумали какую-то провокацию или гадость против интересов народа. Во-вторых, свой экономический интерес был и у крестьян. Массы напоминают женщину. Они готовы любить властителя страны, но отнюдь не бескорыстно. Наполеон это понял. Ведь помимо грома побед, нужны еще и деньги. Он и выколачиввал их из побежденных Францией стран. Французские крестьяне получали выгоду от завоевательских походов и «хлебной блокады». Вспомним, что во времена Империи цены на хлеб во Франции оставались очень высокими (не опускались ниже 29 франков за гектолитр, а в 1812 г. достигли даже 50 франков). П. Лафарг писал в этой связи: «Если Наполеон в своих сражениях и посылал массы крестьян на убой, то он давал им зато возможность брать хорошую цену за свои продукты – это объясняет отчасти любовь крестьян к Наполеону».[612] В-третьих, в деяниях главы государства было немало такого, что заслужило ему признание французского народа. Он энергично стал создавать многочисленные рабочие места (работы на улицах и набережных, заводах, фабриках, ателье), открыл в провинициях богоугодные заведения для нищих и больных, разрешил вход в парки не только буржуазии, но и людям в рабочих одеждах. Он воспротивился закрытию читальных залов: «Этого я ни за что не допущу! Я на собственной шкуре испытал, как приятно знать, что есть теплая комната, где можно почитать газеты и свежие брошюры. И не могу лишить этого других». Он ведь и сам любил читать, изучив «Кодекс Юстиниана», находясь на гаупвахте. Наполеон приказал продавать народу билеты во Французский театр по низким ценам и запретил игорные дома («они разоряют семьи, и терпеть их – значит подавать плохой пример»). В России всё делается совершенно иначе! В его лице французская буржуазия спела свою лебединую песню! В 30 лет Бонапарт разуверился в юношеских грезах, в надеждах молодости, в якобинской идеологии (и даже в верности жены). Вскоре он стал полновластным диктатором Франции (1800), заявив: «Мы довели до конца роман революции». Вспомним и его слова: «Революция – это Я!» Начав как республиканский генерал, исповедующий принципы революции, он, отдав ей дань, быстро перешел на позиции монархизма. Бонапарт сделал Францию республикой (1802), но, чтобы никто не сомневался в прочности его власти, он расстрелял герцога Энгиенского (наследника Бурбонов). Конечно, диктатор не порывал столь откровенно с народом, как иные жалкие его пародии (известны его слова: «Я вышел из недр народа, я не какой-нибудь Людовик XVI»). Хотя связи консула с Робеспьером и его братом скорее всего являлись данью обстоятельствам и отрыжкой «романтической» юности. Молодой генерал если и призван был к алтарю, то к алтарю Молоха, пожирающего людей. Его девизом стала вторая часть изречения: «Vivre en travaillant ou mourir en combattant!» («Жить работая или умереть сражаясь»). Осуществив кровавый передел собственности, ограбив страны и народы, французская ли, русская ли буржуазия хочет одного – любым способом сохранить и узаконить награбленное и уворованное в смутные времена. Ей нужна сильная власть, которая удержала бы народ в железной узде. «Все считали, что необходимо сильное правительство, – писал Стендаль. – И они его получили». Кто таков Бонапарт? Цербер крупной буржуазной собственности. Поэтому власть денег всюду старается держать на прицеле какого-нибудь очередного «генерала-наполеончика». Франсис д`Ивернуа скажет о приходе Наполеона к власти: «Следует признать, что французы (авт. – крупные богачи) весьма успешно защитили свои кошельки».[613] Потому в нем узрели родственную душу и американцы. Р. Эмерсон увидел в императоре «символ демократии»: «Он хочет, чтобы все были допущены к участию в конкуренции, и открывает новые возможности конкурентной борьбы – это класс деловых людей в Америке и во Франции и повсеместно по всей Европе, класс трудолюбивых специалистов. Наполеон и стал их олицетворением. Инстинкт деятельных, смелых, способных людей, повсюду составлявших костяк среднего класса, выделил Наполеона как подлинное воплощение идеалов демократии». Откровенно восхищаясь героем, он выделяет те черты в Наполеоне, которые особенно в нем привлекали янки: «И что бы ни делал он, все отвечало правилам расчета и разумности, экономии средств и, главное, времени. В каком-то смысле французский император стал идеалом человека-машины, если под этим разуметь единство телесной и духовной рациональности. Он свято верил в истины науки и подвергал сомнению небесные эмпирии. И люди увидели в нем прекрасное сочетание природных и интеллектуальных сил, именно то, о чем они сами тайно или открыто мечтали, имея в виду себя самих».[614]  Наполеон кладет конец фарсу демократии. Аксиома политической культуры Запада – свобода человека, свободы мысли, литературы, науки, право людей на полную, даже самую нелицеприятную правду. На словах все это так. Однако буржуазия быстро сбрасывает маску, указывая науке и просвещению их место. Исключения лишь подтверждают правило. Наполеон это продемонстрировал. Французам скоро пришлось забыть о свободах. Вот что писал Шатобриан: «Во Франции истина иной раз являлась на свет даже при республике, несмотря на неумолимую цензуру палачей; ни одна партия не задерживалась у власти надолго, и противники, свалившие ее, открывали миру то, что таили их предшественники: от эшафота до эшафота, от одной отрубленной головы до другой люди были свободны. Но когда власть захватил Бонапарт, когда его прислужники надолго заткнули рот мысли и французы перестали слышать что-либо, кроме голоса деспота, восхваляющего самого себя и не позволяющего говорить ни о чем другом, истина покинула нас. Так называемые подлинные документы той эпохи недостоверны; в то время ничто, ни книги, ни газеты, не публиковались без разрешения властителя; Бонапарт просматривал статьи для «Монитера», префекты его слали из разных концов страны донесения, поздравления и славословия, соответствующие письменным указаниям парижских властей и условленным мнениям, которые были решительно противоположны действительному мнению общества. Попробуйте написать историю на основании подобных документов! Ссылаясь в своих беспристрастных штудиях на подлинные свидетельства, вы будете подтверждать ложь ложью. Если же кто-то усомнится в том, что обман царил повсюду, если люди, не жившие при Империи, будут упорно продолжать верить тому, о чем прочтут в печатных источниках, или даже тому, что им удастся разыскать в министерских архивах, достаточно будет привести неопровержимое свидетельство – мнение Консервативного Сената, декрет которого гласил: «Ввиду того что свобода печати постоянно ущемлялась произволом имперской полиции и что император всегда прибегал к прессе для того, чтобы наводнять Францию и Европу вымышленными сведениями и лживыми суждениями, ввиду того что акты и отчеты, рассматривавшиеся Сенатом, публиковались в искаженной форме, и проч.». Что можно возразить на такое заявление?»[615] Поступавшая из-за границы информация о состоянии дел во Франции попала под строжайший контроль. Воспрещалось печатание даже путеводителей и топографических описаний, где хоть слово упоминалось о революции. Правительство не позволяло упоминать в учебниках, что в Голландии и Швейцарии когда-либо имела место республика. В Нюрнберге, по требованию Наполеона, расстрелян продавец книг Пальма, отказавшийся назвать имя автора какой-то не понравившейся тирану брошюрки. Народы могли, вероятно, в полной мере оценить справедливость и предостережения Лабрюйера, заметившего по поводу перемен (от которых кстати говоря и ныне не застраховано ни одно общество): «Каким гонениям подверглись бы мысли, книги и авторы их, если бы они зависели от богачей и вообще от всех, кто составил себе изрядное состояние! На этих людей не было бы управы. Какую власть взяли бы они над учеными, как презрительно говорили бы с ними!» Он заговорил о прессе, как о бездне, к которой не следует приближаться в здравом уме. Подумать только, и этот человек еще недавно заявлял: «Карьера открыта для талантов». Наполеон относился ко всякой политической деятельности с подозрением. Отношение к идеологии со временем также претерпело эволюцию, неся отпечаток некой двусмысленности. В первое время он пытался обольстить тех, в ком видел потенциальных союзников в своем движении к власти. Надо признать, ему это частенько удавалось, ибо Наполеон был величайшим актером. Во времена Директории он еще с интересом воспринимал идеологические беседы. Однако после переворота 18 брюмера всё изменилось. К монархистам и священникам он относился с некоторой снисходительностью (в конце концов, беглым священником был и его всесильный министр полиции Фуше). Либералов же Бонапарт терпеть не мог. Когда некоторые идеологи либерализма повели против него робкую парламентскую борьбу, не представлявшую, впрочем, никакой опасности для его режима, консул пришел в совершеннейшую ярость («Именно идеологам мы обязаны всеми страданиями»). Её-то он и выплеснул на страницах «Журнала де Пари» (Journal de Paris) и в «Меркюр де Франс» (Mercure de France): «Собирается жалкая кучка числом двенадцать или пятнадцать и объявляет себя партией. Безрассудные глупцы, все они считают себя непревзойденными ораторами». Первому консулу нельзя отказать в известной проницательности. Его ненависть к фразерам демократии нам понятна и, пожалуй, оправдана. Можно согласиться с его вердиктом в адрес «либералов и демократов», которых он откровенно называл «бандой прохвостов». Бонапарт однажды заметил, что эти господа с их абстрактными теориями могут «принести Франции куда больше вреда, чем самые опаснейшие революционеры или их доктрины».[616] Российский историк Е. Тарле писал и о другой стороне «просветительства» Бонапарта… К примеру, тот приказал даже не упоминать о великой революции в печати. Вроде бы никогда на свете не было Робеспьера, Марата, Эбера, Мирабо. Когда в Парижской академии кто-то осмелился с похвалой высказаться о Мирабо, Наполеон страшно разгневался и написал министру полиции: «Не дело президента ученого общества говорить о Мирабо». В отношении прессы диктатор повел себя согласно сформулированному им же девизу – «Для управления печатью нужны хлыст и шпоры». Уже через два с небольшим месяца после переворота им были закрыты без объяснения причин 60 газет (осталось лишь 13, а потом и вовсе 4). Французы презрительно называли эти бонапартистские газетенки не иначе как «носовыми платками». Однако в его поступках был свой резон. Он говорил: «Если я сниму с печати узду, я и трех месяцев не останусь у власти». Уже тогда один из деятелей наполеоновского режима говорил, что надо забить головы молодежи и «праздный ум парижан» музыкой и театром, чтобы они не обращались к политике. Вот во что суждено было трансформироваться человеку, рожденному Французской революцией, стороннику идей французских экономистов «Laissez faire, laissez passer» («Позволяйте делать, кто что хочет, идти, кто куда хочет»). И все же кое-что диктатору на ниве науки и просвещения удалось сделать. К тому же нет ничего более удаленного от целей просвещения, нежели буржуазная печать. Как известно, при нем положено начало системе высшего образования во Франции, сохраняющейся в основных своих чертах и поныне. Надо все же отдать должное императору. Он прекрасно понял всю неизмеримую важность значения учительства для судеб страны. В преподавателях же высших школ он видел не только своего рода «золотой запас» нации, но и подлинных духовных наставников юношества и главный оплот государства. Он говорил: «Без преподавательского корпуса, сплоченного на основе единого принципа, невозможно единое политическое государство». Перед Францией стояли тогда довольно сложные задачи. Увлечение лицейской формой обучения быстро доказало свою несостоятельность. Кадры этих лицеев оставляли желать лучшего. Финансирование было спорадическим и недостаточным. Буржуазия бойкотировала новую форму образования. Созданные лицеи не выдерживали конкуренции с частными учебными заведениями. Однако ни одно мощное государство не должно и не может опираться в своей деятельности только на частный образовательный сектор. Бонапарт оказал мощную поддержку системе высшего и среднего образования во Франции. При нем преподавание в университетах и в средних школах приобрело строго утилитарный, преимущественно технический уклон. В 1803 г. он предпринял реформу Института (Академии наук), расформировав («зловредное» с его точки зрения) отделение моральных и политических наук и переместив его членов в другие существующие подразделения. В 1806 г. принят закон о создании Университета («образовательного и просветительского учебного заведения Империи»). Автором декрета 17 марта 1808 г. был Фуркруа. Декрет закреплял за Университетом, во главе которого стояли магистр, ученый совет и корпус генеральных инспекторов, монополию на образование… Магистр (министр) выдавал разрешительные лицензии преподавателям и учебным заведениям, каждое из которых выплачивало Университету ежегодную «дань». Образование включало три ступени: начальную, находящуюся в ведении монахов; среднюю, состоящую из лицеев и коммунальных школ; высшую – факультеты филологии, естественных наук, права, медицины и теологии Университета. Преподавателей по-прежнему готовила «Эколь Нормаль». Степень бакалавра призвана заменить дворянское звание, открыв дверь в элиту разночинцам.[617] Наполеон не только создал лицеи и технические училища, но и приказал выделить в них 6 тысяч бесплатных мест для самых способных юношей. Треть мест были предназначены сыновьям заслуженных людей («мое правление будет эпохой молодых и талантливых»). А «мудрецы России» всех молодых и талантливых одно время норовили как можно скорее сплавить за рубеж. Спустя три года после его прихода к власти во Франции было 4500 народных школ, 750 реальных училищ, 45 лицеев. Бонапарт реформирует систему власти. Никому не приходило в голову, что первых сенаторов государства можно избирать не из плутократов, а из числа ученых-членов «Института» (треть первых сенаторов пришло из науки). Он потребовал составить список «десяти лучших художников, десяти лучших скульпторов, композиторов, музыкантов, архитекторов, а также указать имена других деятелей искусств, таланты которых заслуживают поддержки», и сделал им заказы. От ученых он ожидал результатов их деятельности, что принесло бы «славу империи» (письмо Лапласу). А чтобы ученые, художники, литераторы, музыканты, профессора творили во славу отечества, Бонапарт ввел орден Почетного легиона (президентом клуба «легионеров» стал ученый-естествоиспытатель). Император говорил: «Французы тщеславны и легкомысленны, как их предки, и восприимчивы только к одному – почету».[618] Наполеон не был бы самим собой, если бы не потребовал от руководителя высшей школы серьезного улучшения состояния вверенного ему ведомства. Громких фраз да лакейских расшаркиваний при волевом и умном правителе мало. Наполеон настороженно отнесся к реформам в области образования. В первую очередь пострадал министр-реформатор. Модернизация высшей школы вызвала опалу Фуркруа, тот вынужден уйти в отставку. Почему это произошло? Какие же образования и культура нужны Наполеону? Что вообще хотят диктаторы от индивидуумов!? Их чувства противоречивы. Они рады талантам, но только если те лояльны к ним и к их власти (покорные соглашатели). Им хотелось бы, чтобы те умело льстили и холопстовали (с приличествующим случаю тактом). Показательна запись Коленкура, адъютанта и сподвижника Наполеона, с которым тот делился сокровенными мыслями. В ней дана оценка нового главы Университета, руководителя высшей школы Франции и министра Фонтана (1757–1812), льстеца и подхалима. Император говорил: «Он слишком угодлив. Но он очень талантлив. Он служит мне с большим рвением и в настоящее время хорошо руководит народным образованием. Революция сделала нас в слишком большой степени греками или римлянами; надо внушить нашим детям монархические идеи; это вполне соответствует взглядам Фонтана; по крайней мере он выставляет такие взгляды напоказ. Если бы я ему позволил, он зашел бы даже слишком далеко. Он человек умный, но ум у него маленький. Если бы я его не придержал, то он ввел бы у нас воспитание в стиле Людовика XV…» Эта фраза характеризует подлинные идеалы Наполеона, несмотря на республиканскую позу. Исторических наук, особенно наук социальных, он не любил и даже побаивался. Терпеть не мог Тацита за его непочтительность к цезарям. Хотя после 1800 г., добиваясь упрочения положения, одно время заигрывал с идеологическими дисциплинами. Политическую экономию он и вовсе считал шарлатанством, а просветительскую философию люто ненавидел. Философию подвергают гонению, когда перестают мыслить категориями свободы. Наполеон передал и театры под контроль министра полиции Фуше, а якобинцев и бабувистов, сторонников социальной справедливости, выслал на Сейшельские острова.[619]  Жорж Кювье. Таков же его «роман» с церковью. Хотя серьезные ученые возражали против опоры на религию. Бонапарт проявил ум, узрев в священниках тонких «агентов консульского режима» (таково происхождение и этого «исторического лобызания»). Наполеон рассматривал область веры как одно из полей сражений. Тем более, что вскоре обозначилось стремление церковников захватить место, отводимое образованию. Острее стали разногласия между светской и духовной школами. Церковь постаралась прибрать к рукам не только начальную, но среднюю и высшую школу (когда министром был Фонтен). Церковники повалили валом в школьные аудитории. Стоило ли десяткам и сотням светлейших голов воевать против явных предрассудков религии и священнослужителей, дабы в очередной раз пасть их жертвой?! Энциклопедист П. Гольбах писал: «Функция священнослужителей на этом свете – твердить нам о том свете, преследовать разум, изобретать и преподносить нелепые сказки, выводить из себя тех, кто отказывается им верить, и получать хорошее вознаграждение за свои великие услуги человечеству».[620] Наполеон уроки энциклопедистов помнил, стараясь держать церковь на некоторой дистанции. Он говорил: «Передайте магистру Университета, что ему пристало иметь дело с префектами, а не епископами и не превращать народное образование в дело о котериях и происках церковников». Вероятно, ему вспомнился его разговор с Лапласом. Познакомившись с его учением о происхождении солнечной системы, император поинтересовался, почему там ничего о боге. Отвечая Наполеону, великий ученый как нечто само собой разумеющееся заметил: «Je n`avais pas besoin de cette hypothese» («Я не нуждался в этой гипотезе»). Впрочем, он уже давно пришел к выводу, что «бог на стороне больших батальонов». Хотя воодрузив корону, он стал острее нуждаться и в поддержке церкви. После Аустерлица слово «республика» исчезло с фронтонов французских правительственных зданий и официальных бумаг. Его заменило слово «империя».[621] О тех временах впоследствии Стендаль скажет: «Чем больше шитья на мундирах, тем меньше чести». Император не был обделен талантами. О своих способностях он говорил: «Самое желательное, что сразу выдвигает человека на первое место, это – равновесие ума и таланта с характером и мужеством. Память у меня изумительная. В молодости я знал логарифмы больше чем тридцати-сорока чисел; знал не только имена всех офицеров во всех полках Франции, но и места, где набирались эти части, и где каждая из них отличалась, и даже какого политического духа каждая». Может быть, поэтому он умел находить и использовать таланты. Одним из таких людей был основатель сравнительной анатомии и палеонтологии Жорж Кювье (1769–1832). Знаменательно, что эти два идеолога катастроф нашли друг друга и почувствовали взаимную симпатию… Перед революцией Кювье жил в Нормандии, где провел восемь лет (1788–1795), занимаясь научными изысканиями. Он вместе с А. Броньяром изучил строение Парижского бассейна (региона), установив в 1810 г. третичную систему. Суть его научных воззрений такова. То, что мы видим ныне на Земле, не может объяснить все, происходившее на ней ранее. Земная оболочка пережила ряд страшных и внезапных катастроф, когда были затоплены целые материки. Тогда гибла фауна и флора. Затем все успокаивалось, приходило в порядок и начинался новый процесс. Последняя катастрофа случилась всего 5–6 тысяч лет назад. Ученого подвергли суровой критике, теория катастроф была низвергнута и осмеяна (видимо, до очередной страшной катастрофы). М. А. Энгельгардт так подвел итоги его научной деятельности: «Научные заслуги Кювье огромны. Две великие отрасли человеческих знаний – сравнительная анатомия и палеонтология – были подняты им в степень науки. И ту, и другую он застал в виде хаотической груды материалов; и ту, и другую оставил в виде строгих и точных наук, с определенными методами исследования, с общими выводами и законами… Он был творцом естественной системы животного царства».[622] В 1796 г. Кювье избирают членом Академии наук, а в 1800 г. он занимает кафедру сравнительной анатомии в Коллеж де Франс и назначается секретарем Академии наук. Произошло его знакомство с Бонапартом, незадолго перед тем избравшим себя президентом Академии. Кювье произнес речь. Манера говорить ясно и доходчиво понравилась Бонапарту. Известный остряк Дюпон Немур скажет о нем: «Наконец-то у нас есть секретарь, который умеет читать и писать». Кювье назначают одним из 6 всемогущих инспекторов, которым поручено устройство лицеев в провинциальных городах Франции (в Марселе и Бордо). Живой и правильной речи, даже и научных заслуг недостаточно для успешной карьеры государственного чиновника. Чиновник должен быть благонадежен. В этом едва ли не главное достоинство его (если нет других талантов). Кювье был убежденным консерватором. В отношении Великой Французской революции он высказывался негативно (уже при Наполеоне): «Страшное время, когда убийство приняло имя правосудия» (1806); «Ужасный меч, занесеннный над всем, что только выбивалось из общего уровня»; «Бедствия, которым история не знает равных»; «Гибельная эпоха, когда всякая личная заслуга, всякая независимость были ненавистны правительству, когда можно было хвалить только угнетателей родины и их презренных сателлитов». Гибель его коллег Лавуазье и Кондорсе вызвала в нем законный протест. Прогресс человека он напрямую связывал с прогрессом науки и образования. «Дайте школы прежде, чем давать политические права, – говорил он. – Объясняйте гражданам, какие обязанности налагает на них общество; растолкуйте им, что такое политические права, прежде чем давать их. Тогда улучшения будут достигаться без потрясений; каждая новая идея, брошенная в плодоносную почву, успеет дать росток, развиться и созреть, не причиняя судорог общественному организму». Кювье был своего рода последовательным «соглашателем», ибо считал: нужно иметь дело со всяким правительством, смягчая его крайности и глупости. В дальнейшем его назначат членом Государственного Совета (после возвращения Бурбонов). После краха императора Кювье говорил о роли Наполеона иначе (1816): «Наши плательщики податей были бы и богаче, и счастливее, если бы на подобные завоевания (то-есть научные и промышленные) употреблялась хоть одна тысячная доля того, что у них было вырвано, дабы опустошить пол-Европы и поселить в ней ненависть к нам».[623] Однако в годы царствования диктатора почтенный научный муж хвалил и превозносил его изо всех сил. Насколько это было в его интересах, Наполеон оказывал знаки внимания научным светилам и церкви. Войдя в Германию, наложив на страну огромную контрибуцию, он проявил готовность выделить математику Гауссу солидную сумму (2000 франков). Того назначили директором обсерватории в Геттингене. Однако щепетильный немец не пожелал брать деньги от завоевателя-француза, который ограбил всю Германию. Теплые отношения сложились у Наполеона с Монжем, искренно ему преданным. Сам же властитель, правда, говорил в его адрес: «Монж любит меня, как любовница», – и не упускал случая пококетничать с ним в духе метрессы. В то же время он проявил заметный интерес и глубокое почтение к великому математику и астроному Лапласу, автору «Системы мира». В этой работе Лаплас так говорил о пути ученого: «Успехи в науках создаются только теми истинными философами, в которых мы находим счастливое соединение могучего воображения с большой строгостью в мышлении и тщательностью в опытах и наблюдениях; душу всякого такого философа волнует попеременно то страстное желание угадать причины явлений, то страх ошибиться именно вследствие такого желания». Лаплас обладал твердым, холодным и очень расчетливым умом. Это обстоятельство крайне импонировало императору, который сам был кремень в вопросах дела. Поэтому он даже сделал Лапласа министром внутренних дел, видимо, решив, что с «земной политической механикой» он справится столь же искусно, как и с «Небесной механикой» (которую тот написал и подарил Наполеону). Однако тому не хватило опыта в столь непростом деле, как руководство серьезной политической структурой. В мемуарах, написанных на острове Св. Елены, он, вспоминая о Лапласе, заметил: «Великий астроном грешил тем, что рассматривал жизнь с точки зрения бесконечно малых». Еще откровеннее звучат следующие слова императора: «Первоклассный геометр, Лаплас вскоре заявил себя администратором менее чем посредственным». Впрочем, это и не мудрено. Ученые, как правило, вынуждены все время работать в системе вероятностей и неопределенностей (кстати, Лаплас являлся автором «Теории вероятностей»), а четкий политик и администратор, напротив, действует в рамках вполне определенных, конкретных явлений и обстоятельств.[624] Он поддерживал и других ученых (если только считал их дело разумным и прибыльным). В частности, он уполномочил муниципалитет Лиона приобрести вязально-ткацкую машину Жакара, вдвое сокращавшую расходы фабрикантов. Станок стоил тому 15 лет непрерывного труда, но его купили за годовую ренту в 3 тысячи франков. Подписывая декрет, Наполеон скажет: «Вот человек, довольствующийся малым». Если император все же сумел как-то оценить заслуги изобретателя, то массы повели себя по отношению к нему как невежественные дикари. За это новшество рабочие Лиона чуть его не утопили, назвав изменником. Однако со временем ему был возвигнут памятник. Тиссандье писал: «Станок системы Жакара произвел переворот в ткацком деле, упрочил фабрикацию шелковых материй в Лионе и открыл этому городу источник мануфактурного богатства. Однако не здесь только промышленность обязана глубокой благодарностью Жакару, но также и в Руане, в С. Кантене, Эльбефе, Седане, Манчестере, Берлине, Москве, С. – Петербурге, в Америке, Индии и даже в Китае».[625] Хотя порой и Наполеону изменял его знаменитый глазомер. Одним из самых известных примеров близорукости Бонапарта стала история с изобретателем Р. Фултоном. Как известно, тот построил паровое судно, продемонстрировав его 9 августа 1803 г. на Сене. В числе зрителей были не только простые люди, но и делегаты Академии наук (Бугенвиль, Боссю, Карно, Перье). Однако напрасно изобретатель призывал всемогущего диктатора обратить внимание на свое детище. Тот относился к Фултону как к авантюристу и шарлатану. Вот как описывал маршал Мармон в «Мемуарах» эту историю: «Американец Фултон… предложил применить к мореплаванию паровую машину, как наиболее могущественный из всех известных нам двигателей. Бонапарт, бывший против всяких нововведений вследствие своих предрассудков, отклонил предложение Фултона. Это отвращение ко всему новому обуславливалось его воспитанием… Но благоразумная сдержанность – говоря мимоходом – не должна переходить в презрение к улучшениям и усовершенствованиям. Фултон продолжал настаивать на дозволении ему сделать опыты и показать результаты того, что он называл своим изобретением. Первый консул считал Фултона шарлатаном и не хотел ничего слышать. Два раза я пытался разубедить в этом Бонапарта, но безуспешно… невозможно и определить, что случилось бы, если бы только удалось изменить его взгляды… Фултона послал нам добрый гений Франции. Не послушавшись его голоса, первый консул выпустил из рук свое счастье». А всего четыре года спустя использование пароходов стало реальностью.  Наполеоновские войска в Египте. Совершенно особая статья – колониально-захватнические авантюры Наполеона. В их числе и поход в Египет, который был предпринят им для создания плацдарма с целью захвата Индии и Востока. Наполеон, правда, организовал типографию в Египте, где печатались книги на восточных языках. Он даже привез из Франции ориенталистов, но способности ученых использовались скорее для оправдания агрессии. Египетских шейхов заставляли писать письма турецкому султану, доказывая, что они (французы) являются мусульманами. Император облачался в турецкий халат и рассылал в войска декреты (где были, впрочем, и разумные мысли): «Римские легионы покровительствовали всем религиям. Вы встретите здесь обычаи, отличающиеся от европейских: привыкайте к ним». Обращаясь к народам Египта, он убеждал население, что чтит Коран и Аллаха, но клеймит «тиранство мамелюков». Вскоре он продемонстрировал свой «гуманизм» и «либерализм»: восстание обездоленных жителей Каира было им безжалостно подавлено. Бесспорно, битва при пирамидах представляла собой внушительное и эффектное сценическое действо, как и посещение императором зачумленных солдат своей армии в Яффе. Куда более страшная «чума» поджидала французские войска, которые после поражения у Абукира пали духом и стали заниматься грабежом. Что воочию представляли собой действия там оккупационных французских войск, хорошо известно из воспоминаний мемуаристов. Один из историков так описывал египетский погром, в частности, разгром и осквернение знаменитой мечети ал-Азхар, где располагалась высшая богословская школа (основана еще в X веке). Сначала они открыли огонь из пушек по жилым кварталам. «После очередной ночной стражи… французы ворвались в город и, как поток, не встречая никакого сопротивления, подобно дьявольскому войску, прошли по переулкам и улицам, разрушая все преграды на своем пути… Послав вперед группы пеших и конных, французы проникли в мечеть ал-Азхар, причем въехали туда верхом, а пехота ворвалась, как дикие козы. Они рассыпались по всему зданию мечети и по двору и привязывали лошадей своих к кибла (к нише, указывающей сторону поклонения молящихся во время молитвы – к Мекке, Каабе)… Они буйствовали в галереях и проходах, били лампы и светильники, ломали шкафы студентов и писцов, грабили все, что находили из вещей, посуды и ценностей, спрятанных в шкафах и хранилищах. Разорвав книги и свитки Корана, они разбрасывали обрывки по полу и топтали их ногами. Они всячески оскверняли мечеть: испражнялись, мочились, сморкались, пили вино, били посуду и бросали все во двор и в сторону, а если встречали кого-нибудь, то раздевали и отнимали одежду». Французы полностью снесли мечеть, расположенную около моста Инбабат ар-Римма, разрушили мечеть ал-Макасс и мечеть ал-Казруни, вырубили деревья и снесли множество домов. Так вела себя в покоренной стране одна из наиболее культурных наций. Как могут относиться сыны ислама к такой «просвещенной Европе»! Вот истинная цена миссии белого человека, воспетой Киплингом.[626] Еще более обнаженно и неприкрыто предстал «свободолюбивый дух» крупной буржуазии в тайных указах и распоряжениях правительства Наполеона. После Французской революции негры и мулаты Сан-Доминго (колонии Франции) наивно полагали, что теперь и у них есть право на свободу и равенство. Они послали в Париж делегацию Национальной ассамблеи Сан-Доминго (60 представителей черного и цветного населения). Вскоре на острове разразилась революция (1791). Повстанцы-негры вышвырнули с острова англичан, которых позвали на помощь французские плантаторы. Борьбу возглавил черный генерал Лувертюр. Его вдохновили идеи аббата Рейна-ля. Он говорил собратьям-повстанцам: «Помните правду нашего учения: цвет кожи ничего не значит, когда мысль свободна и дух независим». Как же ответила Франция? Она предала своих черных братьев, срубив «древо негрской свободы». В романе А. Виноградова «Черный консул» рассказывается об этих событиях. Лидер восстания Туссен Лувертюр был схвачен и погиб в застенках. В романе есть сцена, где морской и колониальный министр Франции Декре требует от генерал-капитана Леклерка восстановить на Гаити рабство. Он доносит до коменданта Сан-Доминго (1802) указания наполеоновского правительства: «Я имею передать вам намерения и распоряжения правительства. В том, что касается возврата к прежнему режиму черных, естественно, вы проявите некоторую дипломатическую сметливость и политическую осторожность, в силу кровавой борьбы Правительство говорит вам: не спешите с немедленным свержением ложного кумира свободы, во имя которого, увы, в самой Франции пролито столько напрасной крови. Это значило бы поспешностью вызвать войну… Эти условия полевого и военного положения должны постепенно и неуклонно переходить в позитивное рабство цветных и черных людей ваших колоний… Тогда наступит момент вернуть черных и цветных людей в их естественные условия, от которых они были освобождены только в силу роковой случайности. Что касается торговли неграми, то она более чем когда-либо необходима в целях рекрутирования рабочей силы для мастерских и предприятий после того огромного опустошения, которое было произведено в них десятилетними волнениями, в силу чего свободные места остались незамещенными. Итак, ваша цель в Сан-Доминго – поощрять негроторговлю, бесспорно поощряя покупателя уверением в том, что его права покупщика негрской силы ограждены законами Французской республики».[627] Позор тех, кто предал «черную республику», нельзя забыть. Экспедиции и войны Бонапарта преследовали конкретные, земные, прагматические цели. В основе их – стремление достигнуть военного, политического и экономического господства Франции в Европе и мире. И тут он развил кипучую деятельность. Историк отмечал, что результатом наполеоновских побед стало создание системы «глубоко эшелонированной обороны».  Ф. Туссен-Лувертюр. Эта рациональная и жесткая система ставила целью экономическое удушение Британии. Наполеон старался поддержать и собственную промышленность, отгородив Францию от остальной Европы высокими таможенными барьерами. Но главным тут было иное. Жизни миллионов людей поставлены на карту во имя достижения призрачных целей мировой империи. Он фактически действует с помощью дипломатии пушек. В традиционной дипломатии его методой были ультимативные требования. Еще будучи первым консулом, он заявил, что не уступит ни одного из своих островных владений в Америке. Он не отдаст не только Тобаго, но «даже какую-нибудь скалу, если бы такая существовала и на ней имелась бы всего лишь одна деревня со 100 жителями». Сдача хоть маленького островка означала бы «бесчестье для французской нации». Это в России продажные дипломаты и вожди готовы с легкостью сдавать гряды островов, полуостровов и даже целые регионы из-за желания понравиться Европе, Азии и Америке. Наполеон бросал вызов не только англичанам или русским, но и… самому Александру Македонскому. Вот как описывал его глобальные прожекты покорения мира известный русский писатель В. Н. Ганичев: «Но у Наполеона были более грандиозные планы. Он не со многими делился ими. Египет – это древнее царство Птоломеев – он покорит. Молниеносный поход в Левант и Сирию, груды золота и склонившиеся страны, обращение к порабощенной Индии – и его победоносное войско проходит стремительно путь до Нила. А затем возвращение в Европу, он утверждается в Константинополе. Двумя ногами он станет в мире – в Азии и Европе. Все уже забыли о победах Македонского, а он напомнит».[628] Надо ли говорить, что для многих народов последствия таких войн были трагичны. Однако и сам французский народ понес немалые потери. Континентальная блокада привела к недостатку и дороговизне сырья. Разразился тяжелейший кризис в промышленности и сельском хозяйстве. Оборот внешней торговли за пять лет до 1811 г. снизился в 1,5 раза. Хлебный неурожай 1811 г. ухудшил и без того неважное положение сельского хозяйства. Цены на хлеб росли стремительно. К 1812 г. в ряде местностей, пострадавших от неурожая, население питалось уже отрубями и лебедой. В промышленности останавливались многие заводы и фабрики. Росла безработица. Если в Париже, во имя поддержания спокойствия, давали пособия булочникам, населению раздавали даровой хлеб и устраивались дешевые столовые, то это во многом благодаря жесткой политике Наполеона. «Собственники, – говорил император, – никогда не бывают в согласии с народом, и первая обязанность государя, не слушая их софизмов, стать на сторону народа». По крайней мере он понимал, что главным ресурсом в стране является народ, а не капитал. Правда, он и пользовался этим «ресурсом» без всякого колебания и сожаления. Количество призываемых на военную службу росло с каждым годом: в 1811 году призвано уже 300 тысяч человек, а в 1812 г. общее число рекрутов составило 427 тысяч человек. Призывали даже тех, кто еще не достиг призывного возраста (в 1811 г. число «уклонистов» от призыва достигло 80 тысяч). Особенно непопрулярны были наборы на «войну против русских» (война 1812 года). По словам префекта полиции Паскье, «если недовольство, вызывавшееся ими, не доходило до открытого бунта, то, во всяком случае, они во всех классах населения вызывали глубокую скорбь». Однако реальное положение дел прикрывалось множеством балов, маскарадов, спектаклей. Но главный «спектакль» должен был разыграться на полях России, хотя Наполеон демагогически и пытался уверить своих приближенных: «Огромную услугу оказал бы мне тот, кто избавил бы меня от этой войны».[629] О том, как объединенные рати Наполеона вели себя в некоторых европейских странах, писал А. С. Пушкин в известном стихотворении «Бонапарт и черногорцы»: Черногорцы? Что такое? Полчища «Наплюйона» (так величали его в России) принесли немало страданий и русскому народу… Его войска разграбили и сожгли дотла Москву. В период почти поголовного увлечения Наполеоном в Европе, лучше многих других понял его внутреннюю суть российский император Александр I. Ещё в 1802 г., после того как Наполеон объявил себя пожизненным консулом, царь пишет Лагарпу: «Я совершенно переменил, так же как и Вы, мой дорогой, мнение о первом консуле. Начиная с момента установления его пожизненного консульства, пелена спала: с этих пор дела идут всё хуже и хуже. Он начал с того, что сам лишил себя наибольшей славы, которая может выпасть на долю человека. Единственно, что ему оставалось, доказать, что действовал он без всякой личной выгоды, только ради счастья и славы своей родины, и оставаться верным Конституции, которой он сам поклялся передать через десять лет свою власть. Вместо этого он предпочёл по-обезьяньи скопировать у себя обычаи королевских дворов, нарушая тем самым Конституцию своей страны. Сейчас это один из самыз великих тиранов, которых когда-либо производила история».[631] Иные французские историки пытались возложить вину за вторжение войск Наполеона в Россию на самих русских. А. Мале, утверждал, что «то была хитрость России выступить с инициативой мер, за которыми, собственно, и последовала война». Далее он продолжал: «Александр I повернулся против Наполеона с 1810 г., почти столь же внезапно как он повернулся к нему в 1807 г. Среди причин разрыва союза между ними можно назвать: враждебность русской аристократии к Франции; потери, которые приходилось нести все той же знати в результате континентальной блокады; и наконец, в особенности характер и амбициии самого русского царя. Тильзитский договор возмутил и шокировал русское дворянство, ибо эти дворяне, относившиеся к крестьянам как к рабам, восприняли с ненавистью тот дух свободы, что был рожден Великой Французской революцией. Надо признать, что и первый французский посол, которого Наполеон направил в Петербург, плохо подходил для такой роли. Он нашел тут холодный прием: никто из владетельных особ даже не желал приглашать его в дом. В церквях он публично молился против французов».[632] Всегда находятся те, кто готов сделать из русских самых закоренелых злодеев. Когда же сами попадают впросак, просят о помощи. 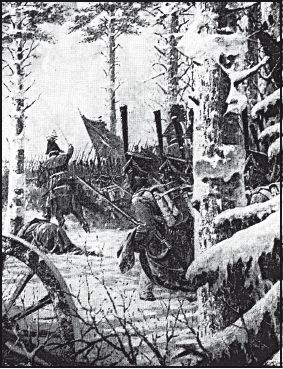 В. В. Верещагин. В штыки! Ура! Ура! Говоря о битве русских против французов (1812), Ф. Глинка подчеркивал, что те руководствуются корыстными и эгоистичными побуждениями: загрести им обещанные сокровища, добраться до цели и вернуться с награбленным. Русские же думают об ином: как заслонить собою «сердце России и мать городов», как отстоять родную землю и спасти поруганные алтари, сохранить прах отцов и матерей. Все оружие Европы стремится столкнуть русских (как нынче – сербов) в небытие. Однако этого не сможет сделать никто благодаря великому мужеству и самопожертвованию великого народа, несмотря на жертвы. «В отечественной войне и люди – ничто! Кровь льется, как вода: никто не щадит и не жалеет ее!»[633] Чем закончился этот всеевропейский, страшный поход в Россию, хорошо известно… Французы были изгнаны, а русские взяли Париж. Автор «Солдатской песни» (Иван Кованько), напечатанной в «Сыне Отечества» (сентябрь 1812 г.), оказался полнейшим провидцем, когда написал в дерзком стихотворении (за него даже цензора уволили) чистую правду об этом нашествии: Хоть Москва в руках французов, Русские войска, вступив на землю Европы и Франции в 1815 г., вели себя там несравненно гуманнее и цивилизованнее. Барклай-де-Толли 18 июня 1815 г. писал генералу Сабанееву: «Не могу довольно возблагодарить господ воинских начальников за то величайшее удовольствие, которое мне доставляют сведения приватные и многие формальные отзывы от начальства в Германии о скромном и тихом поведении войск наших во всех тех местах, чрез которые они по сие время проходили». После подписания трактата о первом парижском мире (1814) войска союзных держав очистили территорию Франции. Наши войска в богатой Европе и Франции, к тому времени ограбившей полмира (не будем забывать об этом), вели себя достойно. Хотя материальное положение победившей русской армии было нелегким. Как отмечал полковник А. С. Лыкошин в статье «Русская армия во Франции», в возвратившихся из Франции полках мундиры и панталоны были «испещрены разноцветными заплатами, иногда даже кожаными, так что трудно было определить цвет сукна; шинели пришли в ветхость, и их не хватало по числу людей; кивера были всевозможных форм, русских и иностранных, ранцевые ремни заменялись веревками; ружья были всевозможных систем – русских, прусских, английских и других, причем их не хватало на весь штатный состав нижних чинов»… Впрочем, после краткого ее пребывания во Франции ситуация существенным образом изменилась для тех, кто оставался там (даже на малое время). Русские войска увидели, что европейская жизнь и в самом деле не так уж плоха. Зачастую она была куда как лучше, чем в их любезном отечестве. Любопытные признания находим в письме домой русского офицера Вепрейского (август 1815 г.): «Наша армия в таком теперь виде, в каком никогда не бывала: полки комплектные, одеты чудесно, все в тонких мундирах; люди разъелись так, что у многих мундиры не сходятся; больных почти вовсе нет; все сделалось ловко, без палок, редко слышно, чтобы случилась какая-нибудь шалость; солдаты всем довольны и начинают чувствовать, что они значат, и гордятся своим состоянием; спросите теперь у 200 тысяч русских, которые находятся здесь, всякий из них согласится нюхать лучше дым французский, нежели русский; что-то будет, как назад пойдем в благословенную Россию!»[635] Франция при императоре Наполеоне походила на деспотическое царство. Диктатор похож на маркиза де Сада, чьим фантасмагориям вынуждены были внимать народы. Вот как оценивал это нашествие упомянутый Шатобриан: «Ряд наполеоновских войн, побед и поражений могут составить обширную Илиаду, поход в Россию – потрясающую трагедию, с которою всякая другая трагедия, вылившаяся из под пера поэта, не может сравниться». Однако тема «Наполеон в России» – предмет уже иного повествования, как и совсем другой книги. Мы видели, во что обошлась человечеству наполеоновская «легенда». Удивительно, но этот палач стал героем многих произведений литературы и искусства. Бетховен создал в его честь «Героическую» симфонию (впрочем, затем порвал своё посвящение). Наполеон и в эпицентре поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш» («За нас, – все хором восклицают, – // Сам бог: с Наполеоном – он, // А с нами – сам Наполеон!»). В Польше завоевателя превозносили, как нигде в мире, видя в нем смертельного врага России и «верного друга Польши». Мицкевич проповедывал культ Наполеона в своих лекциях в Коллеж де Франс. В 1849 г. он писал в «La tribune des peuples»: «Под наполеоновской идеей следует понимать воплощение французского принципа, борящегося с русским принципом (оба они стремятся к тому, чтобы овладеть Европой)! Бонапартизм же, наоборот, это – стремление использовать имя в интересах одного человека, одной семьи, то же самое, что орлеанизм или легитимизм». Наполеон в глазах Мицкевича это – «революция, ставшая правильной властью. Это социальная идея, ставшая правительством. Наполеон, это тысяча еще других вещей, которые народ осуществит, а нас заставит объяснить». За этим именем, по мысли польского поэта, скрываются те начала, которые «народ боготворил в лице Наполеона» (вера в великий народ, в принципы, которые этот народ провозгласил, единство слова и дела и т. д.). Как видим, иные узрели в нем мессию, призванного преобразить мир. Однако тот никогда не обещал полякам возродить Польшу, презрительно бросая в их адрес: «Я посмотрю, достойны ли вы быть нацией». Не помогли даже чары и прелести 18-летней Марии Валевской, которая несколько недель кряду в уединенном прусском замке Финкенштейн отдавала «сиру» всю себя, страстно защищая «будущую независимость Польши» (1807).[636] Хотя и сам полководец влюбился в прекрасную польку, удовлетворенно заметив, что если Бонапарту женщины порой отказывали, то Наполеону никогда. Плодом этой необузданной страсти стал не только сын, будущий принц Валевский, но и независимость части Польши – Великого герцогства Варшавского.  Мария Валевская – возлюбленная Наполеона. Кто только не прославлял Бонапарта (Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шелли, Беранже, Гейне и т. д.). Даже испанский художник С. Дали скажет, что в 7 лет он мечтал быть Наполеоном. Оставим великим их заблуждения. Мы же видим за этой мифологической фигурой призрак Смерти. С приходом Наполеона народы обрели не вольность и свободу, не расцвет наук, культуры и образования, а невиданные муки и страдания. Куда ближе к истинной оценке его роли вердикт, вынесенный ему главами европейских правительств (1815 г.). В нем он назван врагом человечества и объявлен вне закона.[637] Кстати, два признанных гиганта – Бальзак и Делакруа, так и не снизошли до императора: нет Наполеона ни на страницах «Человеческой комедии», ни на полотнах Делакруа (тот не закончил ни одну из посвященных ему картин). Правда, Бальзак упоминает вскользь о нем на страницах романа «Темное дело», где пишет о «его неотразимом обаянии» (тогда еще консула) в глазах французской публики… Что же касается «властителя дум» Шатобриана, тот и вовсе люто ненавидел Наполеона, называя его ничтожеством «под маской Цезаря и Александра» (позже он скажет о нем так же, но несколько в более благоприятном смысле: в статье «Бонапарт и Вашингтон»). Для Виктора Гюго корсиканец – это «божий бич», который послан на землю небом. Писатель говорил как в 7 лет увидел Наполеона во время торжеств в Пантеоне: тот поразил его своим видом – «как бог из бронзы» (он даже посвятит ему романтическое стихотворение). Свои детские воспоминания об императоре оставил и поэт Г. Гейне: лицо у Бонапарта мраморного цвета, как на греческих и римских бюстах, глаза «ясные, как небо, они могли читать в сердцах человеческих», на челе «витали духи будущих битв»; позже оценки иные – «вульгарная физиономия». Известно, что массы и личности никогда не прощают кумирам краха их иллюзий. К корсиканцу обращал свои бессмертные строки и Александр Сергеевич Пушкин: О ты, чьей памятью кровавой Поэт не вполне прав: ненависть еще не скоро почила. Тяжкие последствия вторжения наполеоновских полчищ долго еще будут отзываться на судьбах народов. Видно, губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин был недалек от истины, заявляя в одном из своих писем: «Стоило ли жизни близ двух миллионов людей, потрясений всех властей и произведения непонятных варварств и безбожия, чтобы сделать из пехотного капитана Короля» (императора Наполеона). Ясное дело, не стоило. Однако возникает вопрос: «Мог ли вообще Наполеон стать продолжателем великого движения мысли, начатого философами Европы в середине XVIII века?» Выразим некоторое сомнение. Не стоит ждать от генералов ренессансов. Мозги генералов западного мира устроены иначе. Писатель Мопассан был в чем-то прав, сказав: «Военная каста – это бич нашего мира. Мы боремся с природой, с невежеством, с препятствиями всех видов, чтобы облегчить тяжелое бремя нашей злосчастной жизни. Благодетели человеческого рода, ученые, посвящают всю свою жизнь, отдают весь свой труд, изыскивают средства, которые могли бы помочь, спасти, облегчить наши страдания. Они работают настойчиво и плодотворно, накопляют открытия, расширяют человеческий кругозор, раздвигают границы науки, ежечасно одаривают человеческий разум новыми сокровищами знания, ежечасно увеличивают счастье, изобилие, силу своего отечества. Но вот грянула война. В полгода генералы разрушают все, что создано человеческим гением за 20 лет упорного труда».[638] Пока есть хотя бы малейшая возможность прибегнуть к разуму и знаниям для решения насущнейших задач государства, народа, следует действовать в рамках законности, согласия и мира. Порядок наилучшего свойства – результат сотрудничества, взаимопонимания спорящих и конфликтующих сторон. Если же этого нет, если в социуме власть каким-то образом захватили люди безответственные, а наверху оказались воры, бандиты, демагоги и невежды, дело худо. Тогда обстоятельства могут потребовать чрезвычайной власти и диктатуры. Конечно, есть определенный резон в словах С. Сигеле, который пишет («Преступная толпа»): «Всякая диктатура по необходимости приводит к деспотизму и несправедливости, так как тот, кто имеет возможность сделать все, на все решается. Это считается психологическим законом». Возможно, и так. Однако это лишь часть правды. А надо бы сказать и о другом. Иначе мы намеренно искажаем картину. Дело в том, что под личиной «демократий» сегодня фактически скрывается диктатура охлок-ратов и плутократов, власть верхов, кучки «жестокой, неукротимой, потерявшей всякое чувство справедливости, находящейся в состоянии буйного помешательства».[639] По сути, это – преступная банда. Чтобы обуздать ее, нужен умный, волевой, смелый диктатор. Можно сколько угодно осуждать диктатуру армии, но порой её помощь необходима. Только её мощь может раздавить бандитов и обуздать воров. Твердый порядок может быть выходом из тупика. Она привлекает не только поклонников сильной власти, но и простой народ. Разумеется, власть военных должна быть заменена после того, как ситуация в стране выправится. Но возможна ли сильная власть при демократии? Лишь при условии, если речь идет об истинно народной демократии, а не о плутократии, нагло шествующей в ее наряде. И все же не исключаю, что в ряде случаев для иных стран (Россия в их числе) порой абсолютно необходима умная и жесткая Диктатура. Иногда народ склоняется к Диктатуре, как беспризорный ребёнок, брошенный непутёвыми и подлыми родителями. Он готов прижаться к первой же попавшейся на пути груди (того, кто проявит хотя бы минимальную заботу и знаки внимания). К сожалению, диктатура не бывает без издержек. Следует помнить, что и крупная буржуазия хочет иметь своего генерала, хотя выражается не столь откровенно как Сийес, заявивший в 1799 г.: «Мне нужна шпага!» Что изменилось в 1999? Ничего! Если стране повезёт и во главе её встанет одарённая и многогранная личность, она последует советам умнейших ученых и энциклопедистов. Такие просвещенные диктаторы редки. Иной же приведет народ не к процветанию, а к бойне, к трагедии вселенского масштаба, к удушению свобод, к экономическому и промышленному спаду, к гибели миллионов. Храни и нас Господь от такого правителя («героя дивного»). Тем более что в России кандидатов в Наполеоны всегда хватало с избытком. В одной из бесед Ф. М. Достоевский даже произнес целую речь по этому поводу. Он говорил, что в Петербурге среди литераторов была такая поговорка, что нет, дескать, ни одного поручика, который не мечтал бы выйти в Наполеоны. Таков пушкинский Германн, у которого «наполеоновский профиль». И это вовсе не случайно. Германн – это российский Бонапарт, нетерпеливо ждущий собственного Тулона. Мало ли таких Бонапартов шаталось (и шатается) не только по столицам, но и по всем самым глухим русским захолустьям! Такие есть в Саратове и Сибири. «Мой друг литератор Бутков, выходец из саратовских мещан и большой практический философ, как-то в одном разговоре чрезвычайно тонко заметил, что после двенадцатого года в России миллионы разумных голов закружились от мечтаний о Наполеоне».[640] После краха, на острове Св. Елены, он уверял своего друга Лас Казаса, что мечтал выработать единый общеевропейский кодекс, создать европейский кассационный суд, унифицировать вооруженные силы, установить на континенте единую денежную систему и систему мер и весов и т. п. «Европа, – говорил он, – действительно превратилась бы в единый народ, и в своих путешествиях каждый везде находился бы на своей великой общей родине». В его планы входило создание «семьи европейских народов», которая представляла бы собой организацию «типа американского конгресса или судебной палаты греческих амфиктионов». Во главе единой и многонациональной Европы должен был бы стоять император Наполеон. Что представляла бы собой эта объединенная Европа, построенная на конфедеративной основе? Для русских сегодня нелишне заглянуть за ширму громких рассуждений о «едином европейском доме». Наполеон был довольно откровенен, рассказывая о своих замыслах и планах. В 1809 г. Меттерних так обрисовал картину будущей Европы, как она тогда представлялась императору: «Европа, охваченная общей реформой. Центральное, обладающее чрезмерной властью правительство оказывает давление на слабых подданных, озабоченных только тем, чтобы влачить жалкое существование, скованное цепями. Испания покорена, Оттоманская Порта выдворена за Босфор, границы Великой Империи простираются от Балтики до Черного моря; Россия… будет оттеснена в Азию».[641] Сегодня мы воочию видим, как натовские наполеоны (кларки, робинсоны, куки, саланы) воплощают разбойничий план в Югославии. После этого они, нейтрализовав армию с помощью «пятой колонны» внутри нашей страны (пользуясь безвольностью и трусливостью Кремля), примутся и за Россию. Они сделают то, что сделал бы Наполеон в 1812 г., когда, угрожая России и Александру I ужасными условиями будущего передела мира («возьму Польшу и Смоленские земли»), говорил: «Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону Востока». Он попытался практически воплотить чудовищный план2.[642] Однако тайный план жив. К слову сказать, непосредственным результатом агрессии Наполеона стала вовсе не единая Европа. Берусь утверждать, что именно «покоритель мира» разрушил те достаточно тонкие и деликатные связи, которые налаживались веками между народами. Он ускорил движение стран в сторону национализма (в сторону дальнейших конфликтов и мировых войн). Это важнейшее следствие наполеоновских войн подметил Н. Я. Данилевский: «Толчок, который довел национальный вопрос до сознания европейских народов, дан был Наполеоном I. Побуждаемый как честолюбием, так и роковым положением, в которое он был поставлен, от победы к победе, дошел он до восстановления империи Карла Великого. Но через 1000 лет после Карла народы, входившие в состав его монархии, уже вполне обособились в национальные группы. Те принципы объединения, которыми обладал Карл, уже давно перестали существовать; новый же принцип политической свободы, будто бы представляемый Наполеоном, можно разве только в шутку подкладывать в основу здания, воздвигавшегося французским императором. Следовательно, вместо нового объединения народов Европы, предприятия Наполеона могли только заставить их сильнее почувствовать свои национальные различия и свои национальные сродства». Это мы увидим в Испании, Германии и Сербии.[643] Европа в силу ряда причин, о которых мы расскажем в другом месте, привыкла видеть в России одно из двух: или некое чудище, или объект колонизации. Десятки и сотни поколений европейцев воспитаны на мысли, что Европа должна противостоять российской Евразии. Когда Наполеон замышлял свой поход в Россию, он был твердо убежден, что не мирное включение славян в «европейский дом», а покорение «этих полуазиатов» даст стимул и основание для создания обширной европейской системы, соответствующей духу столетия и служащей «прогрессу цивилизации» («Дополнительный акт к Конституции империи», опубликованный в период «Ста дней», преамбулу к которому, якобы, написал сам император). Какую трагедию заключает История в том, что она отдает себя в руки таких вот чудовищ. Именно он превратил Францию в милитаризованное государство (Э. Людвиг). Позже после страшного поражения в России он вновь начнет набирать армию. Меттерних, увидев этих молодых людей, выскажет Наполеону упрек: «А кого вы будете набирать завтра, детей?» Тот в дикой ярости бросил ему под ноги шляпу и выкрикнул с пеной на устах, словно бешеный: «Вы – не солдат и не знаете, что такое ощущение презрения к человеческой жизни».  Разрушение всемирной монархии (конец всемирного жандарма неминуем). Карикатура И. И. Теребенева. Знатокам рода человеческого давно следовало бы обратить внимание на ту поистине страшную роль, которую сыграл Наполеон в судьбах подрастающего поколения. Иных правителей лучше было бы усыпить еще в колыбели: столь трагичны плоды их правления и царствования для народов (особенно, для молодежи!). Вот и Наполеон сделал войну главным занятием для двух-трех поколений. Это ли не «идеал правления»?! Сколько же убийц и нравственных уродов появилось на свет в итоге воцарения этого «самодура в треуголке»! Увы, пока существует род людской, сражения будут уносить человеческие жизни. Ведь правителям и кланам всегда не хватает власти, лишней земли, короны, ордена, звания, титула, денег, какого-то «нефтяного и газового Эльдорадо». Пока это так, властителям народов всегда потребуются герои: солдаты, генералы, маршалы… Вот и Наполеон громкими победами также во многом обязан своим маршалам. Имена их известны: Бернадот, Даву, Дюрок, Ней, Массена, Мюрат, Ланн и другие. Иные французские историки даже утверждают, что «история института маршалов Франции есть история самой Франции, причем в ее самом благородном виде». В судьбах воинов есть все… Но так как война штука страшная и беспощадная, то благородство тут чаще плетется в самом хвосте добродетелей. С другой стороны, армия – это и есть народ. В ее жизни и смерти спрессованы все человеческие качества, эмоции, страсти, страдания (как скажет тот же А. де Виньи: «Армия есть нация в Нации»). Подумать только, пару поколений назад все бредили науками и книгами! Но вот печальный финал, неизбежный, когда власть попадает к военным и империалистам! О том, что происходило тогда с французской молодежью, написал в своей исповеди и Альфред де Виньи («Неволя и величие солдата»)… Перед нами предстаёт абсолютно искареженное поколение, с извращенным сознанием и ложными идеалами. Эти ребята не желали внимать уже ничему, кроме гула пушек и армейских труб! Граф де Виньи, наследник старинного аристократического рода, гордого своими военными традициями, честно и открыто говорит о настроениях молодых людей во времена наполеоновской империи: «В последние годы Империи я был легкомысленным лицеистом. Война все перевернула в лицее, барабанный бой заглушал для меня голос наставников, а таинственный язык книг казался нам бездушной и нудной болтовней. Логарифмы и тропы были в наших глазах лишь ступенями, ведущими к звезде Почетного Легиона, которая нам, детям, представлялась самой прекрасной из всех небесных звезд. Ни одна рассудительная мысль не могла надолго овладеть нашими умами, взбудораженными непрерывным громом пушечной пальбы и гулом колоколов, которые отзванивали Te Deum! Стоило одному из наших братьев, недавно выпущенному из лицея, появиться среди нас в гусарском доломане и с рукой на перевязи, как мы тотчас же стыдились наших книг и швыряли их в лицо учителям. Да и сами учителя без устали читали нам бюллетени Великой армии и наши возгласы «Да здравствует император!» прерывали толкование текстов Тацита и Платона. Наши наставники походили на герольдов, наши классы – на казармы; наши рекреации напоминали маневры, а экзамены – войсковые смотры».[644] Какие же подвиги совершили во имя Франции ее маршалы? Какова их судьба? Писатель-романтик Новалис изрек афоризм: «Характер – это судьба». Их судьбы и характеры довольно любопытны и героичны. Любители поэзии наверняка вспомнят прекрасное стихотворение М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль (Из Зейдлица)», где есть и такие строки, посвященные её маршалам: …И в час его грустной кончины, Маршалы Наполеона – дети своего народа. Массена – самый крупный военный талант. Мюрат – самый храбрый и элегантный. Бернадот – самый удачливый из маршалов. Можно и дальше подбирать сравнения и эпитеты. Однако давайте уделим им, героям Франции, хотя бы пару строк. Их могилы и памятники далеко, а образы тут вот – перед нашими глазами. Всех мы вряд ли сможем описать (Клебер, Ланн, Жубер, Мюрат, Ней, Бернадотт и др.). Жан Батист Бернадот (1763–1844) принадлежал к зажиточной и почтенной семье, в которой немало юристов. После школы он учился на адвоката. Видимо, профессия его не впечатлила, и он пошел в «морскую пехоту» (в Королевский морской полк добровольцем). Прослужив полтора года на Корсике (в родном городе Наполеона Аяччо) и заработав малярию, он ушел в отпуск по болезни. Революцию он встретил на службе в полку, который был расквартирован в Марселе. Получив в 1792 г. чин лейтенанта, он мечтает о гораздо большем. Как скажет о нем Фуше, «честолюбие, несомненно, было его преобладающей страстью». Что показаал Бернадот как военный? Умение воевать, добротный военный профессионализм. В армии главное – дисциплина: «Армия без дисциплины может одержать победу, но не сможет извлечь из нее пользу». Особых военных лавров он не добыл. В те годы Французской республике не везло на полях сражений. Молодого энергичного полковника, отразившего нападение австрийцев у Гизы, заметил комиссар Конвента, прозванный современниками «ангелом смерти» (Сен-Жюст дал ему чин бригадного генерала). Вскоре он получил следующий чин. Бернадот – в гуще сражений, дружит с генералом Марсо, «львом французской армии». Его и самого называют «богом войны». Однако он не отличается хвастовством и самомнением иных военных, готовых «одним полком» штурмовать Фермопилы. Все обратили внимание на то, что генерал никогда не посылает солдат в бой, очертя голову, не изучив тщательно обстановку. Бернадот лучше помедлит, всё взвесит и десять раз обдумает. Его личное мужество бесспорно. Однако, быть может, главное достоинство командующего в том, насколько он умеет беречь жизнь своих солдат и офицеров. За это его любили больше, чем за громкие победы. Не знаю как для кого, а для меня его прозвище «генерал-плебей» звучит как высшая награда и признание. Знакомство его с Бонапартом было трудным для обоих. Видимо, у них схожие темпераменты. Уровень подготовки войск Бонапарт оценил высоко (и не ошибся). В битвах его солдаты, как и Бернадот, на высоте. Будущий император, хотя и видел в нем соперника, но высоко ценил «гасконского генерал-майора» (тот был родом из Гасконии). Политические интриги привели к тому, что Бернадота назначают послом в Вену. Начало его дипломатической акции было не очень удачным. Посол повел себя, подобно д`Артаньяну, с гасконским пылом и страстью. Он вывесил трехцветный французский флаг, которые разъяренные венцы сожгли. Женитьба на Дезире Клари ввела его в семейство Бонапарта. В 1799 г. его назначают военным министром. И хотя в этой должности он пробыл недолго, он немало сделал для Франции, говоря: «родившись, так сказать, на войне, воспитанный войною за свободу, я чувствовал, что сам вырастаю среди опасностей и побед». Особую роль в его судьбе сыграл эпизод, когда войска Бернадота, форсировав Эльбу, захватили гнездо Гогенцоллернов – Бранденбург. Тут-то ему в плен и сдались воевавшие в армии Блюхера 1,5 тысячи шведов. Бернадот любезно обошелся с их командиром (Г. Мернером) и его солдатами. Вскоре о благородном французском маршале «узнала вся Швеция». Несмотря на сложные отношения с Наполеоном, тот после Тильзита все же жалует Бернадота (князя Понте-Корво) обширными владениями на территории Польши, Ганновера и т. п. Наполеон, несмотря на все свои недостатки, умел ценить талант своих сподвижников. Говорят, он высоко ценил способности князя, восклицая: «Что за голова!»  Битва в ущелье Дьявола. В 1810 году сейм шведского риксдага в г. Эребру единогласно голосует за кандидатуру Бернадота в качестве наследника бездетного Карла XIII. Приехав в Швецию, он вышел из католической и принял лютеранскую веру. История распорядилась так, что ему придется трижды сражаться с наполеоновскими маршалами (Гросбеерн, Денневиц, Лейпциг). Он и тут ведет себя осторожно, говоря адьютанту российского императора Александра I о своем нежелании «проливать французскую кровь». Вместо битв с Наполеоном он (в 1814 г.) предпочел напасть на Данию и вынудил ту «уступить» Швеции Норвегию. Бернадот вздумал унаследовать «бесхозную» корону Франции после отречения Наполеона. С этой целью он прибыл в Париж, где возмущенные французы встретили его криками: «Прочь, изменник! Прочь, вероломный!» Об императоре он скажет (после его триумфальных «Ста дней»): «Наполеон – величайший полководец всех времен, самый великий человек из всех когда-либо живших на земле людей, человек более великий, чем Ганнибал, чем Цезарь и даже чем Моисей». Как бы там ни было, а Бернадот оставил по себе добрую память у народа Швеции и в качестве короля Карла XIV Юхана. В старости он вспоминал о днях героической молодости с грустной улыбкой: «Я тот, кто был когда-то маршалом Франции, а теперь всего лишь король Швеции».[646] Среди маршалов были разные люди. Вот, скажем, Л. Даву (1770–1823), герцог Ауэрштедтский, проконсул Наполеона в Германии, палач Гамбурга, победивший пруссаков в 1806 г. и получивший прозвище «железного маршала». Он принадлежал к известной фамилии. Любовь к истории и современной философии сделали из него ярого республиканца. Как потомок старинного дворянского рода оказался в рядах противников своего сословия? Во-первых, он презирал старое дворянство. Во-вторых, любил родину, и сословная гордость не могла занять в его сердце места отечества. Он твердо встал на позиции служения революции. Противникам из аристократического стана он сказал: «Так вы хотите войны? Хорошо, мы будем сражаться; но на вас падет стыд, а для меня останется слава и честь… Я защищаю свое отечество». В то же время он не желал принимать участия и в «узаконенной расправе» над якобинцами («Должны ли мы быть подвержены тирании любого рода, вроде тирании комитета или клуба?» – писал он своему другу в начале 1794 г.). Поэтому ушел на год в отставку. Затем его восстановили в должности. Началась карьера при Наполеоне. Далеко не все в нем вызывало симпатию среди окружающих. По словам Мармона, он «сам себя назначил шпиком императора и каждый день лично являлся к нему с докладами». Тот называл маршала «сущим мамлюком», афиширующим Наполеону преданность. Маршал бывал порой жесток. Во время обороны Гамбурга (1813–1814), «вершины его воинской славы», он изгнал из города тысячи бедняков в злую декабрьскую стужу (и этим сохранил запасы продовольствия для армии), провел реквизиции в Гамбургском банке и т. д. После возвращения роялистов он пишет письмо маршалу Сен-Сиру (военному министру короля), прося, чтобы все проскрипционные меры правительства против военных, служивших Наполеону во время «Ста дней», были обращены против него. Он просил об этом наказании как о «милости». Замечательной и колоритной личностью был маршал Мишель Ней (1769–1815). Родом он из семьи простого бочара. Закончил католический коллеж. В детских играх был заводилой («маленьким Александром Великим»), что, видимо, и предопределило его судьбу… Ней записался в армию добровольцем. Революция открыла перед ним дорогу. Как скажет один из роялистских авторов, в предводители французских войск были поставлены адвокаты, купцы, сержанты, капралы. Одним словом, армия республики становилась подлинно народной. О нем же можно было с полным правом сказать, что он «имел существование свое от революции» (а я вспоминаю иных генералов и маршалов, что, строго говоря, также получили «существование своё от революции», Великой Октябрьской революции, но предали её дело). Это был честный и храбрый воин. Обратим внимание на одну из инструкций, составленных Неем для своих солдат и офицеров: «Нашим солдатам обязаны объяснять причину каждой войны. Только в случае вражеского нападения мы вправе ожидать проявления чудес доблести. Несправедливая война в высшей степени противна французскому характеру». Знаю, что такого рода война противна и русскому характеру. После того, как Ней стал маршалом (император восстановил это звание, существовавшее во Франции с XI в., но отмененное революцией), он ничуть не возгордился. Он помнил дни, когда две буханки хлеба на столе казались ему куда более ценной добычей, чем маршальские звезды. И все же в нем жил тайный якобинец. Он терпеть не мог верховной власти. Как вспоминала одна современница, «всякая власть казалась ему тяжела», и даже власть императора доставляла беспокойство. Наполеон это ощущал, как-то упомянув о крамоле Нея: «Если бы я должен был умереть от руки маршала, я готов бы держать пари, что это было бы от его руки». И все же никто иной как Ней поведет в битве при Ватерлоо в последнюю атаку «последней армии Наполеона» пять тысяч ветеранов… Впереди в пешем строю, с обнаженной саблей в руке идет Ней! Под ним в бою убито 5 лошадей. Маршал призывает офицеров и солдат «лечь до последнего»! После поражения ему предложат бежать в Швейцарию или в Америку. Однако «храбрейший из храбрых» не предаст родину, не захочет пятнать свою честь. Его арестуют. Нея судила палата пэров. Когда адвокат предложил ему отказаться от родины (и тем самым спасти жизнь), он воскликнул: «Я – француз, и умру французом!» Ней не стал на колени, не позволил завязать глаза. Залп – и маршал упал. Комендант молвил: «Вот великий урок, как надо умирать!»[647] Среди маршалов своей храбростью выделялся и А. Массена (1758–1817). Наполеон называл его «любимое дитя победы». Тот был очень решителен, храбр, неустрашим, честолюбив, воинственен и упрям. А еще он очень любил две вещи – «славу и деньги» (Бурьенн). Император сумел дать ему то и другое. Свои знаменитые победы он одержал при Риволи, Цюрихе, Генуе и Эслинге. Однако сам Массена с завистью говорил, что он «отдал бы все за один швейцарский поход Суворова». Конечно же, позором стали его огромные хищения в армии. Наполеон пишет брату Жозефу в 1806 г., узнав о чудовищных поборах и грабежах Массены: «Массена ни на что не годится… Он хороший солдат, но он не думает ни о чем, кроме денег; только этим и определяется его поведение и это то единственное, что побуждает его действовать, даже тогда, когда я нахожусь с ним рядом. Поначалу он довольствовался небольшими суммами, но теперь и десятки миллионов неспособны удовлетворить его алчность». В другом письме Жозефу, отмечая, что Массена и Сен-Сир стащили 6 миллионов 400 тысяч франков (последний стал военным министром после реставрации монархии), Наполеон потребовал вернуть деньги: «Если он этого не сделает, я направлю в Падую военную комиссию для расследования, так как такого рода грабительство нетерпимо. Заставлять солдат голодать и не платить им жалованья под тем предлогом, что предназначенные для этого суммы денег являются подарком, сделанным ему провинцией, чересчур опрометчиво». Не опрометчиво, а подло. За такие дела маршалов и генералов надо расстреливать перед строем! Как не вспомнить И. Мюрата (1767–1815), потрясавшего товарищей отчаянной храбростью, а сердца женщин – ослепительной фигурой и мундирами! Наполеон говорил, что никогда не видел человека храбрее, решительнее и блистательнее его во время кавалерийских атак. Кентавр с мечом архангела… Наполеон сказал о Мюрате: «Мюрат имел совершенно отличный характер. Он поступил ко мне всем, чем был впоследствии. Он любил, могу даже сказать, обожал меня. В присутствии моем он благоговел и всегда готов был пасть к ногам моим. Мне не следовало удалять его от себя: без меня он ничего не значил, а находясь при мне, был правою моею рукою. Стоило мне только приказать, и Мюрат вмиг опрокидывал 4 или 5 тыс. человек в данном направлении; но предоставленный самому себе, он терял всю свою энергию и рассудительность. Не понимаю, как такой храбрец мог иногда трусить. Мюрат был храбр только в виду неприятеля, и тогда он, может быть, превосходил храбростью всех на свете… В поле был он настоящим рыцарем или Дон-Кихотом; в кабинете – хвастуном без ума и решительности. Но первый был благороднее по характеру, великодушен и откровенен». Наполеон жалел, что не взял его в дело Ватерлоо.[648] Вряд ли его спас бы даже и Мюрат. Если во главе неправедного дела стоит и человек большого таланта, у него нет ни единого шанса на победу. Сколько сил, энергии, мужества, средств, жизней отдала Франция на наполеоновскую авантюру! И что же?! Все кончилось тут, у Ватерлоо. С. Цвейг в новелле «Невозвратимое мгновение. (Ватерлоо, 18 июня 1815 года)» писал, что причина катастрофы Наполеона – нерешительность маршала Груши. Тот не пришел на помощь Наполеону в решающую минуту: «Одну секунду думает Груши, и эта секунда решает его судьбу, судьбу Наполеона и всего мира. Она предопределяет, эта единственная секунда на ферме в Вальгейме, весь ход девятнадцатого века… Если бы у Груши хватило мужества, если бы он посмел ослушаться приказа, если бы он поверил в себя и в явную, насущную необходимость – Франция была бы спасена…»[649] Ничего подобного. Победи Наполеон в битве, неизбежно наступил бы час иного «ватерлоо». Его все равно низвергли бы, а народы понесли бы больше жертв! Наполеон, словно яркая комета, однажды пронесшаяся по небу, привлек внимание миллионов. Великая Отечественная война 1812 года показала, что русский народ непобедим и могуч, и готов прийти на помощь Европе. В «Походных записках артиллериста» современник так оценил итоги завоевательных походов французского императора: «Как страшный ураган убийственным вихрем ниспровергает все существующее на земле, так Наполеон пробежал со своей ратью пространство тысячи верст, от Немана до Москвы и обратно, со всеми ужасами гибельной войны, со всеми бедствиями человечества, истребившими великие силы Франции, вооружение целой Европы и положившими начало сокрушению его колоссального могущества. В шесть месяцев исчезли все его обширные предприятия… и только следы поражений, следы пламени и гибели указали путь на всем пространстве, по которому пробежал этот гений, истребитель человечества. Ежели Европа стонала под тяжким игом власти своего завоевателя и ежели ныне она наслаждается бытием своим в прежнем порядке вещей, то этим обязана, конечно, России: пожар Москвы, эта беспримерная жертва любви народа к отечеству, осветила надежду спасения в узнице. Гигант был потрясен в своем могуществе».[650] Стендаль утверждал, что Наполеон, отправляясь в Россию, постоянно и весело напевал слова из арии, которую он слышал в превосходном исполнении Порто (в «Molinara»):[651] Si batte nel mio cuore L`inchiostro e la farina?[652] Если бы к тому времени Чайковский написал «Щелкунчика», Наполеону следовало бы выбрать одну из вариаций на эту тему, где «король крыс» был побежден отважным солдатом. Что скрыто за его жизнью? Вопросом этим задавался и Гете. Он говорил: «Наполеон отправился на поиски Добродетели, но, не найдя ее, обрел Могущество». Пустые, лживые слова. Не добродетели искал тиран, а безграничной власти. И не могущество обрел он, а бессилие, позор, заточение и смерть. Ныне его имя славят апологеты. Э. Радзинский (в мечтах о русском Наполеоне) пытается уверить, что из всех вояк и диктаторов этот, якобы, завоевал «целый свет одною любовью». Опять «двойная бухгалтерия». Российского диктатора И. Сталина они стараются втоптать в прах, а «цивилизатора» Наполеона готовы воспеть! Впрочем, русский писатель А. Зиновьев отдал XIX век Наполеону, а век XX – И. Сталину. Последствия его походов таковы. В результате их были сокрушены около 250 средневековых, небольших государств, герцогств, княжеств в Европе (в Германии). После этого осталось около 40 государственных образований. Наполеон заметно очистил Авгиевы конюшни Европы от «монархического наследия». Это способствовало буржуазному прогрессу, большей свободе международных и экономических связей. Наполеон провел ряд важных реформ, создал Французский банк, укрепил франк и т. д. История распорядилась так, что ему была уготована судьба полководца, а затем уж реформатора (хотя заслуги его и в этой области все-таки немалые). Сам Наполеон, принимая от Лапласа посвящение в виде «Небесной Механики», восхищаясь ее «совершенной ясностью», кажется, искренне заметил: «Вот для меня новый случай пожалеть, что, увлеченный силой обстоятельств, я пошел по иному, столь далекому от науки, пути».[653] Карлейль прав, сказав: «Придет время, когда сам Наполеон будет лучше известен своими законами, нежели своими битвами, а победа при Ватерлоо окажется менее значительным событием, чем открытие Института механики». Создатель знаменитого «Кодекса Наполеона» (находясь в заточении на острове Св. Елены) и сам утверждал: «Моя истинная слава не в сорока сражениях, выигранных мною; Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и не может быть забыт Гражданский кодекс». Все это так. Кодекс Наполеона действует в большинстве европейских стран и по сей день. Жаль, что светлые мысли посетили его в изгнании, после того, как он огнем и мечом прошел по городам и весям. Пусть уж лучше вожди открывают научные институты, а не кровавые сражения. Кодекса чести и гуманизма Наполеон так и не сумел обрести в своем сердце. О народе в конституции он забыл. Знаменателен его ответ Констану. Он спросил перед Ватерлоо: «Как писать конституцию?» Тот с сарказмом изрек: «Пишите кратко и непонятно». В отношении парламентариев он высказался вполне откровенно (в беседе с Меттернихом накануне похода в Россию): «Законодательный корпус послушен мне, осталось лишь класть себе в карман ключ от зала заседаний. Франция еще меньше годится для демократии, чем другие страны… Поэтому, вернувшись, я превращу Сенат и Государственный совет в верхнюю и нижнюю палаты, депутатов большей частью буду назначать сам. В палатах будут сидеть подлинные народные представители – сплошь опытные деловые люди и никаких пустомель-фантазеров. Тогда Франция получит разумное управление и при бездеятельном монархе – ибо грядут и такие – и обычного воспитания, какое дается принцам, станет вполне достаточно».[654] 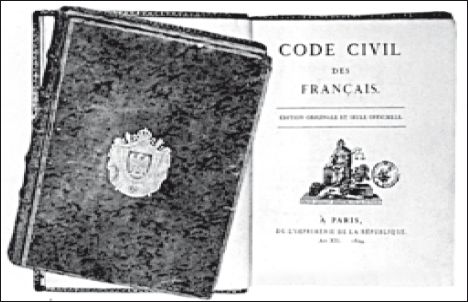 Гражданский кодекс Наполеона действует в большинстве европейских стран и по сей день. На закате жизни, после возвращения с Эльбы (1815), император, якобы, желал примирения с Европою и с народом, говорил, что не хочет завоеваний, не хочет власти одной партии, и что начал, якобы, прислушиваться к советам оппозиции. Он заявил: «Я сын народа: и хочу то, чего хочет он, я готов слушать его волю». Похоже, Наполеон понял, что для создания мировой империи у Франции нет сил («Для этого нужно двадцать лет и два миллиона…»). Однако его раскаяния запоздали. Он уже принес миллион на алтарь Молоха. И вот израненной и обескровленной стране он обещает мир, говорит, что состарился и жаждет быть «императором земледельцев, плебеев Франции». Уверяет, что его девизом станут слова «Все – нации, все для Франции». Будут публичные прения и ответственные министры. Отменяется цензура. Однако декретом от 10 апреля 1815 г. он самолично пересмотрел конституцию и учредил наследственную палату пэров, видя в ней узду для народа Франции. Нет, нет, тираны не меняются. Только их гибель несколько примиряет нас с фактом их существования. По сравнению с ничтожествами во власти Наполеон сочетал ум и решительность. Однако непомерное честолюбие и цинизм погубили в нем его лучшие начала. Хорошо знавшие его говорили, что он всегда был полон лицемерия и фальши. Гонкур имел право написать о нем в «Дневнике»: «Все фальшиво, все ложь, все реклама у этого человека, замечательного актера, у которого, по словам Сегюра, никакая страсть не бывала бескорыстной».[655] Были ли у него обычные человеческие слабости? Вероятно, как и у всех других людей. Бонапарту не чужды были любовные страсти. Ж. Сименон говорил: «Мне отвратителен Наполеон. После одного из сражений, где погибло 30 тысяч французских солдат, он пишет жене послание: «Все это ничто по сравнению с тем, что завтра я буду в твоих объятиях»… Но в признании воина нет ничего неестественного или тем более постыдного. Любовь к женщине часто заставляет мужчин терять голову. Так, он писал из Италии жене, Жозефине Богарне, прекрасной креолке, сменившей постель казненного мужа на ложе правителя Барраса, а затем доставшейся в качестве «трофея» и Наполеону. Так вот, диктатор угрожает ей участью Дездемоны. В другом письме (к Карно) Бонапарт восклицал: «Я в отчаянии, моя жена не едет. У нее наверняка есть любовник, он-то и удерживает ее в Париже. Проклинаю всех баб!» В его словах ощущается та же слепая ярость командира, что и в одном из его приказов по армии, когда он решил, было, изгнать из нее всех шлюх, коварно разоружавших его славных солдат своими прелестями: «Если через 24 часа после зачтения этого приказа в армии будут обнаружены женщины, не имеющие соответствующего разрешения, их следует вымазать черной краской и выставить на два часа на всеобщее обозрение».[656] Однако, став императором, он быстро растерял и свое «целомудрие», и былые «мавританские страсти» к Жозефине. Перед смертью он размышлял уже об ином: как оценит его история. Врагов немало, но Наполеон был уверен, что им не удастся сокрушить его пьедестал. «Они будут грызть гранит», – уверял Наполеон. И все же какова самооценка императором его собственной жизни и деяний? «Пусть стараются урезывать, безобразить, коверкать мои поступки, все-таки трудно будет совершенно уничтожить меня, – писал он. – Историк Франции все-таки будет рассказывать, что происходило во время империи, и будет вынужден выделить некоторую часть подвигов на мою долю, и это ему почти не представит труда: факты говорят сами за себя, блестят, как солнце. Я убил чудовище анархии, прояснил хаос. Я обуздал революцию, облагородил нацию и утвердил силу верховной власти. Я возбудил соревнование, награждал все роды заслуг и отодвинул пределы славы. Все это чего-нибудь стоит! На каком пункте станут нападать на меня, которого не мог бы защитить историк? Станут ли бранить мои намерения? Он объяснит их. Мой деспотизм? Историк докажет, что он был необходим по обстоятельствам. Скажут ли, что я стеснял свободу? Он докажет, что вольность, анархия, великие беспорядки стучались к нам в дверь. Обвинят ли меня в страсти к войне? Он докажет, что всегда на меня нападали. Или в стремлении к всемирной монархии? Он покажет, что оно произошло от стечения неожиданных обстоятельств, что сами враги мои привели меня к нему. Наконец, обвинят ли мое честолюбие? А! Историк найдет во мне много честолюбия, но самого великого, самого высокого! Я хотел утвердить царство ума и дать простор всем человеческим способностям. И тут историк должен будет пожалеть, что такое честолюбие осталось неудовлетворенным!.. Вот, в немногих словах, вся моя история!»[657] Уверенность императора в абсолютной беспринципности и угодливости историков не лишена, конечно же, основания. Но не до такой же степени! Есть историки иного типа, что, подобно Ж. Мишле, «всем сердцем с народом», а не с царями, императорами, президентами, тиранами. Они воздадут им по заслугам. Впрочем, нашлись во Франции люди трезвого ума, каковым был писатель-романтик А. Ламартин (1790–1869), автор «Истории жирондистов». Позже он так скажет о Наполеоне (правда, уже после возвращения того с Эльбы): «Нужны призма славы и иллюзия фанатизма для того, чтобы видеть в его лице того времени тот идеал духовной красоты и врожденного царственного величия, который впоследствии придали его лицу мрамор и бронза… Его впавшие глаза беспокойно следили за народом и войсками. Его рот улыбался механически толпе, в то время как мысли, очевидно, были где-то далеко».[658] Таков этот «властитель дум» многих европейцев конца XVIII-начала XIX вв. По сути своих поступков Наполеон ничем не отличался от демономаньяков средних веков, изуверов инквизиции или разбойников НАТО. Микроб зла уживался в нем с микробом цинизма. Франция отдала миллионы жизней. Ради чего? Завоевание мира? Наполеон желал, чтобы Франция правила всем светом. Однако как можно «править всем светом», уничтожая безжалостно народы! Тот, кто мечтал о власти над целым миром, обрел в качестве пристанища черную скалу острова Св. Елены. В день его рождения и гибели небо осветила яркая комета. Судьба его предначертана. Она действительно подобна падучей звезде, о которой писал Беранже: Зловещий блеск, душа моя! Яркой «звездой» буржуазной эпохи был и Талейран… Знатный род Шарля Талейрана (1754–1838) (отец – князь Шале, граф Перигор, воспитатель дофина) во многом определил его судьбу. Талейран получил образование в известных учебных заведениях Франции (коллеж д`Аркур, семинария Сен-Сюльпис, Сорбонна). Предполагалось, что он станет священником, но вышло иначе. «Зачем учиться в семинарии, – писал он, – если хочешь быть министром финансов». Уже на исходе жизни он признался: «Вся моя молодость была посвящена профессии, для которой я не был рожден». Тем не менее, в возрасте 34 лет, благодаря покровительству короля, Талейран получил сан епископа (и 52 тыс. ливров дохода в год). Головокружительная и блестящая карьера лишь начиналась. В течение многих лет Талейран будет возглавлять дипломатическую службу Франции: он – министр иностранных дел во времена Директории, в период Консульства и империи Наполеона, а затем при Людовике XVIII. Во времена, когда быстро меняется политическая обстановка, общество порой «нуждается» в циниках и проходимцах высочайшей пробы. К таким особам, бесспорно, он и принадлежал. Один из богатейших людей в Европе. Талейрана называли «великим магистром ордена взяточников». В уме дипломату, тем не менее, не откажешь. Наполеон называл его «самым большим лжецом века», но это не мешало императору использовать ловкого вельможу. Он и сегодня наверняка пришелся бы ко двору иных правителей. Один из самых ловких политиков, каких только знала мировая история. Ведь удержался на такой должности при разных строях! Novus rex, novus lex! («Новый царь – новый порядок!»). Вряд ли какому-либо из министров иностранных дел в Европе удастся повторить его карьеру. Он обладал разносторонними талантами, умом, трудолюбием (масса документов составлено лично им). Заслуги его на дипломатической ниве не столь очевидны, хотя он и не скупился на саморекламу: «Конкордат, Амьенский мир, политическая организация Италии, швейцарское посредничество, первые попытки восстановления федеральной германской системы свидетельствуют о деятельности, мудрости и влиянии администрации, которую я создал и которой я руководил». Он очень искусно вел дипломатические переговоры и беседы. Наполеона однажды спросил Талейрана: «Вы король беседы в Европе. Каким же секретом вы владеете?» Тот ответил: «Когда вы ведете войну, вы всегда выбираете ваши поля сражений?.. И я выбираю почву для беседы. Я соглашусь только с тем, о чем я могу что-либо сказать. Я ничего не отвечаю… В общем, я не позволю задавать себе вопросы никому, за исключением вас. Если же от меня требуют ответов, то это именно я и подсказал вопросы». При этом он был довольно жестким человеком и требовал от подчиненных работоспособности и лояльности. В отношении свободы мнений Талейран занимал вполне «демократическую позицию», говоря: «Я прощаю людям, которые не разделяют моего мнения; я не прощаю им, если они имеют своё».[660] Что же касается собственно политических пристрастий, он ревностно отстаивал интересы Франции (и Австрии) против России. В ответ на упрек Наполеона – «Вы всегда австриец» – признавал: «Отчасти, Ваше Величество, но правильнее было бы сказать, что я никогда не бываю русским и всегда остаюсь французом». Талейран ничуть не заблуждался в отношении морального облика «обожаемого патрона», сказав о Наполеоне: «Этот человеческий дьявол смеется над всеми; он изображает нам свои страсти, и они у него действительно есть». В свою очередь и Наполеон видел в его лице великого мастера двойной игры, говоря о Талейране: «Он – единственный, кто меня понимает». В хитрости, коварстве, проницательности ему не откажешь. После того как будущий крах Наполеона обозначился, он повел скрытую игру против «хозяина», взвесив все «за» и «против». Возможно, этим объясняется и его признание русскому царю в Эрфурте. Во время секретной беседы он заявил Александру: «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ – цивилизован, французский же государь – не цивилизован; русский государь – цивилизован, а русский народ не цивилизован; следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа». На деле это означало лишь одно – предательство. Талейран показал всем своим тогдашним и будущим «коллегам», как можно выгодно и ловко торговать секретами и интересами своей родной страны. Наполеон перед всем своим двором кричал: «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! Вы не верите в Бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца!.. Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы – грязь в шелковых чулках!» Что же Талейран? Направился к австрийскому послу, в стан противника, прямо предложив свое сотрудничество. Меттерних писал в Вену: министр «снял передо мною всякую маску», заявив о готовности «вступить в прямые сношения с Австрией» и намекнул: что цена за его «услуги» – несколько сот тысяч франков.[661] Впоследствии иные попытаются обелить поступок Талейрана, ссылаясь при этом чуть ли не на царя Давида, говоря: мол, и сам министр иностранных дел считал, что нет ничего на белом свете, что можно назвать «предательством». Поскольку все в жизни меняется, то и предательство, дескать, лишь вопрос времени и места. То, что уже не существует в реальной жизни или фактически отмерло (монархия, Наполеон, империя или что-то еще), не есть объект предательства… Только для достойного человека Родина всегда остается родиной, а предатель, хоть он и министр – всегда предатель, какие «козыри» не доставай! Знаем и мы министров иностранных дел, которые сделали «своей профессией» служение и преданность иностранным дворам и державам. Их подлость и двуличие оценены там по достоинству. Такой политик – бесценная находка для Запада. Эти люди следуют словам одного из героев Бальзака (Вотрена): «Принципов нет, а есть события; законов нет – есть обстоятельства». Его кредо выражено в словах: «Дипломатия – наука о коварстве и двуличии». Предатель, циник, интриган, Разумеется, есть естественная и закономерная перемена взглядов. Это – дело житейское. Как говорил Бальзак, не меняются лишь дураки и покойники. Но в случае с Талейраном (а шире – и «талейранизмом» как явлением) мы имеем дело не с тем, «с какой девицей идти под венец», и уж тем более не с идейной эволюцией человека, а с циничным и гадким актом алчной корысти, продажности. Исходя из такой философии, можно оправдать и измену родине. Ведь буржуа в принципе чужды любые отеческие привязанности («дым родного пепелища»). Действия Талейрана, которого иные считают и ныне чуть ли не величайшим гением европейской политики, Александр I оценил кратко, но выразительно: «Какие мошенники».  «Тайлеран – человек о шести головах». Карикатура 1815 года. На надписях – здравицы в честь дворян, свободы, Конвента, первого консула, императора, Людовика XVIII, Карла X, Луи-Филиппа I. Но и в сугубо профессиональной области этот министр иностранных дел оставил печальное наследие, будучи марионеткой Наполеона. Читаем у Шатобриана: «Деятельность Талейрана на поприще дипломатическом доказывает его относительную посредственность: вы не сможете назвать ни одного сколько-нибудь значительного его достижения. При Бонапарте он только и делал, что исполнял императорские приказы; на его счету нет ни одних важных переговоров, которые бы он провел на свой страх и риск; когда же ему представлялась возможность поступать по собственному усмотрению, он упускал все удобные случаи и губил все, к чему прикасался… Стараниями господина де Талейрана мы вовсе лишились границ: стоит нам проиграть сражение в Монсе или в Кобленсе, и через неделю вражеская кавалерия окажется под стенами Парижа».[663] На его же совести – и расстрел герцога Энгиенского. И все же справедливости ради напомню: Талейран один из авторов «Декларации прав человека и гражданина». В ряде случаев он умело отстаивал интересы Франции (особенно, если приходилось действовать против России, а это бывало часто). Европейцы никогда не упустят случая сговориться против нас за нашей спиной. То, что русские дважды освободили их Европу, в расчет не принимается. Америка и Европа проявляют просто потрясающую способность к закоснелой русофобии. Вот что доносила тайная полиция императору Фердинанду (1814) о настроениях, царящих тогда в окружении Талейрана: «Франция желает лишь противовеса против России. Соединялось же христианство против мусульман несколько веков тому назад, почему же ему не соединиться против калмыков, башкир и северных варваров… Мы не позволим, чтобы над нами насмехались. У нас есть 400 000 человек, которые готовы к действию по первому свистку. Мы собираемся ежедневно в 4 часа утра (sic!) у Талейрана, и он дает каждому из нас тему».[664] Как видите, Европа всегда почему-то быстро находит общий язык против русских и России. Это для них нечто вроде «Отче наш». Деятельность Талейрана, Тартюфа дипломатии, не ограничилась только внешнеполитической деятельностью. В докладе о народном образовании (1791) он призвал к необходимости создания новой, эффективной системы обучения и воспитания. В её основу им был положен, казалось бы, разумный принцип: «Всех поставить на надлежащее место». Он считал, что «было бы истинным безумием, какой-то жестокой благотворительностью хотеть, чтобы каждый человек проходил все ступени образования». В школах второй ступени (для наиболее способных) вводился принцип платного обучения. Талейран понимал важность образования для будущего страны и нации. «Образование, – писал он, – это действительно особая держава, область влияния которой не может быть учтена ни одним человеком, и даже национальная власть не может установить ее границ. Сфера ее влияния громадна, бесконечна». Итог жизни Талейрана вряд ли назовешь успешным (если, разумеется, не считать целью жизни обретение богатств и власти). И дело даже не в личных его качествах как гражданина. Талейран не отвечал самым скромным запросам морали и порядочности («князь с двойным отступничеством»). Хотя сегодня дело этого патологического лжеца с успехом продолжают такие личности как Б. Клинтон, М. Олбрайт, Т. Блеер, Х. Салано и другие. Талейран по достоинству сумел бы оценить их политику лжи и двойной морали. Они – «герои нашего времени», ибо, как писали о Талейране, «лгут с поразительной беззастенчивостью». Это внутренее родство Талейрана, «отца современного европеизма» и «атлантиста», с США даже побудило М. Понятовского, министра внутренних дел в правительстве В. Жискар д`Эстена, написать внушительный том «Талейран в Соединенных Штатах». После того, как обнаружили письма, свидетельствовавшие о его тайных связях с Людовиком XVI, он бежал в Англию, а затем в США. Он два года пробыл в Америке. Прибыв туда, Талейран предложил Жермене де Сталь принять участие в земельных и финансовых операциях (в нем всегда жил торговец). Шатобриан говорил о нем, что Талейран «не готовит заговоры, он торгует». Это неточность. Такой дипломат всегда торгует, и особенно нагло, когда готовит заговоры. Так что нам ближе и понятнее оценка В. Гюго, сказавшего: в нем все «хромало, как и он сам».[665] Во главе тайной полиции Франции стоял никто иной как легендарный министр Жозеф Фуше (1759–1820), о котором Бальзак сказал, что «он имел большую власть над людьми, чем сам Наполеон». Современники его не любили, боялись и презирали… «Да кто же, в самом деле, любит тайную полицию?!» – спросите вы. Не знаю, не знаю. Поскольку человек слаб и греховен, он нуждается в церкви и полиции. Одни спасают его душу, другие – бренное тело. Кстати говоря, в истории не было ни одного великого государственного деятеля, который бы не располагал прекрасной разведкой и тайной службой. Кромвель не жалел денег на разведку и «держал у себя в кармане секреты всех монархов Европы». Без разведки нет нации. Фридрих II объяснял причины сокрушительного поражения французского маршала Субиза: «За маршалом де Субиз двигаются сто поваров, а впереди меня – сто шпионов». В России последних лет вожди, включая некоторых руководителей тайных служб, вели себя иначе: разрушали разведку, продавая секреты, чтобы заполучить «в карман» пачку жалких банкнот. Раз уж вспомнили о тайной полиции, было бы величайшим грехом обойти её своим вниманием. Если жена может вас покинуть, любовница самым вульгарным образом бросить, «друг» – предать, а банк – разориться, то тайная полиция, можете быть уверены, сохранит верность и преданность почти немыслимую, едва ли не трогательную. Она не может вас бросить, не считает разумным покидать, крайне редко предает и почти никогда не разоряется. Тайная полиция – нечто вроде опочивальни, исповедальни, банка и «английского клуба». Любая страна нуждается в услугах тайной полиции и милиции… Тем более, что и уголовный мир преуспел в создании разведывательных и контрразведывательных структур. Уже в начале XVIII века в Париже известностью пользовалась шайка разбойника Картуша. В нее, по некоторым данным, входило около 2 тысяч человек. Сумев награбить огромные суммы денег и ценности, тот использовал эти средства для подкупа полиции, чиновников, судей, военных, врачей и т. д. и т. п. Сотни трактирщиков выполняли в его организации роли хранителей и скупщиков краденого. У Картуша было множество «двойников». Любопытно, что многие полицейские не проявляли рвения в поимке преступника. Не исключено, что многие из них тайно находились у вора на содержании (как и некоторые милицейские чины в России). В тюрьму он попал, можно сказать, случайно (выдал кто-то из своих). Попав на эшафот, он выдал всю банду, так как та не смогла освободить его (произведены сотни арестов).[666]  Жозеф Фуше. Фуше – одна из самых загадочных, примечательных фигур рубежа XVIII–XIX столетий. Хотя «нет такого клеймящего и бранного слова», которым бы его не клеймили. Бальзак назвал его самым интересным в психологическом отношении характером века, посвятив в романе «Темное дело» страницу этому «сумрачному, глубокому и необычному уму, который так мало известен», упомянув о его «своеобразной гениальности». Читаем у Бальзака: «Своеобразная гениальность, столь ужаснувшая Наполеона, обнаружилась у Фуше не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых выдающихся и непонятных людей своего времени, сложился и вырос в бурях Революции. При Директории он достиг тех вершин, с которых люди глубокого ума получают возможность предвидеть будущее, основываясь на опыте прошлого; а затем вдруг, – подобно посредственным актерам, которые под влиянием какой-то внезапно вспыхнувшей искры становятся гениальными, – проявил поразительную изворотливость во время молниеносного переворота 18 брюмера. Этот бледнолицый человек, воспитанный в духе монашеской сдержанности, посвященный в тайны монтаньяров, к которым он принадлежал, и в тайны роялистов, к которым в конце концов примкнул, долго и незаметно изучал людей, их нравы и борьбу интересов на политической арене; он проник в замыслы Бонапарта, давал ему полезные советы и ценные сведения. Довольствуясь тем, что он доказал свою ловкость и полезность, Фуше поостерегся раскрыть себя до конца, он хотел остаться у кормила правления; однако двойственное отношение к нему Наполеона вернуло ему политическую свободу… В то же время ни прежние, ни новые его коллеги и не подозревали всей широты его таланта – чисто административного и, в глубоком смысле слова, государственного, – так был велик его дар почти неправдоподобной проницательности и безошибочного предвидения».[667] Словом, это был «великий государственный деятель». Блестящий организатор и сильный государственник, Фуше обладал редкой проницательностью. Он проник в замыслы едва ли не всех политических сил своего времени (монтаньяры, роялисты, Бонапарт, Людовик). С. Цвейг посвятил ему книгу «Жозеф Фуше. Портрет политического деятеля» (1929). Книга вызвала небывалый интерес (50-тысячный тираж). Все тайное человека интересует. Цвейг назвал Фуше «самым совершенным макиавеллистом нового времени». Как бы извиняясь перед читателем, Цвейг говорит о том, что он сознает, что жизнеописание подобной «насквозь безнравственной личности», хотя бы и значительной и своеобразной, «противоречит потребностям нашей эпохи». Но ведь эпохи-то меняются. Сегодня отнюдь не герои Плутарха «определяют судьбы мира», а герои иного склада. Цвейг разъясняет: «В реальной, в подлинной жизни, в области действия политических сил решающее значение имеют – и это необходимо подчеркнуть, чтобы предостеречь от любых видов политической доверчивости, – не выдающиеся умы, не носители чистых идей, а гораздо более низменная, но и более ловкая порода: закулисные деятели». Чаще всего это не какие-то герои, а азартные игроки, «люди сомнительной нравственности и небольшого ума» (наполеоны, талейраны, фуше из той же породы).[668] Хотя ума у Фуше было побольше, чем у иных. Длительное время Фуше преподавал математику и физику, будучи надзирателем и инспектором в монастырях (Ниора, Сомюра, Вандома, Парижа). Тут он научился едва ли не главному достоинству политика, разведчика, дипломата – «технике молчания». Словно алхимик душ, он проникал в «тайны состава» человеческих эмоций, страстей, вожделений. Заметьте кстати, что три самых великих дипломата французской революции – Сийес, Талейран и Фуше – опять-таки вышли из монастырской школы. В монастыре он обрел качества опытного и сильного лидера: привычку к железной дисциплине, спартанской выносливости, умение скрывать свои мысли и чувства, готовность до минимума ограничить запросы личной жизни… История играет судьбами людей, словно это какие-то щепы в океане жизни. В Аррасе Фуше в кружке местной интеллигенции («Розати») знакомится с адвокатом Робеспьером и чуть даже не женится на его сестре, Шарлотте. В Париже собираются Генеральные штаты. Фуше выставляет свою кандидатуру и в 1792 г. попадает в Конвент (ему 32 года). С той поры он твердо придерживался правила – пребывать в тени (правя из-за кулис). Цвейг называл это «последней тайной могущества Жозефа Фуше». Любопытно объяснение причин могущества: «Как истинный и законченный мастер политической интриги, он ценит только действительные возможности власти, а не ее внешние отличия. Ликторский жезл, королевский скипетр, императорскую корону он спокойно предоставляет другому; будь то сильный человек или марионетка – это безразлично: он охотно уступает ему блеск и сомнительное счастье быть любимцем народа. Он удовлетворяется тем, что знает положение дел, влияет на людей, действительно руководит мнимым повелителем мира и, не рискуя собой, ведет самую азартную из всех игр – грандиозную политическую игру. В то время как другие связаны своими убеждениями, своими публичными речами и действиями, он, избегающий света, в своем тайнике сохраняет внутреннюю свободу и остается недвижимым полюсом в беге событий. Жирондистов свергли – Фуше остается, якобинцев прогнали – Фуше остается, директория, консульство, империя, королевство и снова империя исчезают и гибнут – один лишь Фуше всегда остается благодаря своей изумительной сдержанности, благодаря своему дерзкому мужеству, с которым он сохраняет полную бесхарактерность и неизменное отсутствие убеждений». Это описание, бесспорно, не исчерпывает характеристики этой яркой личности.  Франсуа Гизо. С портрета Делароша. Немногие знают, что за много лет до К. Маркса в свет вышла лионская «Инструкция», подписанная совместно Колло д`Эрбуа и Фуше (автор – Фуше). Цвейг назвал его «первым откровенным социалистом и коммунистом революции». Читаем строки, вышедшие из-под пера Фуше и д`Эрбуа: «Революция совершена для народа; но под этим именем не следует подразумевать привилегированный благодаря своему богатству класс, присвоивший все радости жизни и все общественное достояние. Народ – это совокупность французских граждан и прежде всего огромный класс бедняков, защищающих границы нашего отечества и кормящих своим трудом общество. Революция была бы политическим и моральным бесчинством, если бы она заботилась о благополучии нескольких сотен людей и терпела нищету двадцати четырех миллионов. Она была бы оскорбительным обманом человечества, если бы мы все время только говорили о равенстве, тогда как огромные различия в благосостоянии отделяют одного человека от другого». Кроме того, никак нельзя согласиться с оценкой Фуше как «человека бесхарактерного». Нам бы такого «бесхарактерного» – в министры полиции! И это говорит проконсул Республики! А я слышу в его словах волю Народа, требующую наступить на горло ворам и бессовестным богатеям. Даже Робеспьер с Сен-Жюстом при слове «собственность» как-то робели и спешили объявить ее «неприкосновенной». Но Революция уже вышла на улицы. Завтра ее комиссары и консулы заставят воров и плутократов отдать все, что они награбили у народа. Фуше решительно и смело действует в направлении egalisation dea fortunes (франц. – «уравнения состояний»). Он создает «филантропические комитеты», смысл политики которых ясен и понятен: «Возвращайте все украденное – или вас всех поставят к стенке!» Он, правда, готов разъяснить тем, кто плохо соображает: «Если богатый не использует своего права сделать достойным любви режим свободы – республика оставляет за собой право завладеть его состоянием». Такую «Декларацию любви» давно пора подписать десяткам тысяч господ в России! И в казну широкой рекой потекут деньги. Фуше доносит Конвенту: «Здесь стыдятся прослыть богатым». Или боятся быть богатым? Есть богатство законное, а есть такое, что достигнуто главным образом преступным и позорным путем. Эти собственники должны страшиться власти – и быть экспрорприированы. Жизнь его не раз бывала на волоске. Он участвовал в заговоре против Робеспьера. Тот его пощадил. Затем он вошел в заговор Бабефа. Бедного Бабефа арестовывают и расстреливают. Фуше обвиняют в терроре (он на три года уходит в тень). После прихода к власти Директории его снова позовут. Сначала он посол Французской республики, а затем и министр. И тут выясняется глубокий смысл слов Мирабо, что якобинцы в должности министра это уже совсем и не якобинские министры. Они теперь «источают примирительный елей». Фуше становится консерватором, говоря: «Порядок, порядок, спокойствие, безопасность». Затем он стал миллионером и герцогом Отрантским (при Наполеоне), но это уже менее интересно.[669] Эпоха представляла собой довольно монументальное зрелище. Да и как еще мог воспринять обычный человеческий разум столь колоссальные перемены в мировом порядке? Война американских колонистов, и возникновение Соединенных Штатов Америки. Революционная буря во Франции, бросившая короля Людовика XVI и Марию Антуанетту на плаху. Появление яркой звезды Наполеона, и покорение императором едва ли не всей Европы. Создание им империи, большей по размерам, нежели Священная Римская империя. Вторжение на просторы России армий «двунадесяти языков». В этом вот нашествии «цивилизованных варваров» в Россию было нечто от завоеваний легендарного Аттилы. Однако сгинул и новый Аттила, а империя Наполеона развалилась, как карточный домик. Sic transit gloria mundi! (лат. «Так проходит слава мирская»). Урок очевиден: исчезают наполеоны, но не Франция! Подведем некоторые, сугубо предварительные итоги рассматриваемой эпохи… Франция в известном смысле подтверждала слова французского историка Ф. Гизо (1787–1874), говорившего в «Истории цивилизации в Европе», что назначение его страны состояло в том, чтобы marcher a tete de la civilisation («идти во главе цивилизации»). В его труде дается обоснование этого главенства: «Влияние Франции на Европу в XVII и XVIII вв. представляется весьма различным. В первом из этих веков общеевропейское значение и место во главе цивилизации принадлежит уже не французскому правительству, а самой Франции, французскому народу. Сначала властвует над умами и привлекает к себе общее внимание Людовик XIV со своим двором, потом Франция и ее общественное мнение. В XVII веке были народы, которые, как народы, рельефнее французов выступали на сцену исторического мира, принимали в судьбе своего отечества более деятельное участие. Так, например, германская нация – во время Тридцатилетней войны, английский народ – во время Английской революции, несравненно больше зависели от самих себя, нежели современные им французы. С другой стороны, в XVIII веке многие европейские правительства превосходили французское своею силою, значением, могуществом своим. Фридрих II, Екатерина II, Мария Терезия без сомнения отличались в Европе большею деятельностью и влиянием, нежели Людовик XV. Однако и в ту и в другую эпоху во главе европейской цивилизации стоит Франция, первоначально – благодаря своему правительству, потом благодаря самой себе, с помощью то политической деятельности ее повелителей, то умственного развития своего. Итак, для полного знакомства с преобладающей силою французской, а, следовательно, и европейской цивилизации необходимо изучить в XVII в. французское правительство, в XVIII – французское общество».[670] Франция блистательно проявила себя в ряде областей. В начале XVIII в. страна была сельскохозяйственной житницей Европы. Переход на позиции «меркантилизма» немало способствовал дальнейшему экономическому развитию. Известную позитивную роль сыграли и евреи. Дело в том, что по мере того как «сыны Шейлока» изгонялись из Англии (с 1290-го по 1660 г.), еврейский капитал перемещался во Францию (та переболела «детской болезнью антисемитизма» раньше). Наполеон породил в стране новые вкусы, и, любя деньги, оказывал еврейским финансистам поддержку. В моду вошли культурные изыски и моды других народов. Дальнейший бурный рост производства и экономики вскоре обозначил ведущую роль Франции на континенте.[671] Все эти огромные успехи в искусстве, науке, культуре и военном деле возникали не сами по себе, а во многом и благодаря классическому наследию, воспринятому в коллежах и университетах лучшими умами Франции. Победившая в XVIII в. буржуазия проявила себя в этих областях с лучших сторон. В ней видится, несмотря на наличие множества гнусных черт, все же «чертог надменного, но здравого ума» (Верхарн). Характер событий тех лет раскрыт и К. Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Он пишет: «Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789–1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 г., то революционные традиции 1793–1795 годов…При рассмотрении этих всемирно-исторических заклинаний мертвых тотчас же бросается в глаза резкое различие между ними. Камилль Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени – освобождение от оков и установление современного буржуазного общества. Одни вдребезги разбили основы феодализма и скосили произраставшие на его почве феодальные головы. Другой создал внутри Франции условия, при которых только и стало возможным развитие свободной конкуренции, эксплуатация парцеллированной земельной собственности, применение освобожденных от оков промышленных производительных сил нации, а за пределами Франции он всюду разрушал феодальные формы в той мере, в какой это было необходимо, чтобы создать для буржуазного общества во Франции соответственное, отвечающее потребностям окружение на европейском континенте. Но как только новая общественная формация сложилась, исчезли допотопные гиганты и с ними вся воскресшая из мертвых римская старина – все эти Бруты, Гракхи, Публиколы, трибуны, сенаторы и сам Цезарь. Трезво-практическое буржуазное общество нашло себе истинных истолкователей и глашатаев в Сэях, Кузенах, Руайе-Колларах, Бенжаменах Константах и Гизо; его настоящие полководцы сидели за конторскими столами, его политическим главой был жирноголовый Людовик XVIII. Всецело поглощенное созиданием богатства и мирной конкурентной борьбой, оно уже не вспоминало, что его колыбель охраняли древнеримские призраки. Однако как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война, битвы народов».[672] Великая Французская революция вызвала к жизни мощные созидательные силы. Без этой революции не было бы новых законов, новой экономики, современного образования, культуры, достойного уровня жизни и мыслей миллионов! Это справедливо и для другой революции, о которой речь ещё впереди. Не все приняли Французскую революцию. Избранный в 1970 г. во Французскую академию Э. Ионеску обрушился на революцию с нелепыми упреками, тем самым доказывая, что мировая слава не всегда достается лучшим умам человечества… Напомним его слова: «Франция заразила мир своей страстью к политическому бунту, который подменяет собой бунт более оправданный, более метафизический – бунт против положения человека в мире, против его состояния. Теперь во всем мире начиная с Французской революции нас преследует какая-то мания революции, какой-то нервный тик, навязчивая идея. Быть революционером – это хорошо. Стоит только сказать «революция» – и мы уже приветствуем это слово-табу. С точки зрения прогресса, технического и промышленного, который не является самым главным делом, даже с этой точки зрения революции пагубны: они не имеют ничего общего с прогрессом и эволюцией техники, они не помогают, напротив, они тормозят процесс; они восстанавливают под другими названиями распадающиеся или ослабевшие структуры. Мы не будем обсуждать эту проблему здесь».[673] Обсуждать проблему не станем и мы. Видимо, гражданская совестливость не была присуща г-ну Ионеску. А может, дело проще? Монтень как-то сказал: «Я говорю правду постольку, поскольку осмеливаюсь ее говорить; чем старше я становлюсь, осмеливаюсь делать это все реже». Великая Французская революция, как и Великая Октябрьская социалистическая революция в России, – величайшее событие мировой истории. Конечно, обе революции не избежали ошибок, преступлений и заблуждений. Их лидерам порой свойственны и обычные человеческие слабости. Выступая против социальных привилегий дворянства, Бриссо, Марат, Робеспьер, увенчали фамилии частичкой «де» (де Варвиль, де Марат, де Робеспьер). В толпе есть и «мясники», готовые пролить кровь невинных жертв. И все же упреки в крайностях (террор, диктат) несут на себе отпечаток гнева разъяренных плутократов или же горя невинных страдальцев, что были принесены на жертвенник преступлений их класса или клана (в которых лично они часто совершенно не виновны). В то же время надо быть отъявленным мерзавцем, чтобы не замечать в социальной революции гласа правды и истины. Запад вовремя признал статус революции. Поэтому и сумел добиться ощутимого прогресса. Клемансо считал, что необходимо рассматривать и воспринимать Французскую революцию как единый социальный и политический блок. И мы обязаны принимать наш Октябрь так, а не иначе. Показывая лишь казни и лагеря при социализме (как это делается в нынешней России), мы лжем себе и Истории. Жаль, у Клемансо не хватило честности, чтобы распространить принцип и на русскую революцию: «Он осуждает её за «террор» и в то же время отказывается судить Французскую революцию за него же».[674] Видите: такова их хваленая «объективность»! В XVIII–XIX вв. Франция ведёт и направляет всё человечество, словно прилежная бонна – неразумное дитя. XVIII век во всеобщей истории часто называют «французским веком». Великая Французская революция, а затем империя Наполеона приковали к ним внимание народов. Даже такой «истинный немец» как К. Маркс, не видел для себя в Германии, где даже «воздух делает человека крепостным», должного простора, и устремился в Париж (в 1843 г.), в этот «старый университет философии», в «новую столицу нового мира», считая ее самым лучшим «сборным пунктом» для всех мыслящих и независимых голов. Что искал знаменитый бунтарь в революционной Франции? Единства теории и практики. Париж – лаборатория революций. Французский утопический социализм – одновременно практический социализм. Сюда направился и Генрих Гейне, которого отнесут к «самым изящным умам Франции». А разве Россия не искала у Франции ответа на многие вопросы? Мы и не вспоминаем о том, что это Робеспьер, Марат, Сен-Жюст, Ру, Кутон, Бланки и другие вынесли («в коконе революции») прообраз иных социалистических декретов в Советской России. Черты, присущие французским революциям, получили развитие и в России. Поэтому любой, кто не является полнейшим невеждой, никогда и не стал бы утверждать, что Октябрьская революция – это, так сказать, prolem sine matre creatam («дитя, рожденное без матери»). Слова из этих овидиевских «Метаморфоз» уж явно никак не подходят к метаморфозам политическим. Французы первыми в Европе принялись всерьез обустраивать и расширять здание экспериментальной науки. Исследователь Э. Эшби писал: «Имена Бэкона и Ньютона обеспечивают Англии высокое место в истории научной революции. Но первой признала гигантское значение работ Ньютона и первой последовала на практике заветам Бэкона – Франция… которая стала матерью организованного научного исследования». Преподавание естественных наук сосредоточено в Музее естественно-исторических наук и в медицинских школах. Лагранж, Монж, Карно, Лаплас составляют гордость и славу не только французской, но мировой науки. Для системы образования Франции характерна высокая степень централизации. «Система централизации, введенная в Политехнической школе и вслед затем принятая во всех высших учебных заведениях Франции, – пишут историки Лависс и Рамбо, – соответствует известной черте национального духа французов и, так или иначе, вошла в их нравы».[675] О роли революции в судьбе личности поведает лучше других судьба математика Монжа… Гаспар Монж (1746–1818) – одна из колоритнейших фигур той эпохи. Сын точильщика и торговца скобяным товаром стал видным ученым-математиком, морским министром, создателем оборонной промышленности Франции, организатором системы науки и образования, членом Якобинского клуба. Да разве такое было бы возможно без Великой Французской революции! Еще находятся невежды и негодяи, что клеймят революции (эти сыновья и дщери прачек и рабов, сами они в недавнем прошлом все получили от революции)… Гаспар был старшим сыном. Второй сын старика Монжа, Луи, был участником экспедиции Лаперуза, профессором математики и астрономии, как и младший, Жан… Вот вам прямые, так сказать, вполне зримые итоги революционных перемен для низов третьего сословия («плебейства»). Монж начал учиться с шести лет (у монахов, в школе ораторианцев г. Бона, существующей с XV в.). Мальчик был гордостью школы (его экзаменационная работа 1762 г. хранится как священная реликвия в магистратуре города). Затем следует учеба и преподавание в Коллеже Св. Троицы в Лионе. Монашеская карьера его не привлекла, да и отец отсоветовал. Монж поступил в знаменитую Мезьерскую школу кондукторов и инженеров. Сюда шли дети благородного происхождения (число учеников не превышало 30–50 человек). Монж не принадлежал к лицам благородного происхождения, и его взяли на отделение кондукторов. Математику тут преподавал крупный ученый Боссю, у которого он стал ассистентом, а затем и преподавателем этой школы. Монж по сути дела самостоятельно создал новую отрасль геометрии (начертательную геометрию). К сожалению, потребовались годы, прежде чем эта наука пробила себе дорогу в жизнь. Вскоре ученый занял кафедры профессоров физики и математики (1770) и стал получать жалованье по двум кафедрам (1800 ливров в год). В 24 года он уже ведущий педагог Школы. После того как Монж в присутствии Д`Аламбера прочел доклад «Мемуар об интегрировании некоторых дифференциалов», его по представлению Боссю, Кондорсе, Д`Аламбера избрали член-корреспондентом Парижской академии. Монж был прекрасным педагогом. Сила его воздействия, знания предмета, увлеченность завораживали учеников, читал ли он физику, химию, математику, резку камня или теорию перспективы. Перспектива стать гением притягивает умную молодежь куда более, нежели «радужные картины» личного обогащения. Его мысли и руки находились в постоянном движении. Монж работал с учениками не только в стенах школы, водя их на близлежащие заводы и в мастерские, совершая неоднократные экскурсии на природу. Его биографы пишут: «Случалось иногда, чтобы поскорее попасть с учениками на какой-либо завод, Монж, не тратя времени на разыскивание дорог и мостов, переходил вброд широкий ручей, не прерывая при этом своих объяснений. Молодые люди, окружавшие его, также не замечая препятствий на своем пути, продолжали внимательно слушать: так велика была магия его влияния на умы!» Мензьерскую школу вскоре стали называть «школой Монжа». Нет возможности пересказать все превратности судьбы и пути-дороги великого ученого. В 35 лет он стал академиком, а к 45 годам – крупнейшим ученым Франции. Якобинцы открыли пути в науку простому люду! В годы Великой Французской революции Монжа назначили морским министром по предложению Кондорсе (он руководил им семь месяцев). С флотом дела обстояли неважно. Видя невозможность исправить положение, Монж честно заявил, что не хочет руководить министерством, а если надо Республике, готов быть простым конторщиком в бюро. Он с радостью вернулся в Академию наук, где продолжал трудиться во славу Франции (организовал мастерские по производству пороха, работал над новыми военными технологиями, способствовал делу развития культуры и образования). К сожалению, Конвент на какое-то время закрыл Академию наук, а также высшие и средние специальные школы. Университеты, включая Парижский, превратились в чисто схоластические и формальные учреждения. Студенты на занятия не ходили, учились кое-как, а дипломы получали за особую плату. Среди профессоров было немало тех, кто, говоря попросту, хотел лишь «зашибить деньгу». Монж, названный Лагранжем «дьяволом геометрии», постарался исправить положение. Он создал Центральную школу общественных работ, где и руководил аспирантами-преподавателями. Эта каторжная работа требовала чрезвычайного напряжения сил. Показательно и то, что ученый не желал иметь никаких преимуществ перед трудовым людом. Он отправлялся каждое утро по мануфактурам с пайкой хлеба под мышкой. Ничего другого в его нищем рационе не было. Когда жена однажды пыталась добавить в его «рацион» кусок сыра, Монж возразил: «Право же, вы ввязываете меня в очень скверную историю; ведь я рассказывал вам, что, когда на прошлой неделе я проявил некоторое чревоугодие, мне пришлось с горечью услышать, как депутат Ниу с загадочным видом говорил окружающим: «Монж перестает стесняться: глядите, он ест редиску»… Так в годы революции жили истинные ученые.[676]  Лазар Никола Карно (старший). Другой выдающийся представитель французской науки – Л. Карно (1753–1832). Организатор многих побед Наполеона, он все свободное от политических забот время уделял своей любимой математике. При этом он показал себя и как серьезный философский мыслитель. Его работы «Геометрия положения» (1803) и «Исследование секущих» (1806) легли в основу современной геометрии. Широко был известен в научных кругах и Пьер Симон Лаплас (1749–1827), астроном, физик, математик. Он создал «Аналитическую теорию вероятностей» (1812) и «Трактат о небесной механике» (1798–1825), предложив космогоническую гипотезу (гипотезу Лапласа). В 18 лет его назначили профессором военной школы, а затем приняли в Академию. Занятия небесной механикой Лаплас дополнил политикой. Наполеон сделал его на короткое время министром внутренних дел и наградил титулом графа (Людовик XVIII сделал его маркизом и пэром Франции). Лаплас считал вселенную устойчивой, не видя необходимости приводить её «в порядок» силой (как у Ньютона). Труды других французских ученых составили заметную страницу в истории науки (Лежандр, Лакруа, Пуассон, Пуансо). Искусства самым непосредственным образом приняли участие в воспитании и образовании. В 1791 г. знаменитый Лувр становится крупнейшим национальным музеем. Руже де Лиль создает величественную «Марсельезу», которую вскоре узнает и подхватит весь мир. Картина художника Ж. Л. Давида «Клятва Горациев» стала знаменем революционной Франции, а ее девиз «Свобода или смерть!» вдохновлял отважных волонтеров, вставших на защиту республики. Триумфальную арку в Париже украсит величественная скульптура Рюда. Деятели искусств Франции обращают внимание правителей на ту роль, которую играет художественная культура в деле воспитания и обучения подрастающих поколений. Живописец Ж. Давид, первый художник страны, автор многих замечательных полотен, выступая в Конвенте (1794), страстно говорит о важной роли музеев и вообще искусства в воспитании юношества: «Не заблуждайтесь, граждане, музей отнюдь не бесполезное собрание предметов роскоши и развлечения, которые способны лишь удовлетворять любопытство. Он должен сделаться серьезной школой. Учителя пошлют туда своих юных питомцев, отец поведет туда сына. При виде гениальных творений юноша почувствует, как заговорят в нем те способности к наукам или искусству, которые вдохнула в него природа. Пришло время, законодатели, преградите дорогу невежеству, скуйте ему руки, спасите музей, спасите произведения, которые может уничтожить одно дыхание и которых скупая природа, быть может, никогда не создаст вновь. Прискорбное небрежение уже нанесло пагубные удары памятникам искусства; я не намерен перечислять здесь перед вами все испытанные ими злоключения».[677]  Ф. Рюд. Марсельеза (Выступление добровольцев в 1792 г.). Триумфальная арка в Париже. Период с 1800 по 1815 год характеризуется и расцветом французской героической музыки. Воскресает интерес к древним грекам и римлянам. Музыкантов привлекает поэзия эллинов. Впервые французы занялись всерьез культурой и литературой других народов. Их внимание обращено на Гёте, Шекспира, Бетховена, Моцарта. На оперной сцене поставлены моцартовские «Свадьба Фигаро» (1793), «Волшебная флейта» (1801), «Дон-Жуан» (1805). Исполняется знаменитая симфония «Сотворение мира» Й. Гайдна. В 1795 году создана Парижская консерватория. Возводится прекрасное здание театра «Гранд Опера». Великий певец Адольф Нурри (1802–1839), слывший кумиром публики, в дни Июльской революции 1830 года будет петь народу «Марсельезу» с высоты баррикад. Его заветной мечтой стало создание театра для народа. Он восклицал, говоря о роли музыки: «Основать большой театр народной оперы! Сделать так, чтобы в души рабочих, ремесленников, мужчин и женщин предместий, проникло чувство прекрасного и понимание шедевров! Стать капельмейстером бедняков!». Прекрасно о взаимодействии музыки и знания скажет известный французский композитор Гектор Берлиоз (1803–1869): «В музыке проявляются одновременно и чувство и разум; от каждого занимающегося ею, – будь то исполнитель или композитор, – она требует природного вдохновения и познаний, которые приобретаются только путем длительного изучения и глубоких размышлений. Соединение знания и вдохновения образует искусство. Музыкант, нарушивший это условие, никогда не станет подлинным артистом, даже если и получит право называться этим именем. Так и нерешенный Горацием по отношению к поэтам важный вопрос о превосходстве природных данных над знаниями или знаний над природными данными кажется нам не менее трудно разрешимым по отношению к музыкантам. Ведь удавалось же некоторым людям, совершенно чуждым музыкальной науке, создавать грациозные и даже величественные песни, пример тому Руже де Лиль с его бессмертной «Марсельезой».[678] Песня стала гимном страны. Французы не стали ее менять на «Боже, царя храни!» Вспоминая выражение Гюго – «Пение помогает вырастить лес», мы имеем право заявить вместе с нашим читателем: «Музыка и искусства помогают вырастить здоровую нацию». Завершим наш рассказ кратким путешествием по Парижу… Историк культуры И. Гревс писал: «Из области психологии народов и жизни подвижников науки, людей жаждавших истины или вожделевших богатства и наслаждения, конкистадоров и романтиков, ловцов сильных ощущений и искателей утоления религиозного чувства, из биографий замечательных людей и наблюдений над детскою жизнью педагог-экскурсионист-путешественник почерпнет, как из рога изобилия, ценный материал для освещения задач и приемов экскурсионного дела. Это – непочатый фонд удивительной «информации». Он тут увидит, как в человеческих действиях, специально в тяге к путешествиям и в переживании путешествий многообразно скрещиваются утилитарные и даже корыстные побуждения с идеалистическими порывами и чисто духовными потребностями».[679] До этого Париж интересовал нас скорее как средоточие гения и силы французского народа, как своего рода духовный и идейный резервуар великой нации. В. Гюго в очерке, посвященном этому городу (1867), так сказал о его назначении: «Назначение Парижа – распространение идей. Бросать миру истины неисчерпаемой пригоршней – в этом его долг, и он выполняет его… Париж – сеятель. Где он сеет? Во мраке. Что он сеет? Искры. Все, что вспыхивает то здесь, то там и искрится в рассеянных по земле умах, – это дело Парижа. Прекрасен пожар прогресса, – его раздувает Париж. Ни на минуту не прекращается эта работа. Париж подбрасывает горючее: суеверия, фанатизм, ненависть, глупость, предрассудки. Весь этот мрак вспыхивает пламенем, оно взмывает вверх и благодаря Парижу, разжигающему величественный костер, становится светом, озаряющим умы. Вот уже три века победно шествует Париж в сияющем расцвете разума, распространяя цивилизацию во все концы мира и расточая людям свободную мысль; в шестнадцатом веке он это делает устами Рабле, …в семнадцатом веке – устами Мольера, …в восемнадцатом веке – устами Вольтера… Париж выполняет роль нервного центра земли. Если он содрогнется, вздрагивают все. Он отвечает за все, и в то же время он беззаботен».[680]  Жюль Ардуэн-Мансар и Шарль Лебрен. Зеркальная галерея Королевского дворца в Версале. Начата в 1678 г. Велика роль Парижа в создании неповторимого облика культуры Франции. Граждане ее часто и верно говорят, повторяя слова Генриха Бурбонского: «Париж стоит мессы» («Paris vaut bien une messe»). Париж и в самом деле прекрасен, хотя и не очень древен. Некогда древние галлы на островах (самым крупным из них был остров Сите) построили маленькую Лютецию. Вспомним, что уже в XIV–XV веках Париж являл собой сердце Франции. Париж – это не только столица, но и пышный королевский двор. Известно, что сюда Кольбер, могущественный министр Людовика XIV, выписывал знаменитых архитекторов и скульпторов. Он не жалел средств, собирая в Париже и Версале греческие и римские статуи и слепки. Все они должны были служить «образцами для обучающейся художественной молодежи». Здесь же находилась знаменитая на всю Европу Сорбонна, работали переплетчики, переписчики и изготовители пергамента, миниатюристы, входящие в университетскую корпорацию. Известно, что Данте и Петрарка, посетившие сей град, оставили восторженные отзывы об «иллюминаторах» как о наилучших европейских мастерах. Здесь появились первые городские школы. В Париже сложилась одна из лучших художественных школ Европы.[681] По этому историческому, легендарному и беззаботному Парижу стоит прогуляться. Конечно, если мы захотим увидеть древние соборы, кладки старейших французских замков, вроде замка Германтов, «дворца фей», следует избрать иной маршрут, так сказать, «средь лилий Генриха и саламандр Франциска» (М. Волошин). Французский писатель М. Пруст, устремлявшийся в прошлое в надежде найти живых носителей «печати веков», говорит в своем романе «У Германтов»: «Посмотри на башни Германтов… Подумай, что возвышались они, нерушимо вздымая XIII век, тогда, когда… вас не могли приветствовать башни Шартра, башни Амьена, башни Парижа, которые еще не существовали».[682] Как видим, и Париж не стразу строился. В эпоху Великой Французской революции город стал обретать и новые архитектурные черты… Исчезла построенная в XIV в. и модернизованная в середине XVII в. Бастилия. Площадь, возникшая на ее месте, стала алтарем, у которого служили молебны во славу героев, способствовавших падению тирании. На месте Бастилии возвели павильон для бала (18 июля 1790 г.), закрепив надпись: «Здесь танцуют». Декорации менялись: вскоре тут зазвучал хор из оперы Рамо «Кастор и Поллукс». Актеры пели: «Пусть все воспрянет, пусть все расцветет при имени святом Руссо». Фундамент бывшей тюрьмы стал местом, где установили бюст Руссо, сюда доставили и прах Вольтера. Французы желали увековечить память о революции. На месте крепости-тюрьмы они думали поставить колонну или храм. И разрушали они тюрьму, а не мавзолей! В другой стране, словно стыдясь своей истории, бездари, не положившие даже камня в основу здания, хотят вытравить память о великой Революции! В 1790 г. на Марсовом поле, ранее пустынном и пыльном, создана площадь нового типа – площадь Федерации. Она не была окружена зданиями и служила местом сбора масс митингующего народа. В центре арены возвышался алтарь Отечества. Проект навеян замыслами архитектора Леду и разработан Келлериером. Здесь шли празднества, давались клятвы на верность народу. Тут провозгласили конституцию 18 сентября 1791 г. Именно здесь состоялся праздник Верховного существа, культ которого провозгласил Конвент по инициативе Робеспьера (8 июля 1794 г.). Посреди площади была возведена большая гора, к вершине которой вела крутая спиральная дорога. Художник Давид писал: «Огромная гора становится алтарем Отечества. На вершине возвышается дерево Свободы. Народные представители устремляются под его гостеприимные ветви» (всего там могли разместиться более 3 тысяч человек). Французская революция проявила склонность к гигантомании, как в дальнейшем и русская революция. В революционных эпохах есть нечто, что их роднит. Разве между проектом колоссальной башни Этьена Булле, появившимся в 1790-е гг., и планом гигантского Дворца Советов в России XX в. нет схожих черт?! Появляются строения, призванные запечатлеть черты эпохи. Возведенная архитектором Суффло церковь Св. Женевьевы (1791) получила название Пантеона. Тут найдёт успокоение «прах великих людей, заслуживших благодарность Отечества». Первым здесь захоронят Мирабо. Так стал меняться образ города.[683] Ранее мы говорили о вандализме эпохи Французской революции. Однако были и 20 флореальских постановлений Конвента, заметно изменивших облик Парижа. Они касались украшения садов и дворцов в Тюльери, сооружения новых памятников: защитникам республики 10 августа – на площади Побед; народу – на Новом мосту; природе – на площади Бастилии; свободе – на площади Бастилии; постройки колоннады в Пантеоне; статуи Ж. Ж. Руссо – на Елисейских полях; крытых арен для концертов – на площади Новой оперы, близ больших бульваров; постройки храма Равенства; статуи Философии – в зале заседаний Конвента; расширение Естественно-исторического музея и восстановление Художественного театра.[684] Изменения коснулись не только пространственно-архитектурного облика Парижа, но и его души. У любого города есть душа. Она может быть холодной и бесстрастной, а может быть и романтичной, пылкой и страстной. Париж скорее относится ко второму типу городов. Он страстен и чувственен… Вот как описывал Давид одно из шествий революционного народа в ходе праздника Единения (10 августа 1793 г.): «Сбор произойдет на площади Бастилии. Среди её развалин будет воздвигнут фонтан Возрождения в виде олицетворенной природы. Из её плодоносных грудей… забьет в изобилии чистая вода».[685] Её должны были пить из особой чаши представители 86 департаментов Франции. Ну чем вам не Фонтан наций на грандиозной Выставке достижений народного хозяйства СССР, хотя у нас не было статуи с короной египетских фараонов. Зато место фараонов заняли рабочий и колхозница. Однако разве перед ансамблем, переименованном в Храм Человечности, не стояла схожая по духу и смыслу фигура! Посредине площади был изображен скульптурно французский народ в виде колоссальной фигуры. Архитектурный облик Парижа стремился стать как бы «говорящим».  Ж. Шальгрен и др. Триумфальная арка на площади Этуаль в Париже. 1806–1836 г.г. Париж – восхитительнейшая из фей, рожденная Францией… Фея, созданная руками талантливых строителей и архитекторов, чье каменное «платье» весьма изящно декорировано зеленью бульваров, парков и садов… В конце XIX-начале XX вв. он представлял собой уже совсем иную картину, нежели то, что мы ранее писали о нем («пейзажи» середины или конца XVIII в.). Обратите внимание на архитектурный ансамбль, расположенный между Лувром, Триумфальной аркой и Бурбонским дворцом. «Триумфальная дорога Франции», – сказал о пути от Нотр-Дам к дворцу Шайо французский писатель А. Моруа. Париж – не только одна из наиболее красивых, но и одновременно самая интеллектуальная столица мира (после Москвы). Тут каждый камень несет след величайшей культуры. Улицы, набережные, площади, музеи, бульвары Парижа – незабываемы. В столице много гармоничных ансамблей. Тут мирно и органично соседствуют Лувр и Нотр-Дам, Пер-Лашез и Монмартр, Комеди Франсэз и Институт Франции (средоточие пяти академий), Елисейские поля и Эйфелева башня. Тут гений барона Османна удивительнейшим образом сочетается с талантом инженера Эйфеля. Поклонники же ландшафтной архитектуры направят свои стопы в величественный Версаль. Версаль – эталон французского классицизма. Это – русский Петергоф. Первоначальный замысел ансамбля состоял из города, дворца и парка. Его авторами были Луи Лево, Андре Ленотр и Ардуэн-Мансар. Начало работ над ансамблем относят к 1668 году. Над сооружением Версаля трудилась огромная армия архитекторов, художников, мастеров прикладного и садово-паркового искусства. Сады его великолепны. Как когда-то сказал о них Жак Делиль: Пускай другой поет украшенное славой К дворцу, парящему над окружающей местностью, ведут три широких проспекта, напоминающих трезубец Посейдона. К основному зданию примыкают два других. Помещения дворца отделаны с подобающей роскошью и разнообразием. Приемные залы посвящены античным богам (Аполлону, Диане, Марсу, Венере, Меркурию). Самое парадное помещение – Зеркальный дворец. Венецианский посол, описывая прием в версальской Зеркальной галерее, говорил, что там «было светлее, чем днем» и «глаза не хотели верить невиданным ярким нарядам, мужчинам в перьях, женщинам в пышных прическах». Дивное зрелище походило на некий волшебный сон («заколдованное царство»). Здесь масса чудесных строений: интимная королевская резиденция Большой Трианон, Мраморный двор и, конечно же, Версальский парк, являвший собой великолепное зрелище и прекрасную сценическую площадку для множества красочных и необычайных зрелищ, которые и устраивались тут двором.[687] Говоря о сооружениях подобного типа, всегда следует помнить о двух сторонах медали. Одна из них – чисто практическая. Во что обходится народу и государству та или иная королевская (президентско-парламентская) затея? Ученые подсчитали, что за полвека, с 1661 по 1715 гг., Версаль обошелся нации в 68 млн. франков (включая сюда обслуживание парка и служебных помещений дворца). Много это или мало? Сумма расходов безусловно значительная, но она сравнима с простым бюджетным дефицитом государства в 1715 г. (тот составил 77 млн. франков). С другой стороны, не надо забывать, что Версаль стал своего рода «учебником изящного и прекрасного» не только для французов, но и для всего мира. Сюда устремлялись десятки посольств. Кстати говоря, и Россия в лице Петра Великого вобщем-то взяла за образец Версаль для возведения целого ряда величественных сооружений в Петербурге, Петергофе или Царском Селе. Поэтому нам кажется справедливыми оценка этого сооружения Пьером Верле, заметившим: «Все согласятся, что Людовик XIV, подарив нам Версаль, обогатил Францию. Траты Великого короля подарили миру замок, которым нельзя не восхищаться». Любовь короля к Версалю передастся затем и Франции. Разделяем мнение Блюша: «И если в течение века многие будут стремиться создавать в Европе вещи, похожие на Версаль, то из этого можно сделать вывод, что оригинал был выполнен с блеском».[688] Знатоки театра устремятся на площадь Оперы (французы воспитаны классиками «больше, чем им самим это известно»), а поклонники наук двинутся, видимо, на площадь Сорбонны. Латинский квартал – цитадель студенчества и профессуры. В Парижский университет приезжают со всего мира. Здесь же, вокруг Сорбонны, расположены книжные магазины, дополняющие знаменитые развалы на набережной Сены. Париж – крупнейший университет культуры. Пословица гласит: «Lutetia non urbs, sed orbis» (Лютеция – не город, а целый мир). Нет сомнений в том, что, помимо средоточия эстетического наслаждения, Париж является центром мысли Франции. Андре Моруа писал: «Вы скоро поймете, что Париж для Франции больше чем столица. Париж – мозг этого огромного тела. Это вовсе не значит, что во французских провинциях нет выдающихся людей. В действительности коренные парижане занимают в стране место, соответствующее их числу. Но все великие люди провинции получают признание только в Париже. Репутация действительна только тогда, когда она подтверждена Парижем».[689] Париж – прекрасный учитель истории для подрастающих поколений французов. А. Франс сказал: «Мне кажется, нельзя быть полной посредственностью, если вы воспитываетесь на набережных Парижа, напротив Лувра и Тюильри, рядом с дворцом Мазарини и славной рекой Сеной, которая течет между башнями, башенками и шпицами колоколен». Гонкуры всю жизнь изучали город, сделав его центром их интересов. Импрессионисты воспели незабвенный Париж в тысячах картин и рисунков. Гюго писал, что если Рим порождает «чернь», то Париж порождает «народ»: «Дитя Парижа, даже необразованное, даже невежественное – ибо до тех пор, пока не будет осуществлено обязательное обучение, оно, по воле правительств, будет обречено на невежество, – так вот, дитя Парижа, не подозревая об этом и не замечая этого, дышит воздухом, который делает его честным и справедливым».[690] Лувр – это легенда Франции, ее муза и сокровищница. Туда устремлялись все, кто был отмечен когда-либо славой. Даже Мольер восклицал, обращаясь к музе: «Скорее в Лувр!» Делакруа проводил там дни и ночи. Если символом Рима является волчица, то символом Парижа стал Лувр (франц. «louve» – «волчица). Говорят, что на этом месте был когда-то расположен волчатник. Исторически Лувр возник в конце XII века на месте крепости, воздвигнутой Филиппом Августом около 1190 г. Затем тут стояли башни средневекового замка, одна из которых служила сокровищницей. Здание собственно Лувра стали возводить в 1540 г. и строили несколько столетий. Генрих IV в одной из зал замка поселил лучших мастеров живописи, скульптуры, ювелиров и чеканщиков. С 1640 г. тут печатались и книги. В XVII в. Людовик XIV предпринял грандиозную реконструкцию (1643–1715). Вокруг большой площади выстроились дворцы. Этот комплекс зданий и составляет нынешний Лувр, занимая территорию в 18 гектаров. С богатством его картин, скульптур, гравюр, рисунков, камней, гобеленов, фарфора, бронзы и керамики едва ли что может сравниться, разве что Эрмитаж. Луврский музей возник из небольшой королевской коллекции Франциска I, находившейся в его любимой резиденции – дворце Фонтенбло. Он задался идеей собрать в ней самые редкие драгоценности, которые стали бы принадлежностью короны. С него и пошла традиция собирать редкие предметы искусства и мастерства. Сюда стали поступать подарки особам королевского дома. Например, в залах Лувра можно увидеть зеркало в раме, украшенной изумрудами (это был свадебный подарок Венецианской Республики Марии Медичи). Среди россыпей редчайших драгоценностей особо выделяется знаменитый алмаз «Регент» (137 каратов), найденный в Индии, в копях Голконды. Алмаз пережил массу приключений, попадая в руки невольников, матросов, перекупщиков, губернаторов, герцогов, королей, революционеров (в 1792 г. он вместе с драгоценностями короны исчез при разграблении восставшими дворца Тюиль-ри), но каким-то чудом вернулся. Республика вынуждена была заложить алмаз богатому московскому купцу Трескову. Генерал Бонапарт вернул бесценный алмаз и приказал его вправить в эфес своей шпаги. Однако в 1799 г. он заложил его, чтобы иметь возможность совершить переворот 18 брюмера. Кстати говоря, русские цезари не покушались на драгоценности государства (а те, кто покушались, были далеко не русские). Самый старинный зал в Лувре – «Зал кариатид». Он свидетель свадьбы Марии Стюарт, здесь ставил пьесы Мольер. Наиболее интересны залы, посвященные искусству Древнего Востока. Грандиозное собрание египетских древностей ныне занимает 20 залов, где можно увидеть и бронзовую статуэтку царицы Карамамы (IX век до н. э.), знаменитого «Сидящего писца», рельеф с изображением фараона Сети I, принимающего ожерелье от богини Хатор. В одном из залов находится кусок из черного базальта с клинописными буквами «Свода законов царя Хаммурапи» (XVIII век до н. э.). В Отделе античного искусстваваше внимание наверняка привлечет знаменитая Венера Ми-лосская, обнаруженная на острове Милос (1820). Венерой Ми-лосской назвал ее первый исследователь, секретарь французской Академии художеств Катрмер де Кинси. Так же ее называл и офицер Дюмон-Дюрвиль, участник экспедиции на острова Греции, быстро оценивший находку крестьянина. Возможно, статуя принадлежала резцу Праксителя. Когда фигуру выставили на обозрение, вся образованная Франция пришла на поклон, хотя у нее не было левой руки (по свидетельству Дюрви-ля, некогда она была с яблоком в руке – Венера с яблоком Париса). О ней писали Ламартин, Шатобриан, Мюссе, Гюго, Готье и другие. Французам пришлось выдержать настоящую битву с греками, чтобы доставить эту бесценную статую во Францию. Особенно хороша картинная галерея Лувра (Леонардо, Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Гойя, Делакруа). Тут же и «Джоконда» Леонардо да Винчи (жена флорентийского банкира Мона Лиза). Одним словом, невозможно побывать в Париже и не быть в Лувре. Вспоминаются слова Леонардо, писавшего портрет Моны Лизы: «Нельзя допустить, чтобы эта модель скучала…Тогда ничего не получится, кроме мертвенной передачи более или менее сходных с оригиналом черт лица».[691] В последнее время Большой Лувр обновился и расширился. К нему добавилось «крыло Ришелье», открытое в 1993 г. и сопостоавимое по размерам со старым музеем XIX века, что на набережной Орсэ. Ансамбль, куда входит и «крыло Денона» с собранием итальянских, испанских и североевропейских культур, был полностью завершен в 1997 году. При этом открылись 35 новых залов французского искусства XVII–XIX вв. и были реконструированы залы античного искусства. Всего же во Франции имеется 34 национальных музея (из них 19 за пределами Парижа), а также около 900 музеев под контролем Министерства культуры. За последние четверть века были созданы или обновлены 80 музеев в Париже и провинции.[692] Видное место занимает Франция и в жизни России, даже если не уходить далеко в прошлое. Известно, что Петр I посетил Францию (1717), ставя перед собой важные дипломатические цели. Эта страна уже играла тогда лидирующую роль в политике и экономике, определяя, наряду с Англией, Испанией и Голландией, многое. Русский царь стремился усилить свои позиции на Черном море и нуждался в поддержке могучей Франции. Однако и французская держава нуждалась в хороших и добрососедских отношениях с восточным гигантом. Напомним, что к тому времени Россия победила такого грозного соперника, как шведы. Вот что сообщал маршал Франции граф де Тессе герцогу Орлеанскому о своем разговоре с Петром. Петр сказал: «Положение Европы изменилось, Франция потеряла своих союзников в Германии, Швеция почти уничтожена и не может оказать вам никакой помощи. Я предлагаю не только свой союз, но и мое могущество»[693] Стоит сказать о том, что предок великого поэта А. С. Пушкина, Абрам Ганнибал, крестник Петра Великого, учился в высшей военно-инженерной школе (Ecole de l'Artillerie). Идея созданной Людовиком XV школы принадлежит известному французскому инженеру Вобану. Попасть туда было очень трудно, ибо для этого требовались не только обширные знания в области математики и техники, но и высокие рекомендации из высшего света. Помогло то, что предок Пушкина имел военные заслуги перед Францией и за героизм, проявленный им в боях, получил чин инженер-лейтенанта французской армии. Три года спустя сам А. Ганнибал так описывал это событие: «Прошу донести Цесарскому Величеству, что я был в службе здес порутчиком инженерским, в котором полку я служил полтора года учеником. Понеже сделали здес школу новую для молодых инженеров в 1720 году, в которую школу не принимали иностранных, кроме тех, которые примут службу французскую, но я надеялся, что не противно Его Величеству, что я принял службу для лутчего учение»[694] В дальнейшем особый интерес вызвали в различных слоях русского народа два события – Французская революция и война против Наполеона. Современники отмечали, что «Французская революция имела в России, как и в других местах, много приверженцев», что «вольноглаголение о власти самодержавной (стало) почти всеобщим, устремляющееся к необузданной вольности, воспалилось примером Франции». Одним из непосредственных результатов повышенного интереса к этим событиям стало появление массы французских изданий: «Все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно». Шла активная торговля из-под полы «подрывной литературой», на которую был спрос у переводчиков, студентов, профессоров. Некоторые сведения печатались и в русских газетах. В 1789 г. был опубликован русский перевод «Декларации прав человека и гражданина». При этом царская цензура тогда еще не запрещала печатать материалы о революции во Франции. Французский посол граф Сегюр писал в мемуарах: «Хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы, и эта первая победа бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан и некоторых молодых людей более высокого социального уровня». Деятельное участие в революции принял даже воспитатель будущего царя Александра I, швейцарец Лагарп. Есть и масса других не менее значимых примеров, которые должны были бы заставить противников и недругов Революций всерьез задаться вопросом: «Почему?!» Почему многие просвещенные люди восприняли это событие с таким энтузиазмом. Правда, известный французский историк И. Тэн пришел к выводу, что революция 1789–1793 гг. была диктатурой городской черни в Париже и других городах, подобно тому как Жакерия была диктатурой черни в деревнях («История французской революции»). Этот ответ не может нас удовлетворить. Мы знаем, что Мирабо, Марат, Робеспьер чернью никогда не были. Не были ею Голицын, Строганов, Лагарп и другие.[695] Вероятно, у многих русских было предчувствие, что и России не избежать революции. Иные знатные русские приветствовали штурм Бастилии. В нем участвовали два сына князя Голицына, друг Радищева А. М. Кутузов, а Карамзин расхаживал по Парижу с революционной кокардой. Когда якобинцы основали клуб «Друзей Закона», туда вступил и граф П. Строганов (1790). По случаю принятия в члены клуба он заявил: «Лучшим днем моей жизни будет тот, когда я увижу Россию возрожденной в такой же революции». Странная и удивительная страна, эта Россия, где графы и князья будут воевать «за чернь»! Понятно и то, что отношение государственной власти России к Французской революции в корне изменилось после свержения короля и казни Людовика XVI. Известно, что Екатерина II пыталась собрать силы в Европе для разгрома республиканцев. Она не только субсидировала эмигрантов для восстановления монархии, но и за пару месяцев до своей смерти готовилась к организации, по сути дела, открытой военной интеревенции во Францию, планируя послать туда 60-тысячный корпус русских войск под командованием графа А. В. Суворова.[696] Живой интерес проявили к событиям и крестьяне. Э. Жене писал: «Крестьяне пожирают сообщения о французских событиях, печатаемые в русских газетах». Тут у всех был свой интерес. Наполеон рассчитывал, что крестьяне встанут на его сторону в надежде получить свободу. Насколько иностранцы не понимают Россию, говорят факты. Например, Наполеона уверяли в том, что стоит его армии подойти к Москве, как все крестьяне восстанут и Россия будет покорена (так же думал Гитлер). В крепостном народе ходили слухи, что «француз хочет взять Россию и сделать всех вольными» (1807). Особеннобоялись такого бунта и восстания богатенькие столицы (Москва и Петербург). Власти высказывали официальные опасения: может случиться так, что домашние люди, живущие без состояния и родства (а их немало), «в соединении с чернью все разграбят, разорят, опустошат». Шпики доносят о беседах среди крепостных мужиков. Один другому говорит: «Погоди немного, и так будете все вольные. Французы скоро Москву возьмут, а помещики будут на жалованье». Генерал Н. Н. Раевский выражал страх по поводу возможных возмущений крестьян (июнь 1812 г.): «Я боюсь прокламаций, чтобы не дал Наполеон вольности народу, боюсь в нашем краю внутренних беспокойств».[697] Таких примеров масса. Надежды или страхи на воцарение в России французского императора и порядков, как говорят в таких случаях, были преувеличены. Историк Ю. Лот-ман, читавший лекции в Тартуском университете, однажды так высказался по этому поводу: «Когда Наполеон вступил на русскую землю, он отчасти рассчитывал на поддержку русского крестьянства, которому он, по его мнению, нес освобождение от помещичьего гнета и крепостного права. Однако русское крестьянство его не только не поддержало, но, как мы знаем, приняло активное участие в партизанской войне, потому что для русского крестьянина было невозможно, чтобы русским царем был француз. В сознании русского крестьянина законным, природным русским царем мог быть только немец».[698] Попытку приоткрыть тайну событий во Франции конца XVIII в. предпринял и А. С. Пушкин, задумав очерк «О французской революции» (1831). Дело отчего-то не сдвинулось и он ограничился двумя ничего не значащими страницами. Возможно, великий поэт не смог или не пожелал честно ответить на острейшие вопросы, которые сразу же поставила перед ним тема. Нельзя забывать, что еще слишком свежи были в памяти раны (казнь декабристов). Словно ощущая внутренний зов, он вернулся к теме Великой Французской революции (в 1836 г.). В очерке «Александр Радищев» читаем: «Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра… В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения… Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на ценсуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой – чтобы писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».[699] Велик Пушкин, спору нет, но как социальный реформатор он вряд ли подходит на роль пророка. Жизнь ясно показала, что верховная власть в России готова слушать только себя. Плевать ей на крестьян, писателей, ученых, учителей. Она слушает лишь то, что отвечает ее личным и корыстным интересам. Да что мысль – ЖИЗНЬ ЛЮДСКАЯ, истинно «священный дар Божий», не ставится ею ни во грош! Поэтому она нуждается не столько «в содействии людей просвещенных и мыслящих», сколь в помощи жуликов, циников, иуд и негодяев. Резкая критика в адрес Французской революции не утихала в России и сто лет спустя. В частности, один из авторитетнейших русских мыслителей конца XIX-начала XX вв. Л. А. Тихомиров (как ранее Жозеф де Местр) подчеркивал, что так называемая великая революция не принесла истинной свободы народу… Однако для небольшой и даже ничтожной его части возникли небывалые возможности: «Для еврейства же открылась новая эра». Французские евреи предприняли очень серьезные усилия для того, чтобы раскачать корабль государственности. Дело даже не в том, что Моисей Мендельсон, живя в Берлине, стал вдохновителем Мирабо. Считается, что евреи при новой власти (либерально-рыночная модель) получили изумительную возможность соединить «демократию» (политическую машину господства кучки плутократов) с властью финансистов, спекулянтов («денежных мешков»). При этом разрушение христианской религии и соборов во Франции дало им тогда невиданную власть над умами (2300 католических церквей были обращены народом в «Храмы Разума»). В характерном отрывке из его «Религиозно-философских основ истории» (1913–1918) Л. А. Тихомиров говорит: «Из всего хода событий видно, какую могущественную поддержку успели себе они подготовить в революционной Франции. Крушение постигло христианские алтари и королевский трон, но евреев отстояли – то молчанием, то низвержением «тирана» (Робеспьера) – и привели к эмансипации. Это была заря так называемой свободы. Постепенно она стала распространяться по другим странам, разносимая революционными штыками и картечью. Не сразу это делалось, но так называемая эмансипация евреев была поставлена на всю мощь «современной» государственности, так что практическое осуществление равноправия было для разных стран лишь вопросом времени. При этой эмансипации евреи приобрели, однако, более чем равноправность: они стали привилегированным сословием или нацией, так как, получая все права граждан каждой страны, они всюду сохранили свою религиозную общину, которая, по существу, есть гражданская… Для евреев получилось положение чрезвычайной привилегированности. Впервые в истории… они получили большие права, нежели местные граждане стран рассеяния. Понятно, что каковы бы ни были дальнейшие цели Воскресения Израиля, страны новой культуры и государственности становятся с тех пор опорным пунктом еврейства».[700] В его словах, конечно, есть толика правды. Однако неверно ставить полный знак равенства между великой революцией и усилиями пусть влиятельной, но все же маргинальной группы. Если евреи и приняли участие в революции во Франции, то их влияние среди масс населения тут не было столь значимым, как, скажем, в той же России. Это не означает, что масонов не было в природе. Были. К масонским группам принадлежали даже некоторые видные представители Просвещения (д`Аламбер, Гельвеций, Вольтер). Отдельные масоны пописывали статьи в «Энциклопедию» Дидро. Однако соотнесите цифры и факты. Среди 150 редакторов «Энциклопедии» насчитывалось 10 масонов, а из 270 авторов опубликованных статей к их числу принадлежало только 17 (несколько заметных фигур). Связи Вольтера с «Энциклопедией» начались задолго до того, как он, уже в старости, вступил в парижскую ложу «Девяти сестер» (1778). К тому же «фернейский мудрец» довольно презрительно отзывался о них. Ходила легенда, что, якобы, и Наполеон был масоном. Но у него хватало и других проблем. Он не стал бы тратить время на подобные сборища. Находясь на острове Св. Елены, в одной из бесед он так охарактеризовал масонов (1816): «Это сборище глупцов, которые собираются, чтобы хорошо поесть и следовать смешным причудам». Хотя он и признавал: «Они помогли и во время революции, и совсем недавно ограничить власть папы и влияние духовенства. Когда чувства народа обращены против правительства, все секретные общества стремятся ему вредить». Последнее замечание верно. В те годы в странах Европы, как и во Франции, действовали противники царствующих режимов и правительств. Они работали скрытно, прикрываясь масонским орденом, что удобно для подрывных дел.[701] Такого рода масонский след мы затем увидим и в России. Однако вернемся к теме оценки Французской революции. Глубоко нами чтимый профессор Московского университета Н. И. Кареев видел смысл революции в реализации благородных «принципов 1789 года». Если В. И. Герье уделял больше внимания психологическим основам якобинской диктатуры, то Кареева, в основном, интересовали ее политэкономические аспекты. Знаток социальной истории, он в «Общих основах социологии» (1918) отмечал консерватизм масс «в культурном отношении, а следовательно в политической и правовой идеологии, равно как в хозяйственном быту». Важна социально-политическая оценка, данная им санкюлотам Парижа. Он решительно поддержал якобинцев во главе с Робеспьером, хотя не скрывал своего несогласия с ними в стремлении «превращения сословного общества в бессословное гражданство». Считая необходимым принятие государством суровых мер против плутократов и спекулянтов, он в то же время писал: «Главным способом к этому явилось насильственное вмешательство в экономическую жизнь посредством реквизиций, установление максимума для цен на жизненные припасы, казней над хлебными барышниками, биржевиками, поставщиками в армию и т. п., что останавливало, в свою очередь, промышленность и торговлю, вредило интересам других классов и отражалось на самих же санкюлотах, так что им, раз уже вступившим на эту дорогу, оставалось лишь или совершенно отказаться от такой системы улучшения своего материального быта или идти далее по тому же пути, т. е. делать революцию бесконечной и усиливать террористические меры».[702] Спор о Великой Французской революции (как и о революциях в России) не утихает и, полагаю, никогда не утихнет. В позициях сторон вскоре выясняется (если «поднять забрала»), чьи интересы, собственно, отстаивают спорщики. Жаждущие «заморозить» существующий несправедливый и позорный порядок делают акценты на просчетах, ужасах, преступлениях революции. Сторонники же народной власти и народно-демократического правления, естественно, делают упор на позитивных социополитических и экономических достижениях, последовавших за тем или иным радикальным переворотом. Иные старались затушевать сходство и усилить различия… Скажем, один из первых марксистов России, П. Струве утверждал (1920), что, кроме довольно поверхностных сходств в политической сфере, старый режим Франции не представлял аналогий с тем режимом, что был разрушен русской революцией. Для старого режима Франции характерны следующие черты: 1) партикуляризм, или раздробленность права и порядка управления в национально и культурно объединенной среде; 2) связанность торговли; 3) связанность промышленности; 4) крайнее развитие сословных привилегий, податное неравенство сословий. Вольтер острил, говоря, что, путешествуя по Франции, ему на каждой перепряжке лошадей «приходилось менять право». В России старый порядок отсутствовал: не было ни того партикуляризма, ни той архаичности права, которые характерны для Франции. Уже со второй половины XVIII в. в России окончательно восторжествовала свобода внутренней торговли, а внутренние таможенные пошлины были отменены в России «самодержавной императрицей Елизаветой приблизительно на сорок лет раньше, чем они были отменены французским революционным парламентом». В эпоху французской революции в России при господстве крепостного права в значительной мере (юридически) господствовал принцип свободы промышленности. Крупнейшим отличием русской революции от французской, по мысли Струве, было и то, что во Франции литература XVIII в. создала дух, который безраздельно господствовал и не имел себе соперников. «Рядом с ним не было никакого духовного течения, которое тогда же выдвинуло бы крупные умы и создало бы великие произведения. «L`esprit classique» в его редакции XVIII века вдохновил революцию и воплотился в ней. Только потом пришли Жозеф де Местр и Огюст Конт, между которыми стоит Сен-Симон. Совсем другое дело в России. В ее духовной жизни тот дух, который вдохновил революцию и воплотился в ней, не был отнюдь ни оригинальной, ни единственной, ни самой могущественной духовной силой».[703] Еще большее значение обрели взаимоотношения России и Франции на рубеже XVIII–XIX вв., когда две армии столкнулись в Европе в борьбе за геополитическое господство. В суть этого спора вдаваться не будем, ибо это тема специального исследования. Суворов ведь заставил Европу считаться с Россией (единственный и самый эффективный способ вызвать у Европы уважение к себе – бить ее на всех фронтах или торговать с нею, лучше то и другое). Стоило «непобедимому» Наполеону узреть мощь наших армий, как он тут же стал юлить. Известно, что мысль о союзе России и Франции витала со времен Шетарди, который вел переговоры с царицей Елизаветой Петровной. С этой целью направили и графа Сегюра к Екатерине II. Бонапарту на первом этапе была очень нужна поддержка могущественной России. Будучи первым консулом, тот всячески старался найти ключик к сердцу русской монархии. Он даже просил об этом прусского короля, говоря в январе 1800 года: «Мы не требуем от прусского короля ни армии, ни союза; мы просим его оказать лишь одну услугу – примирить нас с Россией». Когда на престол в России взошел Павел I, многое изменилось. В России многое, если не все, зависит от ориентации «монарха». Если он смотрит на Англию, США – курс один. Если России повезет и у власти оказывается личность поумнее, знающая историю и традиционный антируссизм англосаксов – ситуация иная. Павел был более дальновидным политиком, нежели у нас привыкли о нем думать и говорить. Он заявил: «Что касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее прибегающей ко мне, в особенности как противовесу Англии». Стоило англосаксам распознать, куда дует ветер (антианглийский курс), они тут же повели тайную войну против царя. Посол Англии Уитворт дерзко и угрожающе заметил: «Император в полном смысле не в своем уме».[704] Обе державы «созданы географически, чтобы быть тесно связанными между собой». Бонапарт считал, что Франция и Россия должны быть стратегическими партнерами. В свою очередь, и Павел проявлял знаки внимания и симпатии к французскому руководителю (в его кабинете появляется портрет Бонапарта, он резко требует от Людовика XVIII покинуть Ми-таву). Они строят совместные грандиозные планы: высадка в Ирландии, раздел Турции, военные действия в Средиземном море и покорение Индии (35-тысячный французский корпус должен был встретиться с русским в Астрахани, на пути в Индию). Хотя план сохранялся в тайне, кто-то из царского окружения наверняка донес. Англия всполошилась. И Павла I убрали свои заговорщики (Н. Панин). Все предатели в России обычно находятся в «ближнем окружении». Поговаривали, что в убийстве замешан посол Англии Уитворт. Так считал и Бонапарт: «Они промахнулись по мне 3 нивоза, но попали в меня в Петербурге». Союз с Францией не состоялся. Англия нанесла удар с обычным коварством, как тайный убийца.[705] 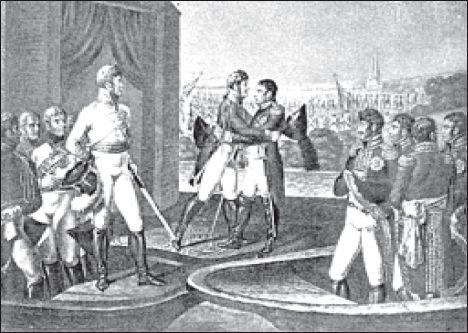 Свидание в Тильзите. Интерес к Франции у русских не пропадал никогда. В 1790 г. писатель Н. М. Карамзин посетил столицу. Он так описывал Париж тех лет: «Принимаясь за перо с тем, чтобы представить вам Париж хотя не в совершенной картине, но по крайней мере в главных его чертах, должен ли я начать, как говорили древние, с яиц Леды и объявить с ученою важностию, что сей город назывался некогда Лютециею… Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге… Вошедши в сад (авт. – сад Тюльери), не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада, или красотою бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник Ленотр, творец сего, конечно, искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатью ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так, как в полях Елисейских, а так называемые лучшие люди, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу, посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы – красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет – взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Останьтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите… тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира – кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, – зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или по крайней мере цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты – так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным и самым вонючим городом».[706] В то время город еще не был таким, как описал его Бодлер: «Дворцы, ступени и аркады в нем вознеслись, как Вавилон». Карамзин побывал во Франции в самые горячие дни начала революции. Вероятно, он стал свидетелем многих захватывающих событий. Тогда толпа в Париже устроила самосуд над генеральным контролером финансов Фулоном (конец сентября 1789 г.). Он устанавливал налоги и вызвал всеобщую ненависть масс своими словами о том, что голодающие могут жрать сено. Его отрубленную голову, окровавленный рот которой был набит сеном, носили по улицам Парижа. Это было дикое и страшное зрелище. Но разве не прав был Бабёф, обвинивший власти в том, что они превращают народ в зверей?! Он побывал и в Лионе, где видел сцены такого же рода. В целом, его отношение к революции было, скорее, негативным. Он увидел во французском народе «страшного деспота», который только и занят казнями и насилиями, крича «a la lanterne»! («на виселицу!»), хотя будущий историк не мог пропустить столь выдающегося события. Кутузов, посетивший в это время Париж, оценивая итоги заграничного путешествия Карамзина, писал: «Может быть, и в нем произошла французская революция?» Историк побывал и в театрах, и в салонах, и на улицах, и в Национальном собрании. Несмотря на то что он однажды сказал «боюсь крови и фраз» (по поводу испанской революции), его увлекли речи Робеспьера, которого он слышал многократно. Ю. М. Лотман в книге о Карамзине писал: «Карамзин наблюдал. То, что он видел, его, вероятно, ужасало, но и влекло. Можно думать, что в вихре политических мнений, в потоке слов магнитной стрелкой для него была личная честность говорящих. С этим связана неожиданная, но засвидетельствованная достоверными и близко знавшими Карамзина мемуаристами глубокая человеческая привязанность его к Робеспьеру. Николай Тургенев вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. – Ю. Ё.) рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы: под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи». Мнение это тем более должно было удивить Николая Тургенева, что сам он к Робеспьеру относился весьма отрицательно. Однако этому не следует удивляться: декабрист Тургенев, когда думал о Робеспьере, видел перед собой исторического деятеля, известного ему по страницам книг и брошюр. Он оценивал политическую программу и историческую роль вождя якобинцев. Карамзин видел перед собой человека, его жесты и позу». Позже он, правда, несколько разочаровался в утопии, сказав стихами: «И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить»[707] Даже наше признание гения Франции и ее культурных заслуг не позволяет закрывать глаза на общее (убогое) развитие европейского люда. Вот что писал в своих заметках русский писатель Фонвизин, путешествовавший по Европе в XVIII в.: «Могу сказать, что кроме Руссо, который в своей комнате зарылся как медведь в берлоге, видел я всех здешних лучших авторов. Я в них столько же обманулся, как и во всей Франции. Все они, выключая малое число, не то, что заслужили почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер». В другом месте читаем: «Человеческое воображение постигнуть не может, как при таком множестве способов к просветлению, здешняя земля полнехонька невеждами. Со мною вседневно случаются такие сцены, что мы катаемся со смеху. Можно сказать, что в России дворяне по провинциям несказанно лучше здешних, кроме того, что здешние пустомели имеют наружность лучше». В письме Фонвизина П. И. Панину делается весьма любопытный вывод, не лишенный актуальности и во времена нынешние: «Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею в многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве».[708] Эволюция ума русского драматурга, начавшего свой идейный путь с поклонения Западу и атеизма, а пришедшего в итоге к вере и национализму, могла бы кое-что подсказать и современникам. Повышенный интерес к России проявляли и французы. Особенно это стало заметно в XVIII–XIX вв., когда они поселилисьв двух русских столицах (в связи с революцией и эмиграцией). На территории Российской империи в 1793 г. обитало 2423 француза. Три четверти проживали в столицах и ближайших к ним городах. Если и заносил ветер судьбы в провинцию, то в качестве учителей. В основном это были все же представители трудовых профессий (учителя, военные, ремесленники, повара). Хотя около тысячи из них могут быть отнесены к лагерю «диссидентов» (политических эмигрантов). Среди известных эмигрантов: брат якобинца Ж. – П. Марата – Будри, философ и писатель Жозеф де Местр, который прожил в России около 14 лет, и, наконец, герцог Ришелье (известный на всю Одессу «дюк»). «Дюк» Ришелье оставил заметный след на юге России. По поручению Екатерины он создал план военных поселений в Новороссии. Его назначили губернатором огромного южного края, включавшего три губернии. Вот как писал о нем историк Д. А. Ростиславлев: «В своей практической деятельности герцог пытался воплотить свой политический идеал. Он управлял Но-вороссией, как средневековый сюзерен, ревниво относясь к вмешательству в дела края столичной бюрократии. Ришелье лично объезжал край, возглавлял военные экспедиции против непокорных горцев, вникал во все вопросы управления, выделения земельных участков. Для своих подданных он был справедливым правителем, судьей, распорядителем земельного фонда. Ришелье опирался в управлении на людей, которым он лично доверял. Среди них абсолютно преобладали дворяне, в том числе французские эмигранты».[709] При Екатерине II в столицах появилось множество модисток и лавок модной одежды. Когда в Москве дамы отправлялись на Кузнецкий мост за покупками, они говорили: «Ехать во французские лавки». В повести Сенковского даже есть такое выражение: «все эти Европейцы Кузнецкого Моста». Вспомним и слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума»: А все Кузнецкий мост, и вечные французы, Влияние французской культуры было более широким. Важным «агитатором» и «пропагандистом» выступал живой французский язык. Все образованное общество в России худо ли, бедно ли, но владело французским языком. Хотя, как утверждал маркиз де Кюстин, знали они его ровно настолько, «чтобы читать, да и то с трудом». Тем не менее, это приличный вполне уровень. Образованные люди знакомились с главными произведениями, созданными во Франции. Император Николай I каждый день прочитывал от первой до последней строчки единственную французскую газету «Журналь де Деба». Хотя свет общался, скорее, на некой смеси «французского с нижегородским», были в русском обществе и такие высокообразованные личности, как А. С. Хомяков. Французский язык Хомякова неизменно вызывал восхищение у тех, кто с ним сталкивался. Г. Морель вспоминал: «Французский читатель испытывает впечатление, исполненное очарования. Прежде всего, это восхитительная неожиданность: спрашиваешь себя, откуда иностранец, который едва лишь проездом повидал Францию, мог столь совершенно овладеть ее языком? Ибо французский язык Хомякова не просто правилен и даже изящен, в нем не только различаются наитончайшие оттенки смысла слов, но более того, предложения – всегда остающиеся легкими, несмотря на свою длину, – развиваются с гармонией и плодовитостью, напоминающей лучших прозаиков великого столетия. И однако, сколь бы ни был французским язык Хомякова, чувствуется, что ни в какую эпоху так не писали по-французски во Франции. В XVII в. не было этого лексикона, а в XIX уже не было этого синтаксиса. Хомяков много читал наших лучших авторов, и именно им он обязан архаическим совершенством своего языка»[710] Порой переходил на французский язык и Пушкин. И. Тургенева называли «самым французским из русских писателей». Философ Вл. Соловьев сочинил на французском главный труд – «Россия и Вселенская церковь», а ученый И. Мечников, переехавший жить во Францию для работы в Институте Пастера, вообще писал работы на французском. Директор Института Пастера Э. Ру говорил ему: «Оставаясь русским по национальности, вы сделались французом». Хотя эта увлеченность французской культурой верхов порой переходила все разумные границы. Как скажет российский историк В. О. Ключевский: «Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Сегодня же из нас, русских, хотят сделать англосаксов или, на худой конец, евреев. Впрочем, следовало учесть, что французский язык был в то время языком международного общения, признаком принадлежности к высокой культуре. В этом смысле показательно и характерно письмо юного А. Горчакова, будущего канцлера, к дядюшке, где тот пишет: «Приятно мне очень видеть из Вашего письма, любезный дядюшка, что Вы хотите из французелюба (за которого Вы меня почитаете) сделать русского, но позвольте заметить, что тут вы немного ошибаетесь, люблю французский язык, потому что он необходим, что без него нигде показаться нельзя и что, словом, он сделался вернейшим признаком хорошего воспитания. Но я к нему не пристрастен до той степени, чтобы пренебречь отечественной словесностью» (из Царскосельского лицея).[711] Подобные слова мог сказать в ту пору едва ли не каждый член высшего общества. Не случайна и полная победа карамзинского стиля. Ведь Карамзин многое перенял у французов. П. Милюков довольно тонко подметил в «Очерках по истории русской культуры», что «славянщина» была окончательно вытеснена из литературного языка, чтобы уступить место «приятности слога, называемой французами elegance».[712] Впрочем, интерес к французскому языку был заметен и в провинции (среди дворян). Скажем, ярославский помещик Н. И. Тишинин (переводчик, литератор) принимает решение обучать свою дочь французскому и заключает договор с учительницей из Франции, некой Ж. де Крузаз. Текст гласит: «Я обязуюсь вступить во услужение к господину Тишинину французскою мамзелью на следующих кондициях; а именно обещав дочери его, благородной девице, дать пристойное воспитание в рассуждении как обхождения, учтивости и прочих похвальных качеств, так и особливо добосердечия и достойных природы своей нравов; словом, она от меня все наставления получить имеет, которые благородной девице знать должно, причем обучать ее буду французскому языку, истории и географии, и для того родитель ее меня не оставит, снабдит потребными книгами. Еще же я обязуюсь обучать ее читать, писать по орфографии, сколько я сама умею, сверх того и служительнице нашей не оставлю давать наставление во французском языке. Я надеюсь, что со мною поступлено всегда будет с такою учтивостию, которую учительнице оказать должно; …в рассуждении платы я довольна тем, что господин Тишинин мне обещать изволил… двести рублев в год» (1767).[713] Значительная часть военных, побывавших в Париже с великой русской армией, сокрушившей Наполеона, конечно, не могла остаться равнодушной не только к прелестям француженок, но и к социально-политическим и культурным завоеваниям французского народа. Это выражалось в письмах домой, в понимании высокого уровня жизни европейцев. Впоследствии все признавали значение такого вот психологического воздействия. Спустя многие годы поэт А. Фет в переписке с великим князем Константином Константиновичем (известным в литературе как поэт К. Р.) отмечал: «Принесшие из Парижа дух французских писателей XVIII века гвардейцы задумали перенести революцию и на русскую почву; но декабристы встретили отпор непреклонного хранителя самодержавия Николая Павловича. Несмотря на полнейшую неудачу, республиканский дух преемственно сохранился в высших умственных слоях, преимущественно мира науки. Гвардейцы заразились в Париже гражданским свободомыслием, а адепты германской науки – в философских школах».[714] На французском писались даже конституции. В 1820 г. в канцелярии Н. Н. Новосильцева в Варшаве, по поручению императора Александра, составлена конституция по-французски, не по-русски (похоже, у нас все конституции пишутся «западниками» то на французский, то на американский манер). Проект российской тогдашней конституционной хартии декларировал политические свободы и равенство всех граждан перед законом. Увы, цели этого проекта так и остались на бумаге.[715] В иных случаях, впрочем, к месту и слова Г. Державина: «Французить нам престать пора!» Почему бы нам не создать основной Закон страны по русским меркам! Вон и на триумфальной арке в Царском селе, воздвигнутой в честь побед русского воинства над Наполеоном, надпись была сделана на французском. Характерно и то, что когда в 1829 г. в России отмечалась 25-летняя годовщина взятия Парижа и решили воздвигнуть памятник победы над галлами (а с ними – двунадесять языков), исполнение проекта опять же было поручено французу А. Монферрану (1786–1858). Как известно, Монферран получил образование в Королевской школе архитектуры, где учился у главных архитекторов Наполеона (Ш. Персье, П. Фонтэна). С 1816 г. он жил и работал в России, будучи автором проекта Исаакиевского собора. А затем вот родилась и величественная Александровская колонна в Петербурге, которая была выше известных дорических колонн Антонина, Траяна и Вандомской колонны. Кроме того, в нее был заложен и совершенно иной содержательный смысл. Верх колонны украшала не фигура цезаря, а образ Веры в виде ангела с крестом в руках, попирающего ядовитую змею. Колонна символизирует победу славного русского воинства над европейскими варварами (внизу помещены наряду с римскими доспехами и русские – скульптурные изображения шлема Александра Невского, лат царя Алексея Михайловича, щита князя Олега, некогда прибитого на вратах Царьграда). Подобно тому как французский язык некогда вошел в обиход значительной части российского дворянства, по популярности с ним соперничала и прекрасная французская кухня. Начиная с петровско-екатерининских времен в Россию хлынул поток парикмахеров и кухмистеров из Европы. Естественно, в их числе были и французы (знаменитые французские повара Карем, отец и сын Жебоны, Пети, Гильта и другие). Надо сказать, что они нисколько не испортили русской кулинарной школы. Напротив, даже сделали стол наших любезных соотечественников разнообразнее, тоньше, изысканнее. Эти вкусы укоренились в обществе, несмотря на краткий период «застольной блокады», когда русские объявили супостатам в 1812 г. бойкот (бойкот не только оккупантам, но и французским кушаньям и винам). Многие тогда из патриотических побуждений перешли на все русское (кулебяки, каши, кислые щи).[716] Понятно, что влияние французских нравов и вкусов выходило за границы столов, «книжных и бисквитных лавок». Характерно, что даже «солнце русской поэзии» А. С. Пушкин, говоря как-то о значении «Горе от ума» тогда еще не признанного Грибоедова, отразил то глубокое проникновение французской истории и культуры в умы и языки российского образованного общества. Он сказал: «Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерской ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе».[717] Мода не ограничивалась лишь лавками. В XVIII в. писатель П. – О. Бомарше написал комедию «Севильский цирюльник» – и стал великим. В России в конце XX в. создается помпезный «Сибирский цирюльник». В первом случае слуга-цирюльник становится народным героем, во втором герой-император больше похож на слугу, «слугу двух господ». Гражданское общество в России всегда симпатизировало французской культуре. Побывав в России, это обстоятельство отметил и писатель А. Дюма (1858). В частности, он увидел, что многие образованные русские знают и любят Виктора Гюго, Ламартина, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и зачитываются его романами (даже в отсталой тогда еще Финляндии). Он решительно был несогласен с де Кюстином, утверждавшим, что сам воздух Россиии чужд искусству («воздух этой страны враждебен искусству»). Кстати, большая заслуга А. Дюма в том, что, вернувшись во Францию, он познакомил французского читателя с поэтами и прозаиками России. Не зная русского языка, он при помощи подстрочника сумел создать первые поэтические переводы из Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Некрасова, перевел повести Бестужева-Марлинского и Лажечникова, способствуя сближению культур.[718]  Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I в Ленинграде. 1766–1782 г.г. После завершения тяжелейшей войны против Наполеона возрос интерес и к французским мемуарам. Чем он вызван? Конечно, не только желанием узнать мнение вчерашнего противника о России, но открывшимися перед русскими большими возможностями, известной тягой к европейскому миру и культуре. Тысячи людей, не покидавших ранее отечества, теперь, так сказать, полЕвропы прошагали (в первый раз). Одним из примеров культурного влияния, последовавшего после личного знакомства с Европою, стал и пробудившийся в России интерес к мемуаристике. В начале XIX в. во Франции появились мемуарные серии книг (по 60—100 томов). Из Европы в Россию хлынул настоящий книжный потоп. «Московский Телеграф» отмечал: «Особенно Франция представляет в своем отношении богатый запас материалов и неимоверную деятельность книгопродавцов. Неудивительно! Книги французские читаются везде». В. Белинский рассматривал исторические записки (memoires) в качестве прямой «собственности французов», называя оные – «чадо их народности». Многие искренне желали, чтобы и в России, наконец, появилась такого рода мемуарная литература. Мемуары с точки зрения социокультурного и политического влияния выполняют важную общественную роль. Мемуары – память народа, запечатленная в книгах. Раньше «право на память» имели лишь царственные особы и вельможи. Порой в их ряды попадали различные выдающиеся личности (писатели, художники, ученые). После же эпохи революций многие обрели право не только владеть собственностью, избирать и быть избранными во власть, но и писать мемуары. Так, глас обычного, простого человека стал доступен векам и потомкам. Трудно переоценить всю значимость этого события. Отныне мы – «свидетелиистории», глас которой уже не замолчать. Разумеется, иные мемуары не гарантируют от искажений действительности. Но они более красноречивы, нежели «сухие документы» (которые так же могут лгать). В мемуарах обманы и пристрастия заметнее. Народ, любящий читать мемуары, имеет больше шансов обрести свободу. Ведь в них можно поведать истину, заклеймить тиранов, предателей и воров, отомстить врагам отчизны. Любите мемуары. В них сокрыто тайное оружие, которое может вдохнуть веру и энергию в людей достойных, преданных своему отечеству (или же наказать властных ничтожеств). И тогда огненные строки, словно письмена Валтасара, появятся на чертогах презренных правителей. Любите мемуары, друзья. Последнее обстоятельство заставляло верховную власть в России относиться с крайней подозрительностью, чуть ли не с тайным страхом ко всякого рода запискам и мемуарам. Иные вельможи (цари, генсеки, премьеры, президенты, банкиры, генералы и т. д.) так наследили в истории России, что норовят подальше спрятаться от глаз потомков. Академик Л. Н. Майков удивлялся, приводя в пример Англию, где существовал обычай после смерти известного лица печатать все материалы, касающиеся его биографии. У нас в России тогда наблюдалась совершенно противоположная картина. Умрет знаменитый человек – и через 20–30 лет материалы о нем приходится разыскивать «как о каком-нибудь деятеле древних времен». Хотя, с другой стороны, надо было бы спросить: а может, он жил так, что народ уже через 20 лет вспоминать не хочет об этом властителе-разбойнике! Вот и А. Я. Булгаков, когда писал брату, санкт-петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову, сожалел: «У нас не так, как во Франции; там всякий министр пишет все, что видит, знает и делает».[719] Чудной человек этот А. Я. Булгаков. Он, кажется, не вполне отдавал себе отчет, что живет в России, а не в Англии или Франции… Да если у нас каждый царь, президент, премьер, министр, генерал, или крупный чиновник начнет писать всё, что знает, ему же головы не сносить. Хотя Александр III при открытии французской выставки в Москве (1891) обнажил голову, стоя выслушав гимн Французской республики «Марсельезу». Используя нашу музыку, Э. Ленобль и М. Роже пишут франко-русский гимн: «Оба народа священные узы будущим свяжет одним». Это было время русско-французского сближения и создания союза. В 1897 г. Розанов набросал отрывок «Франко-русских впечатлений», в котором, наблюдая французов среди русской толпы, отметил «превосходство русского в сторону глубины» и превосходство француза «в сторону естественной, природной грации». Гораздо более важна готовность французов к активному действию, к воплощению замысла, к мускульному поступку. У нас же Иван готов сотню-другую лет просидеть на куче навоза, все возмущаясь по поводу того, что никто не взял, да не убрал эту «кучу дерьма» (за него и вместо него, разумеется). Розанов пишет: «О, тупица тысячу лет просидел бы в навозе и твердил: «je suis et j`y reste»; его обстригли бы, его хоронили бы, и он, уже только кончиком носа выглядывая из-под земли, твердил бы: «je suis et j`y reste». Но эта фригийская шапочка – это эмблема исторической резвости, вечного внимания к минуте; внимания и к окружающему; и под нею, как под чеченскою папахой или старомосковской пудовой шапкой, нельзя прийти в состояние, описанное поэтом в стихе: «Спит, покой ценя». И вот отчего эту вечно одушевленную резвушку так любили всегда европейские народы; таким связующим, объединяющим и, следовательно, высокочеловечным звеном она вошла в семью их».[720] Этой вот «резвости», политической воли и гражданского мужества очень не хватает нам, русским (русским особенно). Простой народ относился ко всяким «французским штучкам» без особого энтузиазма. Он видел не радужные образы европейца, а колонны мародеров и захватчиков, вторгшихся в Россию под знаменами «просвещенной Европы». Труженик не разделял любования интеллигенции заграницей и неумеренное восхваление оной. В народной среде получили распространение шутливые песенки, вроде той, что приводим ниже («Москва и Париж»): Не дошедши до Парижа, Частично поэтому у некоторых французов и европейцев складывалось о России не всегда верное (и не очень лестное) представление. Достаточно заглянуть в книгу Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Маркиз, воспользовавшись кратким путешествием по России, сделал далеко идущие и в основе своей ложные выводы. Он уезжал из Парижа с надеждой, что лишь тесный союз Франции и России способен внести мир в европейские дела. Но, увидав вблизи русский народ, узнав «истинный дух» его правительства, он почувствовал, что наш народ отделен «от прочего цивилизованного мира мощным политическим интересом, опирающимся на религиозный фанатизм». Кюстин уверял французов, что они должны искать себе поддержку у других наций, с которыми их связывают общие нужды и интересы. Такими великими нациями он счел французов и немцев, за которыми последует остальная Европа. «Судьбы нашей цивилизации, открытой, разумной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы». О том, что представляет собой эта «разумная Европа», мы видели и видим. Она развязала две мировые войны и недалека от развязывания третьей.[722] Каковы же его впечатления от самой России, её целей и её будущего? Перед нами предстает мрачное, тупое и безнадежное общество. Создается впечатление, что Кюстин специально поставил целью представить Россию «страной запуганных идиотов». Дадим ряд выдержек. Итак, в России человеческое достоинство, конечно же, совершенно неведомо. Русские более проворны, чем мускулисты, более свирепы, чем энергичны, и более хитры, чем предприимчивы. Самое для них трудное и наименее естественное – это чем-то всерьез занять свой разум, на чем-то сосредоточить воображение. Русские не могут найти себе полезного применения, ибо – вечные дети. Ум их от природы ленив и поверхностен. Они напрочь лишены и научного гения. У русских никогда не проявлялась способность к творчеству. Ими движет только страх. Поэтому они готовы идти на всё. Кюстин видит колосса вблизи – и ему трудно представить, что сие есть творение божественного Промысла. Кюстин убежден в том, что главное предназначение России «покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия». Россия, считает он, «недоцивилизация». Удел русского общества (как думали тогда и думают сейчас многие «знатоки России» в Европе и западном мире) – «распространить свои завоевания на Восток, а затем распасться самому».[723] Подобная глупость живуча. Ох уж этот «бесстыдный ум француза» (К. Бальмонт). Очевидно, у Кюстина – «плохая память»… Ведь это не Россия, а Франция во время революции декретами Конвента установила в Европе французскую диктатуру! Поход во имя освобождения стал походом завоевателей. Бриссо в 1792 г. заявил, что «границей Французской республики должен быть только Рейн». Не было и речи о всяких там демократиях и свободах для народов. Революционеры заявили: «Поэтому объявите, что вы никогда не будете вступать в переговоры с бывшими тиранами…» Так действовала буржуазия, признавая суверенитет только тех, кто признал законную власть Революции, давала собственность на управление лишь лояльным к Франции, ввела французские деньги. Это был революционный «протекторат Франции над народами». Ее курс в Европе был повсюду принудительным![724] Сложным было, естественно, отношение народов и к французам. Руссо говорил: «Франция, эта кроткая и доброжелательная нация, которую все ненавидят и которая ни к кому не питает ненависти»? В чем причина такого к ней отношения? Разве не в том, что эта «кроткая и доброжелательная нация» поставила на колени почти полмира! Мы уже не говорим о прозелитизме, свойстве, которое де Мэстр считал преобладающим свойством французского характера (по отношению к идеям и, добавлю, к модам). Идеи вообще опьяняют французов (и русских), подобно самым крепким винам. Аббат Галиани говорил, что если итальянец играет словами, то француз одурачивается ими. Итальянцы с немалой завистью и страхом взирали на подъем Франции. В начале XIX в. Джиоберти писал о «чрезвычайно поверхностной и шарлатанской Франции» и называл её в одном из стихов «злодейская и черная Франция». Мстя французам за победы, он обрушил на них потоки критики… Плебеи, лишенные «творческой силы», не способные «господствовать над миром». Он высмеивал их любовь ко всему человечеству, называя «первыми лгунами на земном шаре». Они готовы проявлять забавное фанфаронство, называя «свои революции мировыми». Так же будут поступать и революционеры в России. Французы – тщеславны, как и все нации, но это еще не основание для того, чтобы лишать их заслуженных наград и героизма (там, где они того стоят). Особые отношения у французов с немцами… Они напоминают отношения Зевса со своим сыном Аресом (Марсом), или Кастора и Полидевка. Народы эти часто меняются ролями, так что сразу и не определишь, кто из них кто. Однако немец не сделает и шага, не спросив себя, а что об этом подумает его кровник-француз («глаза Германии всегда были устремлены на Францию»). Многие немцы старались по мере сил быть объективными к сопернику. Кант отмечал их «благорасположение и готовность помочь», «радость при оказании услуги», «универсальную филантропию», хорошее воспитание и вежливость. Француз «любит, вообще говоря, все нации». К примеру, «он уважает английскую нацию, тогда как англичанин, никогда не покидающий своей страны, вообще ненавидит и презирает француза». Кант считал, что французская нация, в целом, достойна любви. При этом он подчеркивал, что все главные заслуги и достоинства французской нации связаны с женщиной. «Во Франции, – говорил он, – женщина могла бы иметь более могущественное влияние на поведение мужчин, чем где-либо, побуждая их к благородным поступкам, если бы хоть немного заботились о поощрении этой национальной черты». Гете не только признавал хлебосольство французов, но и воздавал должное их гениям: «никогда не будет узнано все, чем мы обязаны Вольтеру». Он отмечал наличие в них «ума и остроумия», а также глубины, гения, воображения, возвышенности, естественности, таланта, благородства и т. д. и т. п. В то же время указывал на отсутствие у них устоев и уважения к религии. Автор «Демокрита» Вебер (XVIII в.) был уверен, что «французы имеют право занять первое место среди народов и составляют действительно высшую нацию по своей живости и быстроте ума». Когда другие народы обычно плакали бы или корчились от бешенства, «они смеются, и так было всегда…» Бальзак писал о своем народе (вспоминая Стендаля): «Автор смеется над тем, что любит, он – француз».[725] Мнения немцев в отношении галлов порой содержат и скрытую неприязнь, не говоря уже о всевозможных колкостях. Фридрих II бросил в их адрес упрек (или похвалу?): «Мне нравится приятная мания французов быть вечно в праздничном настроении; признаюсь, я с удовольствием думаю, что четыреста тысяч жителей большого города поглощены исключительно прелестями жизни, почти не зная ее неприятностей…» (1739). Гейне отмечал, что французы «любят войну ради войны, вследствие чего их жизнь, даже в мирные времена, наполнена шумом и борьбой». Они не только тщеславны, но и примешивают к тщеславию «погоню за наиболее прибыльными местами», обладая «общей манией разрушения». Впрочем, он же отдавал должное их завоеваниям, говоря: «Восхвалим французов! Они позаботились о двух величайших потребностях человеческого общества – о хорошей пище и о гражданском равенстве: в кулинарии и свободе они достигли величайших успехов, и когда мы все на равных правах соберемся на большой пир примирения, в хорошем расположении духа, – ибо что может быть лучше компании равных за хорошо накрытым столом? – то первый тост мы провозгласим за французов».[726] Они способствовали эмансипации народов. Даже знаменитая живость и разговорчивость французов воспринималась немцами по-разному. Одни подчеркивали значение разговора: «Здесь действительно не щадят усилий, и французы чрезвычайно ценят умение выражаться. Разговаривать – значит для них думать вслух. Франция – это ум, грация, вежливость, восторженность: она напоминает стакан пенящегося шампанского. Французы во всем находят хорошую середину, почти не оставляющую места крайностям». Достойно и то, что «французы защищают своих друзей, не жалея крови». Другие были крайне нелестного мнения о тех же самых особенностях и привычках. Иные отмечали: «Французу необходимо болтать, даже когда ему нечего сказать». Немецкий философ Шопенгауэр бросил крылатую фразу: «у других частей света имеются обезьяны; у Европы имеются французы». К. Фохт, отвечая на нападки на галлов Моммзенов и Фишоров, заметил в своих «Политических письмах»: «Услуги, оказанные Францией европейской цивилизации даже при правлении Наполеонов, так значительны, ее содействие прогрессу и культуре нашего времени настолько необходимо, что, несмотря на все совершенные ею ошибки и на всю ответственность, навлеченную ею на себя, симпатии возвращаются к ней, по мере того, как судьба наносит ей свои удары… Я говорю себе, что Европа без Франции была бы хилой, что без нее нельзя обойтись и что в случае, если бы она исчезла, ее должны были бы заменить другие, менее способные играть ее роль. Эти французы составляют нечто, и всякий, отрицающий это, вредит самому себе».[727] Что же такое это «нечто» в обобщенном виде? Итак, подведем итог: 1) французская провинция сцементировала тело нации (Жанна д`Арк и другие), возродила Францию, вопреки Валуа; 2) короли и кардиналы создали абсолютистское правление, но монархия не выдержала испытания временем; 3) эпоха Просвещения подняла уровень культуры и жизнеобеспечения народа (Вольтер скажет: «Пусть говорят что угодно, в Европе больше людей, чем было тогда, да и люди стали лучше»); 4) события XVII–XIX вв. упрочили место Франции и Парижа в европейской цивилизации, пробудили доселе дремавшие силы народа, подтвердив величие и могущество французского гения; 5) в литературе, науке и искусстве Францией созданы изумительные шедевры и творения; расширились горизонты европейской мысли, культуры, социального прогресса; 6) Великая Французская революция дала миру значимые и важные ориентиры развития, что позволяет считать ее событием мирового масштаба; несмотря на казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, без революции не было бы многих славных завоеваний французской и мировой мысли, культуры и науки; 7) так уж устроен социальный механизм общества, что за революцией нередко следует откат (или «термидор»), из которого, в свою очередь, готов «вылупиться» диктатор, как это и случилось в послереволюционной Франции (Наполеон); Наполеон закрепил победу буржуазии, дав простор всем её инстинктам; 8) Парижская Коммуна указала людям труда путь к равенству и справедливости, явив миру пример конфликта и классовых противоречий, став прологом революционных бурь в России XX в.; 9) история давно и прочно связала Францию и Европу тесными, хотя и не всегда дружескими узами; французский ум и искусство оставили зримый отпечаток на сознании и вкусах всех и каждого, а ее капитал предпринял немало усилий во славу своей страны и ее культуры; 10) велико и непреходяще значение культуры Франции для России; перед французским гением (несмотря на всю брань Кюстина) мы почтительно склоняем голову, понимая глубокую правоту фразы историка Ж. Мишле: «Для того, чтобы постичь Францию, нужно постичь историю всего мира». Конечно, отношения между двумя нашими странами порой напоминают отношения давно знающей друг друга пары. Период пылкой, необузданной страсти у неё вроде бы миновал, но время согревает душу памятью о прошлом, о сладостных, незабываемых годах любви и сердечной преданности («Сердечное согласие»). Как сказал французский писатель Д. Фернандес: «Французы и русские мыслят по-разному. Мы необыкновенно близки, хотя по каким-то простым вещам порой не можем договориться. Исторически Россия и Франция связаны узами брака – со времен Петра I, чья дочь чуть было не обвенчалась с Людовиком XV. Как и в любой супружеской паре, у нас бывают и ссоры». Но если во времена Пушкина Россия в глазах французов была некой «легендой», то ныне она все более похожа на Феникс. Потому недалеко время, которое явит миру новый невиданный взлет дружества двух стран. Вклад французской мысли, культуры и политики в мировую цивилизацию бесспорен и огромен. Французы научили нас (и учат по сей день) бережно ценить прошлое, которое необходимо aimer comme ses yeux (беречь как зеницу ока). В творениях её гениев немало того, что мы вправе отнести к l’esprit de tout le monde (разуму всех). В этой талейрановской фразе речь идет не только о Франции и Англии, но и обо всей Европе. И хотя А. С. Хомяков однажды сказал: «Что хорошо для Француза, Немца, Латыша, Англичанина, то еще для нас может быть очень плохо», не будем акцентировать внимание на различиях. Будем рады, если вы полюбите истинную Францию, её великую историю, её прекрасный язык, её культуру и поэзию. Нигде вы не встретите таких песен, такого вина, наконец, возможно, что и таких женщин, такого вкуса (Жан Поль писал, что «вкус – это эстетическая совесть»). Посетите Францию с любовью и вы поймете, почему ее любил Тургенев и многие русские, а поэт Беранже взволнованно писал: «Я ж Францию увижу, – и закроет мои глаза сыновняя рука». |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
