|
||||
|
|
Глава 4 Путешествие в мир Альбиона Подлинным воплощением архетипа буржуазной революции стала Англия. На этих землях некогда размещали свои форпосты римские когорты. Англию преследовал долгий и кровавый период бедствий. Ранее тут обитал мужественный и отважный народ – бритты. История христиан-бриттов трагична. После краха римского господства в Британию устремилось племя саксов (VI в.). Сюда оно переселилось с тех земель, что считаются германским достоянием (Голштейн, Ютландия, Шлезвиг). Англосаксы вытеснили коренное население бриттов, которое не смогло объединиться и дать отпор завоевателям. Расплата за распри и междоусобицы властей. Об этом сохранились многочисленные сказания, вошедшие в сборники легенд о благородном короле Артуре. Вот как рассказывают легенды о грехах сановной знати и бедах народа Британии (во времена легендарного короля Пендрагона): «Поэтому-то, видно, и решил Господь воздать этой земле за грехи полной мерою. Настал день, и сотни кораблей из далеких северных стран подошли к британскому берегу, ударили в дно тяжелыми якорями, и вот уже грохочут на берегу крики пришельцев, и подобно потопу растекается их войско по всем дорогам».[120] Как же смогли интервенты-саксы закабалить коренной народ Британии? Когда-то, много веков тому назад, бритты обратились за помощью к племени саксов в трудные времена. Те откликнулись и пришли на выручку, прибыв на землю Альбиона с экспедиционным корпусом (1,5 тысячи воинов). Разместившись на плодородной земле, саксы уразумели, что земля эта значительно обильнее и богаче их собственных земель. Саксы тайно вызвали сюда воинственных сородичей. Не смущаясь тому обстоятельству, что находятся в чужом доме, они тут же стали устанавливать в Британии свои порядки (прибыв сюда на 17 кораблях в количестве свыше 5 тысяч человек). Англосаксы пошли и на прямое, коварное предательство. Дадим слово английским историкам: «Пытаясь объяснить столь легкое покорение их страны в прошлом саксами, английские историки среди главных причин называют их невиданное вероломство и коварство, впрочем, равно как и военное искусство и доблесть завоевателей… Во время дружеской встречи знати обеих народов (этакого фестиваля «дружбы народов» В. М.) англосаксы подло умертвили 300 самых знатных рыцарей бриттов, а их отважного предводителя (Vortigern`а) пленили и заковали в цепи».[121] Коварство и предательство стало альфой и омегой англосаксонской цивилизации и политики. Таковы методы покорения англосаксами народов: сначала они уничтожают или подкупают элиты, а затем лишенный достойных вождей и руководителей народ просто захватывают в рабство! Потом наступят трудные времена, когда датчане завоюют практически половину Англии… Всю тяжесть суровых битв против датчан тогда взвалило на себя королевство Уэссекс во главе с его вождем, Альфредом Великим (849–900), который с 871 г. возглавил все королевство и объединил соседние владения. 10 лет (866–876) шла война с датчанами, пока Альфред не заставил их заключить мир. Страна была поделена на две части – саксонскую Англию и датскую Англию, в которой продолжало царить «датское право». При нем не только достигнуты ратные победы, но и составлены первый общеанглийский сборник законов и часть знаменитой «Англосаксонской хроники»… Британия – историко-этнический симбиоз, вобравший опыт, культуру как северогерманских народов (бриттов и викингов), так и южан (римлян). С конца VI в. шел процесс христианизации англичан, хотя христианство проникло на Британские острова раньше. По мнению ученых, около 400 г. оно проявилось как туземное явление в чисто кельтской Ирландии. В VII в. появляется термин «англичанин», в IX в. – термины «английский язык», «Англия», в понятие «англосаксы» включаются и бритты. Вторжения орд викингов (грабителей-разбойников) произвели в Англии страшные опустошения, что сродни нашествию Батыя… «Среди англичан образованность пришла в такой упадок, – жаловался Альфред, – что лишь немногие по эту сторону Хамбера – и я думаю, что и к северу от него также, – могли понять требник и перевести письмо с латинского на английский язык. Нет, не могу я припомнить, чтобы к югу от Темзы был хоть один такой человек, когда я вступал на престол». Альфред Великий (849–900) соединял в себе черты талантливого педагога, полководца и строителя. Он заимствовал у датчан лучшие их навыки и стал строить корабли, превосходящие по своим качествам датские («без малого вдвое длиннее тех, быстроходней, устойчивей и выше»). Создал он и систему крепостей, охраняемых хорошо обученными профессиональными солдатами. Крепости стали первыми городами Англии. Благодаря им англичане перестали быть сельским народом. Английский историк А. Л. Мортон, отмечая роль короля в деле просвещения, пишет: «Альфред приглашал ученых из Европы… и, будучи средних лет, сам научился читать и писать по-английски и по-латыни – подвиг, которого Карл Великий так и не смог совершить во всю свою жизнь. Он жадно стремился постичь все знания, которые только мог дать ему его век; если бы он жил в более просвещенную эпоху, он обладал бы, вероятно, подлинно научными взглядами. Человек слабого здоровья, никогда не знавший, что такое длительный мир, он проделал чрезвычайно большую работу, об основательности которой можно судить по долгому периоду мирного развития, последовавшему за его смертью».[122] Англичане усвоили уроки викингов. Целеустремленные и последовательные в достижении целей, они отвоевали пространства у недругов и природы, успешно справляясь с нелегким делом колонизации земель. По мнению Р. Леннарда, в Англии уже в англосаксонский период было освоено больше земель, чем за все последующие столетия. А чтобы читатель представил себе масштабы той колоссальной работы, которая проделана английским крестьянином «на ниве цивилизации», достаточно сказать, что общая площадь пашни в 1086 г. была в Британии немногим меньшей, чем в 1914 г. Материальные основы цивилизации, иначе говоря, заложены почти тысячу лет тому назад. Французский историк Гизо писал: «Всем известно первоначальное происхождение свободных учреждений в Англии; всем известно, каким образом в 1215 г. союз высших баронов исторгнул у короля Иоанна великую хартию (Magna Charta). Менее известно то, что хартия эта с редким постоянством была подтверждаема большинством королей. Между XIII и XVI вв. насчитывается более тридцати таких подтверждений. Кроме того, к ней прибавлялись новые статуты, которыми она поддерживалась и развивалась. Поэтому она жила, так сказать, без перерывов и промежутков».[123] Класс феодалов сумел силой вырвать у короля свои права и свободы. Могущество англо-саксов проистекало не столько из «Великой хартии вольностей» («Magna charta libertatum») или государственного акта 1215 г., подписанного королем Иоанном Безземельным, не из усилий Елизаветы I с ее «золотым веком», даже не из того, что Великобритания стала в итоге «мастерской мира», «владычицей морей». Не меньшее значение имело и развитие духа железной и кровавой дисциплины, без чего деяния Британии вряд ли стали бы возможны. Известную роль сыграла и свобода, хотя свободе также нужны границы и правила, что выполняются всеми без исключения.  Кабинет космографа. Рисунок XVI в. В среде крестьянства усиливается осознание его значимости, зреет понимание, что именно за счет их трудов живут и процветают «благородные сословия». Даже в сервильной по звучанию «Песне земледельца» (XIV в.) крестьянин говорит, что «вся рыцарская спесь опирается на труд бедняка». И хотя кое-где на гравюрах рыцарь, священник, крестьянин изображены получающими от Господа предметы, соответствующие выполняемым им функциям (рыцарь – меч, священник – библию, крестьянин – мотыгу) крестьянин понимает сколь важна его роль. В поэме Вернера Садовника «Крестьянин Гельмбрехт» полная тяжких трудов жизнь крестьянина противопоставлена бесчестной жизни рыцаря-тунеядца. Отец, увещевая непутевого младшего сына, желающего «выбиться в рыцари», с гордостью подчеркивает, что это именно их племя, мужик, а не знать «не словом – делом всех кормит в мире целом».[124] Все это никак не меняет зависимого, рабского положения крестьян, с одной стороны, и привилегированного положения высшей знати, с другой (лордов, епископов, дворян и т. д.). Эдуард I (1272–1307), которого историки называют «британским Юстинианом», принял три важных Вестминстерских статута, упрочивших положение феодального дворянства. Третий статут 1290 г. гласил, что принадлежавшие ранее крупным феодалам земли, попавшие в собственность другим держателям, могут быть в свою очередь проданы полностью или по частям, но только при условии сохранения интересов главного лорда. Это сделано в целях недопущения дробления земель..[125] Неумолимо и жестоко осуществлялся курс на закрепощение и удержание труженика в одном месте. Один из статутов (Statutes of the Realm), принятых королем Ричардом II (1388 г.), гласил: «Подтверждаются все статуты о ремесленниках, рабочих, слугах и продавцах съестных припасов, изданные как в это царствование, так и в предшествующее, во всех их подробностях. И кроме того постановлено с общего согласия, что ни один слуга или рабочий, будь он мужчина или женщина, не должен уходить по окончании своего срока за пределы (земель), где он обитает, чтобы служить или обитать на другом месте или под предлогом отправления далеко на богомолье, если при нём нет свидетельства, в котором указаны причины его ухода и время, когда он вернется, если он должен вернуться, за печатью короля…»[126] По английской истории можно изучать все достоинства и пороки буржуазной цивилизации, как по лицу представителей семейства династии Габсбургов. А вот с чем никак нельзя согласиться, так это с попыткой иных ученых представить историю Британии фантастическим образом, уподобляя ее белоснежным одеждам «девственницы». Английский историк XIX в. Г. Бокль пишет: «Так как в Англии ход цивилизации был более правилен и менее подвергался колебаниям, чем в какой-либо другой стране, то тем необходимее становится, излагая ее историю, прибегать к тем средствам, на которые я указал. Истинное значение английской истории состоит в том, что здесь наименее направляли народное развитие, как в хорошую, так и в дурную сторону. Но самый факт, что наша цивилизация сохранилась этим средством в более естественном и здоровом состоянии, обязывает нас изучить те болезни, которым она подвержена, при пособии наблюдения над другими странами, где эти болезни более созрели».[127] Смеем утверждать, что по части всякого рода общественно-типологических «болезней» и «язв» у Англии – полный их набор. Здесь веками ведут спор слабоумие с жестокостью, глупость с коварством, извращенные пороки с невежеством. Не пышные розы должны украшать фамильные гербы английских рыцарей и знати (если не иметь в виду «войну Алой и Белой роз»), а кинжалы, черепа, Тауэр. Гибелью династий Ланкастеров и Йорков завершилась «война роз». Лучшие умы английской нации (Т. Мор и др.) были преданы смерти. Целые народы (собственные и чужие) уничтожались в Англии без малейших сожалений и колебаний. Нигде власть не проявляла такой безумной, дикой и изощренной тирании, столь подлого коварства, как в Британии. И это Бокль называет: «более естественным и здоровым состоянием»?! Лучшее описание «достоинств» британской элиты дал шекспировский Малькольм, сын шотландского короля Дункана, когда в разговоре с Макдуфом выявляет сущность Макбета (и английской знати): Согласен: он жесток, распутен, лжив, (пер. А. Аникста) Многие из этих «достойнейших качеств» и продемонстрировал английский король Генрих VIII (1491–1547), известный главным образом тем, что при этом короле в Англии была проведена Реформация, осуществлена секуляризация монастырей, приняты законы против крестьян, а церковь перешла ему в подчинение (Генрих стал главой англиканской церкви). Эта фигура вызывала болезненный интерес у читателя в связи с тем, что Генрих VIII получил прозвище «Синей Бороды» (2 из 6 его жен умерли на плахе). Нас мало интересует анализ «взаимосвязи человеческой природы, сексуальности и политики» (Д. Лоудз), хотя судьбы государств нередко тесным образом связаны с браками.  Ганс Гольбейн Младший. Генрих VIII. Генрих VIII – один из главных экспансионистов и завоевателей того времени. Несмотря на то, что Англия и Уэльс в начале XVI в. имели население всего 3 миллиона человек, он трижды осуществлял вторжение во Францию, население которой равнялось примерно 14 миллионам (не считая 30 миллионов на территориях императора Карла V). Годовой доход Генриха составлял лишь малую часть дохода его главных соперников (будучи меньше доходов Португалии и чуть больше доходов Дании). Это не помешало ему бросить вызов всей Европе. Профессор Д. Лоудз так объяснял эту политику: «Английская корона была традиционно сильной и лучше приспособленной к мобилизации ресурсов, чем остальные современные государства. Более того, английский народ отличался ксенофобией и был вызывающе независим, так что иностранная интервенция всегда должна была пресекаться, независимо от обстоятельств. Однако король должен был также завоевать свою долю доверия. Это он создал флот, такой же большой и хорошо вооруженный, как и у его соперников, гораздо лучше организованный, который контролировал Ла-Манш и Ирландское море и успешно отразил одну серьезную попытку вторжения Франции в 1545 году. Это он создал двор, который во многих отношениях затмевал двор императора и соперничал с французским во всем, за исключением масштабов. Обстоятельства словно сговорились, чтобы покровительствовать ему».[129] Обстоятельства помогают сильным.  Джон Кабот – «первооткрыватель» Канады. Что же касается всяких там «свобод и демократий», то вот как отреагировал Генрих на отказ просветителя Мора присягнуть королю в качестве главы церкви. Он приказал карманному парламенту казнить вольнодумца. Приговор суда (1535) гласил: «Вернуть его (авт. – Т. Мора) при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр, оттуда влачить по земле через все лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умер, отрезать половые органы, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту».[130] Как видите, верховные властители Британии не очень церемонились даже с влиятельными лордами и канцлерами. Что уж говорить о простом народе… Во время восстания У. Тайлера (1381) его предводитель подъехал к Ричарду II с просьбой, веря в его порядочность. Тайлер говорил: в Англии больше не должно быть сервов и все должны быть свободными и равными, никакой лорд не должен господствовать над общинами, все люди должны быть равны перед законом, а собственность и богатства церкви нужно разделить в зависимости от нужд народа в каждом приходе. И что же? Предводителя восставших смертельно ранили на глазах короля после того, как тот клятвенно обещал удовлетворить все права общин. А народу Ричард заявил: «Уот Тайлер посвящен в рыцари, ваши требования удовлетворены». «Он его посвятил!» По приказу короля слуги ворвались в больницу и безжалостно отрубили предводителю восстания У. Тайлеру голову (затем, вонзив в нее копье, показали суверену).  Убийство Уота Тайлера. Миниатюра из «Хроник Франции и Англии» Фруассара, т. II. Ок. 1460 г. Британский музей, Лондон. Слева – убийство Уота Тайлера мэром Уолуорсом в присутствии короля Ричарда II, справа – обращение короля к восставшим крестьянам. Начались массовые огораживания. В нищете огромная масса трудового населения Англии. Это один из самых кошмарных периодов в истории страны. По сути дела, десятая часть населения страны оказалась полностью выброшена из жизни (300 тысяч человек). Среди них – крестьяне, лишенные своих наделов, солдаты, оказавшиеся не у дел в результате разгона личных армий феодалов, те, кто ранее находил приют в монастырях и аббатствах. Как пишет Т. Мор в «Утопии», им пришлось «воровать и попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать». Власти приравняли «упрямых нищих» к преступникам. Парламент Англии принял закон, по которому эти люди подвергались бичеванию кнутом (1531). Через пять лет закон еще более ужесточили. Каждому, кто был вторично уличен в попрошайничестве, отрезали ухо. Если же бедняга попадался в третий раз – его попросту вешали. В 1547 г., в первый год царствования короля-мальчика Эдуарда VI, был принят закон, по которому любому, кто не работал хотя бы в течение 3 дней, на груди выжигали раскаленным железом клеймо. Их превращали в рабов, уродовали клеймом лица, а то и убивали. Эти несчастные скитались по стране, преследуемые, словно бешеные псы. Порой они горестно пели: Мир стал не тем, каким он был, Английский народ отвечал на такую вот «гармонизацию» и «демократизацию» волнениями и восстаниями. Бунты против безземелья и огораживаний имели место в Норфолке в 1527, 1529, 1537 годах. Слышны призывы, обращенные к беднякам – объединиться, вооружиться и повести дело к тому, чтобы «джентльменов осталось не больше, чем белых быков» (которых никогда и не разводили в Норфолке). Кто же развел столь вопиющую народную нищету? Вина лежит все на тех же «цивилизаторах», которыми восхищался Г. Бокль. Всю Англию всколыхнуло восстание 1549 г., во главе которого встали предприниматели и землевладельцы Роберт и Уильям Кеты (кожевенник и мясник). Повстанцы избрали Роберта Кета своим руководителем (под Большим дубом). Обращаясь к восставшим, Р. Кет громогласно заявил: «Теперь вас попирают и угнетают богатые джентльмены и не дают вам подняться на ноги. Богатства рекой текут в сундуки ваших лендлордов, в то время как вы доведены до нищеты и питаетесь, как животные, горохом и овсом. Лендлорды стригут вас в своих личных выгодах, кроме того, на вас лежит тяжесть государственного бремени. В то время как богатые богатеют, из вас высасывают все соки. Ваши тираны – хозяева часто обвиняют, арестовывают и бросают вас в тюрьму; это дает им возможность еще больше запугивать вас, мучить вас морально и держать вас более прочно в повиновении. А затем они оправдывают эти позорные действия справедливым требованием закона и власти». В этой речи в весьма сжатой форме дана исчерпывающая картина беззакония властей. Восставшие нанесли ряд поражений войскам лендлордов и купцов. Попытки властей обмануть восставших успеха не принесли. Кет с достоинством отвечал королевскому посланнику: «Короли и принцы прощают преступников, а не невинных и справедливых людей; мы со своей стороны не сделали ничего дурного и не виновны ни в каком преступлении». Восставшие проявили большое благородство. Никто из воров-лендлордов не был казнен. Их только штрафовали и упрятывали ненадолго в тюрьму. Всего-навсего. Крестьяне проявили заботу и о судьбе государства: «Государство сейчас почти совершенно разрушено и из-за лености господ ежедневно приходит в еще больший упадок. Мы намерены восстановить его прежнее достоинство и поднять его из тех жалких руин, в которых оно так долго лежит, и мы все достигнем этого своими теперешними действиями, или, как это случается с храбрыми и отважными людьми, мы будем смело сражаться, рискуя нашими жизнями, и, если будет необходимо, погибнем на поле боя. Свобода может сильно страдать от угнетателей, но никогда ее священное дело не будет предано нами». Против восставших бросили войска наемников графа Уорика (одного из главных бандитов, сказочно разбогатевшего на реформах и огораживаниях). Крестьяне стояли насмерть, заявляя: «Лучше мужественно умереть в сражении, чем быть перебитыми, как овцы, во время бегства». После их разгрома лендлорды подвергли повстанцев жесточайшим пыткам, повесив на Дубе реформации.[131] На этом фоне протекала жизнь и деятельность мыслителя, гуманиста и политического деятеля Томаса Мора (1478–1535). Впоследствии его будут называть «человеком на все времена», «голосом совести» Реформации, «одним из трех великих творцов английского Ренессанса», «наиболее привлекательной фигурой начала шестнадцатого века». Слава Т. Мора перешагнула границы его времени. Его признали друзья и враги, а Римская католическая церковь даже причислила его в 1886 г. к лику блаженных (в 1935 г. – канонизировала). Выходец из семьи адвокатов, Т. Мор учился в лучшей школе того времени, Школе Св. Антония. С 12 лет он был представлен ко двору кардинала Джона Мортона, архиепископа Кентерберийского и лорд-канцлера Англии. Его направляют учиться в Оксфордский университет. Это был центр гуманизма той эпохи (в колледже преподавали известные личности открывая перед студентами прекрасный мир античности). С 1494-го по 1502 год Томас по настоянию отца изучает юриспруденцию в специальных школах Лондона и становится адвокатом. Вскоре юноша знакомится с Эразмом Роттердамским (ставшим на долгие годы его верным другом). Эпоха короля Генриха VI (1422–1461) создала предпосылки для развития в стране серьезной системы образования (при нем возникли Итон и Королевский колледж в Кембридже). Каждый крупный гуманист пытался внести вклад в развитие системы образования. Линакр (1460–1524), у которого учился Мор, был известным врачом, создателем Королевского Медицинского колледжа. Природа наградила Мора блестящими талантами. Он прилежно изучал классиков, гуманитарные науки, поэзию, музыку, юриспруденцию. Юноша готовил себя к духовной карьере (приняв епитимью, в течение 30 лет носил «власяницу», сняв ее накануне казни). Затем благочестие Мора приняло более мягкий характер: он предпочел стать «честным мужем, чем нечестным священником». От церкви его отвратило лицемерие ее самых высших иерархов. Мор вскоре обнаружил, что мир полон несправедливости: «Всюду скрежет ненависти, бормотанье злобы и зависти, всюду люди служат своему чреву, – главенствует над мирской жизнью сам дьявол». Этот духовный протест стал прологом его борьбы. Мор – автор «Утопии» (1516), где показан народ, доведенный мудрым правлением «до такой степени культуры и образованности», что превосходит прочих смертных. В этой сказочной стране люди обязаны с детства овладевать навыками земледелия – отчасти в школах, отчасти на ближайших к городу полях. Кроме земледелия каждый должен изучить какое-либо специальное ремесло, унаследуя по большей части дело отцов. Обязательный шестичасовой рабочий день оставлял достаточное количество времени и для научных изысканий. Утопийцы имели обыкновение устраивать ежедневно, по утрам, публичные лекции (своего рода «открытый университет» для взрослых). Высшего рода занятием среди утопийцев считалось занятие наукой. Причем, наиболее способным они навсегда даровали освобождение от ремесленного труда – «для основательного прохождения наук».[132] Мор состоял в дружбе и с Эразмом Роттердамским. Семью он называл важнейшим общественным институтом. Будучи дважды женат, Мор сумел обрести в женах, дочери, сыновьях духовную опору, источник жизненной силы. Он писал любимице-дочери: «Я уверяю тебя, что скорее откажусь от всех своих обязанностей, расстанусь со всеми своими планами, чем допущу, чтобы дети выросли невежественными и праздными – а среди них у меня нет никого дороже тебя, моя любимая дочь». Мор верил в то, что «дети – подарок Господа родителям, самому Господу и всей нации». Свою семейную жизнь он выстраивал по примеру платоновской «Академии». Семья представлялась ему «моделью семейного счастья для всех времен». Его дом стал, по сути дела, как бы образовательным институтом, где он учил членов семьи чтению, пению, игре на музыкальных инструментах, пониманию философии, религии и т. д.[133] История феерического взлета Т. Мора на вершину власти и последовавшего затем падения могла многому научить тех, кто и сам не раз размышлял над дилеммой – заняться ли политикой или посвятить себя наукам. Когда кардинал Уолси впервые представил Мора новому королю Генриху VIII, тот был им буквально очарован. Не будем перечислять всех постов и миссий, что возлагал на него король. Мор-дипломат в полной мере проявил свои способности на переговорах в Камбре, когда он спас Англию от участия в континентальной войне. Он стал членом парламента, заместителем шерифа Лондона, Государственным казначеем, спикером Палаты общин. Далее, как пишет К. Уотсон, автор эссе о Томасе Море, его избрали ректором Оксфордского (1524) и Кембриджского (1525) университетов, назначили канцлером герцогства Ланкастер (1525), а затем лорд-канцлером и даже главным советником короля (1529). Мудрый Томас упорно не желал занимать последний пост, понимая, сколь ненадежна и переменчива судьба советника властительной особы… Нет более тяжкой доли, нежели выступать с советами для сановных особ, лишенных ума, полных самомнения, неспособных слушать никого, корме себя самого. Вскоре он понял: одно дело прислуживать королям или парламентам, и совсем другое – честно служить интересам государства и народа! Находясь более 20 лет на службе короля, он оставался слугой нации… Мор считал, что королю нужно воздавать кесарево, а Богу – богово. Он ратовал за строгое разделение властей, понимая, что любая бесконтрольная власть (монарха, церкви, парламента, президента) неизбежно ведет к трагедии и злоупотреблениям. От него доставалось всем ветвям власти: кардиналу Уолси, погрязшему в коррупции, священникам, которым он запретил совмещать ряд церковных постов, королевским сановникам и даже королю. Томас Мор отказался присягнуть закону о главенстве короля, дать развод Генриху VIII. Возражал он и против того, чтобы король стал одновременно главой церкви. Какая великая и мужественная натура! Он пошел на плаху, так и не дав развода королю, утверждая приоритет закона и чести… В иные времена жалкие правители с легкостью «дадут развод» великой державе, утверждая приоритеты абсолютизма и полнейшего беззакония. В «Утопии» им высказана мысль о прямой зависимости судеб государства от личности правителей («от правителя, как из какого-нибудь неиссякаемого источника, распространяется на весь народ добро и зло»). В книге показана жизнь английского общества, где распространено воровство, жестокие законы против воров (тех вешали повсеместно, иногда по двадцати на одной виселице). Положение крестьян отчаянное («овцы пожирают людей»). В стране существует чудовищное неравенство: на одной стороне жалкая бедность, на другой – дерзкая роскошь. Вместо высшего права – «высшее бесправие властей».  Ганс Гольбейн Младший. Томас Мор. 1527 г. Какой же выход предлагает Томас Мор? Руководящая роль в «Утопии» отдана избранникам («отцам»). На них возлагалась главная обязанность «заботы и наблюдения» за тем, чтобы никто не сидел праздно и усердно занимался трудом. «Простой народ с его тупой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, да ему и жизни на это не хватит, так как она занята у него добыванием пропитания». Мюнцер также призывал народ довериться «избранному», который изложит некое «откровение» и смело пойдет «во главе». В таком же духе писал Т. Кампанелла в «Городе Солнца». Здесь верховным правителем является самый ученый человек общества, знающий «историю всех народов, все обычаи, религиозные обряды, законы», знакомый едва ли не со всеми науками. Его он называет «Солнцем». На Руси также был князь Владимир (Красное Солнышко), заложивший основы обучения! Это в некотором смысле демократическая республика (на острове Утопия), население которой занято «единым общим делом». «Братство по природе» связывает людей теснее и крепче, чем всяческие правовые соглашения. Здесь царят веротерпимость и мирные законы. Утопийцы выучены заботиться не только о себе, но и о благе ближнего. «В других местах если даже и говорят повсюду о благополучии общества, то заботятся о своем собственном. Здесь же, где нет ничего личного, утопийцы всерьез заняты делом общества». Известна фраза о нравах утопийцев: «Из золота и серебра… повсюду они делают горшки и всякие сосуды для нечистот». Не исключено, что эта фраза и побудила В. И. Ленина сделать заявление: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».[134] Как известно, Томас Мор превосходно владел латынью и греческим. Он – автор 280 латинских эпиграмм и небольших поэм. Он переводя вместе с У. Лили с греческого «Прогимнасмата» («Школьные упражнения») и Лукиана (с Эразмом Роттердамским). Приведем лишь один из образцов его творчества, человека, о котором оксфордский грамматик Р. Уиттингтон скажет: «Человек ангельского ума и редкостной учености. Равных ему я не знаю… Человек для всех времен». Томаса Мора, красноречивейшего юноши, Итог жизни и деятельности Т. Мора подвел Эразм Роттердамский, который, узнав о его казни, заметил, что душа Мора «была белее снега, а его гений таков, что у Англии никогда не было и не будет гения подобного масштаба». Европа вскоре поняла тяжесть потери. Император Карл V сказал по поводу его казни: «Мы также не поняли Короля, и если бы у нас был подобный советник, свидетелем многих дел которого мы были все эти годы, мы бы скорее согласились потерять лучший город в наших владениях, чем потерять его». Ушел из жизни «человек на все времена». Мир лишился того, кого звали «британским Периклом».[136] Мор во многом подготовил Английскую революцию, которую некоторые историки назовут «последней революцией Средневековья», или «первой революцией Нового времени». Слава Мора затмила славу Генриха VIII (1491–1547), более известного читателю прозвищем «Синяя Борода». Говорят, перед вступлением в брак он выглядел «как юная дева». К финалу же его не очень долгой жизни он стал похож на истасканное «пугало» (бурные романы с дамами – включая шесть жен, двух из них он отправил на плаху – дали о себе знать). Плоды его царствования довольно противоречивы. Английский король внес заметный вклад в историю страны, осуществив курс на «Реформацию». Это действие называют «Актом о супрематии» (1534). В результате Генрих VIII был провозглашен верховным главой церкви Англии, ее протектором. Для Англии это имело немаловажное значение. Власть Папы была упразднена. Королю перешли все титулы, почести, доходы, привилегии. «Гарант законности» (не «комиссар») разгонял монастыри, учинял погромы в церквях. По его указанию обезглавливали статуи, оскверняли иконы и мощи святых. По стране прокатилась волна конфискаций церковного имущества. Оное пустили на рынок. И тем не менее историк Д. Лоудз пишет: «Мы в самом деле должны рассматривать Генриха как одного из главных политических архитекторов, превративших средневековую Англию в мощного партнера современного национального государства. И хотя он никогда не был протестантом, он также главным образом отвечает за то, что Англия к концу шестнадцатого века стала протестантским государством, а к концу семнадцатого – мировым оплотом протестантизма. Какие бы суждения ни выносились относительно его убеждений или морали, его политические свершения оправдывали его исторический статус».[137] Так вот мыслят буржуазные историки – «Цель оправдывает средства» (разгром церквей не в счет). Правда, Генрих не очень-то преуспел в своих попытках оттеснить Францию в их вечном споре. Король, судя по всему, оказался все-таки куда лучшим «бойцом» в постели, чем на поле битвы (война с Францией обошлась стране в 2 миллиона фунтов, оставив государство в долгу, как в шелку). Когда же министр Т. Кромвель стал резко выступать против чрезмерных военных расходов, тот отправил его на плаху (1540). Возможно, он припомнил ему и его дерзкий язык. Как-то выступая в палате общин (1523), Кромвель иронично заметил: «война заставила бы нас, как уже было однажды, использовать кожу для чеканки монет. Я бы сим вполне удовольствовался со своей стороны. Но ежели король лично отправится воевать и, не приведи Господь, попадет в руки неприятеля, то как выплатить выкуп за него? Коли французы за свои вина желают получать только золото, примут ли они кожу в обмен за нашего государя?»[138] Король не забыл дерзкой аналогии. Кожу с него он не стал сдирать (зная повадки англосаксов, мог бы), но просто отрубил голову своему ближайшему помощнику. Век спустя уже другой Кромвель отплатит королю той же монетой, отправив на плаху Карла. Остановимся на судьбе Елизаветы I (1533–1606), дочери любвеобильного Генриха VIII и сексапильной и умной Анны Болейн. Генрих, как известно, обвинил жену во всех смертных грехах. Последовал процесс. Королева Анна была казнена (1536). У нее отняли все титулы вместе с репутацией. Перед казнью она держалась с достоинством и мужеством. Святой она не была, но и счастливой тоже (хотя ее девизом и были слова «Счастливейшая из женщин»). 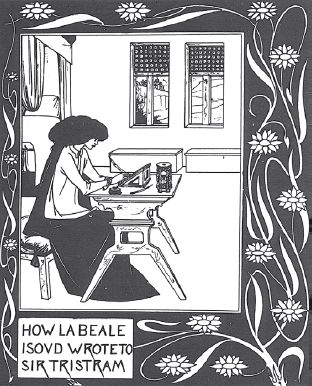 Обри Бердслей. Как прекрасная Изольда писала послание сэру Тристраму. Иллюстрация для книги Т. Мэлори «Смерть Артура», 1893–1894 гг. Все признают, что Елизавета была очень умной девочкой (читала и говорила по-латыни, по-гречески, по-французски, по-итальянски). Ее любимейшими авторами стали Цезарь, Цицерон, Демосфен, Тит Ливий, ее учителями – свободно мыслящие молодые ученые Кембриджа, преподающие в колледже Сент-Джон (У. Гриндел и Р. Эшам). К счастью, последняя жена Генриха VIII, Екатерина Парр, любила детей, сумев стать для Елизаветы заботливой матерью и учителем. Девочка отдалась наукам со всей страстью. Роджер Эшам помогал ей переводить латинские и греческие тексты. Елизавета старалась овладеть и премудростями теологии. Любимые книги – книги по истории. Погружаясь в них, она не раз вспомнит девиз Эшама: «Науки – это убежище от страха». Дева была ненасытна в своей жажде знаний (к старым языкам она прибавила изучение испанского, фламандского, немецкого). В свободное время она, будучи прекрасной наездницей, носилась, как ветер, по полям королевства. Елизавета любила красоту и умела одеваться со вкусом (это она ввела в Англии моду на французские ажурные чулки). Тогда проявились редкая наблюдательность и твердый характер Елизаветы. В отношении лорда Сеймура, одно время собиравшегося на ней жениться, она сказала: «Он умен, но ему не хватает рассудительности». Это в 16 лет! Прогноз оказался точен. Вскоре его арестовали по обвинению в государственной измене, отправили в Тауэр, а затем на плаху. Елизавету стали допрашивать, интересуясь, не причастна ли она к заговору. Ведь о его заигрывании было известно всему королевскому двору. Однако даже, изощренные судейские не смогли из нее ничего вытянуть, признав ее «острый ум». У нее, как отмечает историк О. Дмитриева, был удивительный нюх на умных и способных людей. Уильяма Сесила, секретаря совета. Она почтила его своей перепиской, званием друга, а затем возложила на него контроль за ее финансами. Именно У. Сесил спас ее от смерти. Он станет в ее правительстве первым министром.[139] В Англии на престол взошла королева Мария Тюдор (1553), Мария-Католичка. Будучи полуиспанкой, Мария стала насаждать в стране католицизм. Уже в течение 20 лет Англия была протестантской страной. Выросло новое поколение, воспитанное в новой вере. Однако католичка не желала никого слушать, намереваясь вернуть церкви земли, конфискованные и переданные другим владельцам. Фанатики реформирования везде одинаковы (что в Англии, что в России). Однако народ более не желал дважды входить в одну и ту же реку. По стране прокатилось восстание дворянина Т. Уайта. Итог его печален для Елизаветы (ее упрятали в Тауэр). В стране пылали костры, на которых в муках корчились протестанты. В одном лишь Оксфорде сожгли трех епископов, сподвижников Генриха VIII в деле Реформации (Ридли, Латимера, Кранмера). Все это делало из Елизаветы если не мученицу, то бесспорно объект любви и преклонения среди простых англичан. Тогда впервые и стала зарождаться легенда о «елизаветинском веке». В 1558 г. Мария Тюдор, получившая в истории нелестное прозвище «Кровавой», умерла. Королевой Англии вновь стала женщина. Не все были в восторге от женского правления. Мужьям, видимо, и дома вполне хватало их господства. В 1558 г. шотландский протестантский проповедник Джон Нокс разразился трактатом, который метил в «Иезавель Англии» – в ненавистную Марию Тюдор. Трактат назывался «Первый трубный глас против безбожного правления женщины»: «Допустить женщину к управлению или к власти над каким-либо королевством, народом или городом противно природе, оскорбительно для Бога, это деяние, наиболее противоречащее его воле и установленному им порядку, и, наконец, это извращение доброго порядка, нарушение всякой справедливости. Природа… предписывает им быть слабыми, хрупкими, нетерпеливыми, немощными и глупыми. Опыт же показывает, что они также непостоянны, изменчивы, жестоки, лишены способности давать советы и умения управлять… Там, где женщина имеет власть или правит, там суете будет отдано предпочтение перед добродетелью, честолюбию и гордыне – перед умеренностью и скромностью, и жадность, мать всех пороков, станет неизбежно попирать порядок и справедливость».[140] Все это Елизавета сумела опровергнуть! Суровые уроки жизни вынуждали Елизавету действовать. Главное – ей удалось решить проблему кадров. Эта женщина оказалась во сто крат умнее и способнее многих мужчин-аристократов, опытных министров, церковных и университетских олухов, которых и тогда, замечу, хватало на политической сцене Англии. У руля Британии встала Женщина, свободно владевшая несколькими языками (включая как древние, так и современные). А у нас не то что в XVI, а и в XXI в. масса политиков только и умеют, что мычать, как бараны, да показывать все на пальцах (как аборигены). Там, где это оказывалось необходимо, она проявляла твердую решимость, где была нужна осторожность, проявляла должный такт и неспешность, где требовалось достичь экономии, вступал в силу закон бережливости. Она же, нисколько не колеблясь, отправила на плаху шотландскую королеву-католичку Марию Стюарт (1587). В романе Э. Питаваля «Голова королевы» есть сцена, в которой Елизавета I дает понять слуге, как следует поступить с противницей: «Существует замок Фосрингай, а в нем – женщина, которая приговорена к смерти. Закон осудил ее, приговор ей произнесен и может быть приведен в исполнение, но мне противно назначить его к исполнению. – Ваше величество, вы вправе еще и теперь всемилостивейше отменить приговор! – Конечно… Но мне одинаково неприятно и помиловать виновную… Я думаю, – продолжила Елизавета, улыбнувшись при виде его изумления, – что вы поняли теперь, в чем дело. Народ хочет смерти Стюарт. Страна нуждается в этой развязке. Заключенная – слабая, больная старуха, изнывающая в долгом заточении… Если бы она умерла естественной смертью, у меня камень скатился бы с души».[141] Сочетание деловитости, ума, ловкости, железной хватки и коварства и породило первую «железную леди» – Елизавету I. Ей обязана страна закладкой фундамента здания Британской империи. «Будущая Британская империя начиналась в Плимуте – порту на западном побережье Англии. Ее крестными отцами стали местные мореходы Уильям и Джон Хоукинсы, крестной матерью – королева Елизавета». Как это часто бывает, в основе великого предприятия лежал денежный интерес. Хоукинс покупал в Гвинее рабов и доставлял их в Новый Свет колонистам, обустраивавших там Америку. Попытки вести торговлю с Америкой натолкнулись на сопротивление испанцев. Английские корабли были атакованы и сожжены. Скоро возник шанс отмстить испанцам. Шторм прибил к берегам Англии испанские корабли, груженные золотом (для герцога Альбы в Нидерландах). Их королева и прибрала к рукам. С Елизаветы одним из правил британской политики стало – прибирать все земли и богатства на земном шаре (особенно, если они «плохо лежат»). Ни на земле, ни на море в то время гармонией и миром и не пахло. Время грабителей, убийц, флибустьеров, заговорщиков! Если присмотреться к иным нынешним хваленым «демократиям», увидим: меч и кулак (да еще деньги) лежат в основе права многих «цивилизованных народов» Европы! Пиратство, убийства, грабежи, насилие – вот основные методы капиталистического накопления и утверждения в недавнем прошлом как, впрочем, и ныне. Британия не была исключением из правил. Подобно тому как английские, французские, испанские пираты получали от правительств мандаты на законное ограбление судов конкурентов и противников, так нынешние бандиты и пираты из НАТО получают одобрение своих президентов, премьеров, парламентов, штабов, королей и королев, банков и компаний. Первым корсаром, завоевавшим известность, была жившая в XIV в. Жанна де Бельвиль… Ее флотилия («Флот возмездия в Ла-Манше») грабила французские торговые суда, а добычу отправляла в Англию. Корабельная команда почти всегда истреблялась. Во Франции ее звали «кровожадной львицей». Знаменитый Фрэнсис Дрейк (род. в 1540 г.), о котором написано две сотни сочинений (куда больше, чем о всех английских педагогах вместе взятых, был дерзким пиратом, напрямую финансируемым Елизаветой, ибо та рассчитывала получить немалые прибыли от его разбоя. Жак Шастенэ так говорит о первой встрече королевы с Дрейком: «В этом человеке тридцати пяти лет, коренастом, краснолицем, белобрысом, с вульгарными манерами, она сразу же почуяла существо того же склада, что и она сама: энергичного, хитрого, англичанина до мозга костей. Согласие было достигнуто быстро». Елизавета не ошиблась, став, как мы говорим, «спонсором бандита»… Пират предоставил Англии отнятые им у испанцев сокровища, золото, секретные карты, описи товаров и т. п. Награда была поистине королевской. Ему жалуют титул барона. Каждый английский школьник знает сценку наизусть. Елизавета поднимается на борт корабля под названием «Золотистая лань», заставляет пирата опуститься на колени и берет из его рук шпагу. При этом заявляет: «Дрейк, королю Испании нужна ваша голова. Я пришла, чтобы отсечь ее». Насладившись сценой (великая актриса), она, мило улыбаясь, обнимает разбойника и говорит: «Встаньте, сэр Фрэнсис!» В 1588 г. пират назначается вице-адмиралом, а в 1592 г. уже с важным и серьезным видом сидит в английском парламенте («сенатор»). Как видите, и в почтенной монархической Англии грабителям по плечу «сенаторская мантия».[142]  Неизвестный мастер. Фрэнсис Дрейк. Лондон. Национальная портретная галерея. Англичане называют ту эпоху «золотым веком». Правильнее было бы назвать ее «золотым веком грабежей», поскольку блеск денег заворожил буквально всех, включая и научную братию. Времена рыцарей Круглого стола минули. Стало выгоднее, почетнее перейти в ранг Морганов, Дрейков или Робин Гудов… Вот и некто Генри Мейнуэринг, окончив Оксфорд и получив диплом, решает: чем годами заниматься довольно скучными, нудными юридическими делами и крючкотворством, не лучше ли поискать счастья в ведомстве «перераспределения собственности»?! Он нанимается на корабль и быстро дослуживается до офицерского чина. Но обычная служба не обещала скорого богатства. Что делать «истинному джентльмену»? Не долго думая, он решает собрать группу «морских волков». Имя Дрейка еще у многих на слуху. Так он стал пиратом. Успех был полнейший. Вскоре он уже был богат и могущественен (к 1614 г. ему исполнилось всего-то 26 лет). К нему присоединился еще один собрат из «общества», Уолсингэм, без колебаний вступивший на путь морского разбоя, несмотря на то, что принадлежал к одному из аристократических родов Англии. Конец этой истории по-своему закономерен. Яков I официально помиловал его, заявив, что «его не обвиняют ни в каком серьезном преступлении». Англичане говорили о них так: хотя это и сукин сын, но, понимаешь ли, «наш сукин сын». Оксфордское воспитание в дальнейшем сказалось. Мейнуэринг спускает пиратский флаг, меняет шпагу на перо, садится за мемуары и научный трактат о пиратстве, посвятив оный королю. Ему и принадлежит фраза, которая могла бы стать крылатой: «В коммерческих делах нет места патриотизму».[143] Как видите, и в славных Оксфордах бывают свои пираты. Пиратство в те времена считалось традиционным занятием лиц, которые были готовы сорганизовываться ради получения крупной наживы… Так, на Балтике действовали «Братья-разбойники» (Victual Brothers), напоминавшие организацию рыцарей-тамплиеров. Их девизом было – «Бог нам друг, а весь остальной мир – враг», и грабили они всех подряд. Английские купцы не брезговали никаким «грязным промыслом» – будь то пиратство или работорговля. Хотя король Альфред издал закон, ограничивавший возможности работорговли, в XI в. (да и позднее) купцы скупали рабов по всей Англии для продажи их в Ирландию. Запрещалось лишь продавать собственных детей в рабство иностранцам. Что же касается грабежей и разбоя, тут англичане всегда были большими мастерами и искусниками! Не только «белые вороны», но и вполне приличные джентльмены, купцы, ученые, даже слуги церкви этим не чурались. Вспомним, как в романе Стивенсона «Остров сокровищ» почтенный сквайр Трелони говорит о пирате Флинте тоном глубочайшего уважения, отчасти смешанным с величайшим восхищением: «Горжусь, что мы принадлежим к одной нации!» О том, что английское общественное мнение всегда смотрело и смотрит сквозь пальцы на источники обретения богатств, говорит следующий факт. Некий моряк из Винчелси преспокойно захватил судно собратьев-торговцев из Дорсетшира (совершил уголовный акт). Это ничуть не помешало ему спустя несколько лет занять пост мэра в родном Винчелси (а мы удивляемся, что в России кое-где воры и бандиты преспокойно занимают кресла мэров). В XV в. некоего кентерберрийского аббата обвинили в ограблении судна с грузом вина. Его, правда, заставили вернуть награбленное, но сана не лишили, сочтя сей грех вполне безобидной шалостью (или, на худой конец, «искушением сатаны»).[144]  Королева Елизавета I: период царствования – с 1558 по 1603 г. То было время дерзновенных приключений и захватов… Кто успел, тот и съел. Кто пришел первым к добыче, тот и получил её. Если же добыча была у другого, более слабого, её следовало отнять. Закон джунглей. Историк Р. Хаклюйт в своем трактате выражал надежду на то, что пришел час англичан основать империю. Он уверенно заявлял: «подходит наше время и теперь мы, англичане, можем разделить добычу, если мы этого сами захотим…». Всего за пару десятков лет «птенцы Елизаветы» донесли флаг своей страны (с красным крестом св. Георгия на белом фоне) до отдаленных уголков мира. Философ, поэт и моряк Рэли открыл Гвиану, прошел через дебри Амазонии и Ориноко в поисках легендарного Эльдорадо. Английские купцы из Московской компании отыскали сухопутный путь через Московию в Персию. Лоцманы и моряки достигли загадочной Сибири и рассказали европейцам о реке Обь. Другие обследовали северную оконечность Америки, дошли до Гренландии. Дж. Ньюбери двинулся на Восток (через Сирию, Ормузский пролив, развалины древнего Вавилона – в Гоа, Индию и Голконду). Королеве Елизавете и ее сподвижникам удалось воспитать в нации дух уверенности в своих силах, дух бойцов-победителей. Никакого пораженчества, никаких хныканий! И когда наступил грозный час испытаний – вся Англия встала на защиту родины против той самой «Великой Армады». Российский историк пишет: «По всему побережью от Девона и Дорсета до самого Кента один за другим загорались сигнальные огни, пробиваясь сквозь туман и оповещая Англию о том, что настал долгожданный и страшный час испытания. Графства поднимались по тревоге, старики и мальчишки облачались в кирасы. Вот когда Елизавета могла с гордостью сказать, что не напрасно верила в своих подданных и что ее политика религиозной терпимости оправдалась. В момент национальной опасности вокруг нее сплотились все. Уолтер Рэли, мореплаватель и царедворец, писал в те дни: «Пусть ни один англичанин, какую бы религию он ни исповедовал, не думает об испанцах иначе как о врагах, которых он должен победить во имя нашей нации». Все ополчились против общего врага, и не стало ни католика, ни протестанта. С её эпохи родился и клич: «Правь, Британия, морями!» Оказался устранен едва ли не главный религиозный и геополитический противник – католическая Испания. Англия стала страной суверенной (недаром Елизавету прозвали «леди-суверен»). Она никогда не забывала о своей главной миссии – сохранении и упрочении величия Британии. Король Яков считал, что она «в мудрости и счастливом управлении превзошла всех государей со времен Августа». Кромвель ностальгически вспоминал «славной памяти королеву Елизавету». Конечно, и у нее были свои маленькие слабости. Но не будем лицемерами, ведя себя подобно перезрелой девственнице, на невинность которой никто так и не покусился. Любовь и увлечения – это человечно (лучше войн и грабежа). Р. Сесил как-то сказал: «Она, пожалуй, была больше, чем мужчина, но меньше, чем женщина». В ее правление многие подданные стали жить заметно богаче. Те из англичан, кто еще не успел разбогатеть, стали увереннее смотреть в будущее. Особо отмечу ее доброе и уважительное отношение к народу. Народ всюду и везде похож на большое и доверчивое дитя. Верховная власть часто воспринимается им в образе отца и матери. Он запоминает ее поступки, перенимает манеру ее поведения. Это учла королева. Оставим легенду о ее девственности, что стала «краеугольным камнем пропагандистского мифа о Елизавете» (почитание непорочной девы Марии имеет давнюю христианскую традицию). Важнее то, как сумела она использовать сей миф. Сознание народа наделяло английских королей магическими свойствами. Согласно старым кельтским верованиям, они могли являть мистическую силу, исцеляя больных людей. Раньше это считалось исключительно привилегией королей-мужчин (до XVI в.) и не распространялось на королев. Вслед за своей сестрой королевой-Марией к этому эффектному пропагандистскому приему прибегла Елизавета, регулярно устраивая встречи с народом она, на Пасхальной неделе, в чистый четверг, по примеру Иисуса Христа, совершала омовение ног такому количеству бедных женщин из народа, сколько ей на тот момент исполнилось лет (миниатюра работы Л. Тирлинг удачно изображает эту сцену). Елизавета опускалась перед ними на колени, омывала им ноги в серебряном тазу с ароматической водой и цветами, вытирала, целуя при этом каждую ступню и осеняя ее крестным знаменем. В конце церемонии женщины получали по куску сукна на платье, паре туфель, стакану вина и кошельку с деньгами. Не мудрено, что многие в Англии говорили о ней так: «Она – наш земной бог!» Народ же попросту называл ее «доброй королевой Бесс».[145] Конечно, в этом «романе с нацией» был точный политический расчет. Среди достоинств английской нации я бы назвал её трепетное и ревностное отношение к Union Jack («государственный флаг», «родина»). Елизавета показала, как надо отстаивать национальные интересы. Предателей же, нарушивших эти интересы, она, не колеблясь, отправляла на плаху или в Тауэр. Туда им и дорога… Лорд Болингброк с уважением писал: «Она унаследовала страну, кишащую всяческими фракциями. Но те и по своему влиянию, и по опасности, которую представляли, были иными, нежели фракции наших дней. Нынешние фракции рассыпались бы в прах под одним её дуновением. Правда, она не могла их объединить: паписты оставались папистами, пуритане – пуританами; одни неистовствовали, другие были себе на уме. Но она объединила всю массу народа на почве своих и их собственных интересов. Она зажгла его единым национальным духом и, вооруженная этим, поддерживала спокойствие в стране, приходя на помощь друзьям и сея ужас и страх в стане врагов. При ее дворе были заговоры и бурно интриговали ее министры. Говорят, что она не противилась их существованию. Однако она не давала распрям выйти за пределы двора. Интриги не расползались по всей стране, сея раздоры в народе. Ее любимец граф Эссекс поплатился за это головой…».[146] Может оттого и сильна Британия, что в ее дворцах до сих пор блуждают тени казненных фаворитов и претендентов на трон! Власть, особенно если ей не хватает культуры и воспитания, всегда должна ощущать присутствие «всадников смерти»! Общие экономические и политические итоги ее правления ощутимы. Потерпела поражение Непобедимая армада, рассеянная океаном. С её царствования началась мощная экспансия Англии по всему миру (от Америки до Азии и Африки). Елизавета сплотила протестантские силы, что в условиях противоборства католического Юга против протестантского Севера было непросто и крайне важно с точки зрения геополитики. Не зря же ее будут называть «протестантским папой». Если оставить в стороне естественные для женщины слабости (а она была твердо убеждена, что и после 60 лет могла внушать мужчинам пламенную к себе страсть), это безусловно была выдающаяся личность. В её царствование явился Шекспир.[147] Ее трон унаследовал Яков VI Шотландский (1603–1625). Как «чужаку», ему пришлось нелегко. Чтобы быть хорошим королем, недостаточно быть мужчиной. Король начал, впрочем, с решительных мер. Во-первых, он запретил нещадное ограбление крестьян. Время было неспокойное. Купцы всё еще занимались скорее пиратством, чем торговлей. Грабежи испанских «серебряных галионов» приносили англичанам баснословные богатства, превосходящие в сумме всю прибыль от законной торговли. Когда Яков заключил мир с Испанией, изгнав из портов пиратские корабли лондонских купцов, заправилы Сити затаили обиду и ненависть на короля. Не следует думать, что в Британии не было законов. Законы были, и очень даже свирепые (особенно, когда они обращены против бедного народа). Отнимая землю у крестьян под овечьи пастбища, аристократы и богачи щедро «награждали» своих вассалов. В первый раз поймав за просьбой милостыни, их привязывали к телеге и стегали плетью до крови, помещая в колодки. Поймав во второй раз, секли пуще прежнего и отрезали ухо. За третью попытку их клеймили и продавали в рабство. В четвертый раз награждали и вовсе по-царски – бедняг вешали! Нам предстоит висеть в ночи, В повести-сказке «Принц и нищий» М. Твен описывает времена короля Эдуарда VI (1553). Легенда гласит, что тот пользовался симпатией народа. Однако нравы даже той «доброй и старой Англии» красноречивы. Один из нищих героев повести говорит: «Я – Йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем… Жена и ребята померли; может, они в раю; а может, и в аду, но только, слава богу, не в Англии! Моя добрая, честная старуха мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб; один больной умер, доктора не знали отчего, – и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон! Поднимите чаши! Все разом! Веселей! Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада! Спасибо, братцы, спасибо вам всем! Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собою голодных ребят; но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах… Выпьем еще раз за милосердный английский закон! Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки… ну, ясно, пока меня, по закону, гоняли плетьми из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы, – один только глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла!.. наконец меня продали в рабство – вот на моей щеке под этой грязью клеймо… Английский раб! Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают – будь проклята страна, создавшая такие законы! – я буду повешен».[148] Шло время. Рыцари наживы стали предпочитать фамильной шпажонке и пиратскому флагу векселя и билеты акционерных компаний. Хозяйственно-коммерческая деятельность требовала знаний иного рода. Буржуа посылают сыновей учиться уму-разуму не у схоластов Оксфорда, а в лондонские или манчестерские компании. К примеру, из 125 учеников, принятых в компанию купцов Ньюкастла (за 1625–1635 гг.), 42 были сыновьями йоменов, а в 40 случаях их родители называли себя «джентльменами». В Англии возникают «школы бизнеса и коммерции». Успехи подобного обучения очевидны. В 1600 г. основана Ост-Индийская компания, «соединившая под своим владычеством более подданных, чем все королевство Англии» (Т. Н. Грановский). К тому времени состояние английских джентри в три раза превышало состояние пэров, епископов, зажиточных йоменов и деканов капитулов вместе взятых.[149] Хартия Вольностей заложила основы конституции (с 1215 г. парламент укрепил власть). Палата общин с XVI в. стала важнейшей палатой английского парламента, который нарекли «матерью всех мировых парламентов». В отличие от резиденции короля, здесь собирались не столько самые сановные, сколь самые состоятельные, беззастенчивые и нахрапистые люди. Говорили, что Палата общин так богата, что могла бы уже трижды купить всю Палату лордов. Ей уже не нужны были ни король, ни лорды. Вскоре парламент покончит с вассальной зависимостью от короля, ликвидирует феодальные привилегии, и сам станет выдавать доходные должности (разумеется, с немалой выгодой для парламента). Некоторые из его законов были разумными. Ни один налог не вводился в Британии без утверждения парламентом. Англичан приучили относиться с уважением к налогообложению. Впоследствии Б. Франклин любил повторять, что в этом мире неизбежны лишь смерть и налоги.… К началу Английской революции торгово-ремесленная буржуазия прошла уже достаточно серьезную школу (как видим, не только «трудового накопления капитала»). У народа была масса претензий к буржуазии, но все же ее деятельность, в целом, пользовалась большей поддержкой населения. Парламент и королевская власть изменялись на протяжении веков. Французский историк О. Тьерри пишет: «Слова парламент, палата пэров, палата общин утратят тот престиж, которым они окружены благодаря свободе, коей пользуется в настоящее время английский народ. Тогда увидят, что эта свобода, плод современной цивилизации, выросла в недавнее время, выросла из общественного строя, основанного на самом антилиберальном принципе, – строя, в котором могущественная часть нации хвасталась своим иностранным происхождением и тем, что она острием меча узурпировала свои наследственные права, титулы и дворянство, строя, в котором различие между отдельными классами выражалось только расстоянием, отделяющим завоевателя от завоеванного, в котором королевская власть, по праву принадлежавшая потомству предводителя завоевателей, была, собственно говоря, не учреждением, а фактом. Из всего этого выросла современная Англия, которая почти во всем является противоположностью старой Англии. Отрезок времени, лежащий между ними, скорее представляет собой постепенное крушение насильственно установленного строя, чем медленное формирование общества, предназначенного служить примером для других… Завоевание является общим источником всех политических властей, какие существовали в Англии, начиная с XII века».[150] Многие политики плохо знают историю… Сколько можно вдалбливать в их головы, что свобода с демократией успешно работают только там и тогда, где все и вся подчинено суровому закону, где воцаряется приоритет титульной нации (англичане, немцы или русские), когда все без исключения четко выполняют постановления всех ветвей власти. По сути дела, в Британии вот уже много веков действует жесткая диктатура короны и закона. Эти порядки должны войти в плоть и кровь нации, прежде чем настанет пора «демократии». Я уже не говорю о том, что их «демократия» стоит на пьедестале виселиц, казней, разбоя. Вместе с тем даже сильная власть не может еще служить стопроцентной гарантией успеха. Сильному телу необходима умная голова и крепкие руки. Однако почему именно XVII в. стал тем поворотным пунктом европейской и мировой истории, с которого собственно и ведет происхождение система современных буржуазных обществ? Американский ученый Т. Парсонс, один из классиков социологии XX в., даёт такое объяснение: «Мы предпочли датировать зарождение системы современных обществ не XVIII веком, с его эволюцией в сторону «демократии» и индустриализации, а XVII веком, с его изменениями в устройстве социетального сообщества и в особенности в отношении религии к легитимизации общества».[151] Что это означает? Окунемся в жизнь английского народа, проникнуть в атмосферу эпохи, в «психологию народов» (В. Вундт). В чем же состояло это «величие»? Порядок и благосостояние зависят от сочетания гражданских, политических, социально-экономических элементов. Социолог Парсонс в этой связи писал: «Заметное процветание Англии и Голландии в особенности, но и Франции в том числе, еще до появления изобретений, несомненно, было результатом развития рыночных систем в этих странах, что, в свою очередь, зависело от наличия политической и правовой безопасности, а также юридической практики, основанной на собственности и контракте, которые благоприятствовали становлению коммерческого предпринимательства. Английское и голландское процветание было, кроме прочего, следствием относительно слабого давления государства на экономические ресурсы при отсутствии многочисленных постоянных армий и отсутствия у аристократии резко негативного отношения к «торгашеству», характерного для большинства стран континента».[152] Однако было ли в этой стране нечто такое, что побудило впоследствии Ф. Энгельса изречь не характерные для него восторги: приходишь в изумление «от величия Англии еще до того, как вступишь на английскую землю»?[153] Разбой, войны, торгашество и стали теми тремя китами, на которых обосновалась англосаксонская цивилизация… Вся история Великобритании (и США) – история кровавой, безжалостной борьбы за территории и рынки. Англосаксы – те же иудеи, только закамуфлированные под протестантизм (с точки зрения их философии и принципов). Алчность и злато – их истинная религия. Не случайно и истоки денежной философии Нового и Новейшего времени, известной как «меркантилизм», появились именно здесь – в Альбионе. Весьма характерным является и то, что меркантилисты сделали своим девизом древнее изречение, приписываемое иудейскому царю Соломону «Деньги всё могут». Впоследствии точно так же будет названо известное произведение меркантилиста Вандерлинта («Money answers all things», 1734). Огромное значение придавалось и торговле. Из всех методов обогащения нации (помимо откровенного разбоя, разумеется), как считал англичанин Л. Робертс, «внешняя торговля считается самым надежным и легким».[154] Движущей силой Английской революции, «нервом буржуазных преобразований» стали кальвинисты (т. е. сторонники Кальвина). Их называли еще пуританами («чистыми»), подразумевая под этим строгость их нравов, набожность, скромность в одеждах и образе жизни. Ценности аскетического протестантизма способствовали победе Английской революции. В стране утвердился религиозный плюрализм. Особая роль в этой идейно-классовой борьбе принадлежала Библии… Библия стала настольной книгой англичан! Поэт и критик Мэтью Арнолд (1822–1888), отмечая роль этой книги в воспитании целого ряда поколений британцев, скажет: «Тот, кто не знает ничего, не знает даже своей Библии»… Напомним о важной роли переводчика Библии, вольнодумца Дж. Уиклифа. Он стал учителем многих «бедных священников», из среды которых вышел «мятежный поп» Джон Болл, идеолог крестьянского восстания 1381 г. В конце XIV в. стали появляться социальные реформаторы в характерном религиозном обличье («бормотуны»). Революция явилась миру в пуританских одеждах. Общество давно разделилось на пуритан и католиков. Естественно, что внутри религий шло оформление групповых интересов. Различным было отношение к вопросам культуры и образования. Король и католические священники относились с подозрением к книге и Библии. По их мнению, даже статуи и иконы – не более чем «книги неграмотных». Протестанты же видели в книге мощное орудие. «Мы привлекаем людей к тому, чтобы они читали и слушали Слово Божие», – писал епископ Джуэл. «Мы склоняем к знанию, а они (католики) к невежеству». В самом факте широкого распространения знаний иные видели средство установления социальной справедливости и народного благосостояния. В 1640 г. пала цензура. Пуритане надеялись, что с книгопечатанием распространится знание и «простой народ, зная свои права и свободы, не станет более управляемым путем угнетения». Как бы там ни было, а то, что в гущу народных масс пришли дешевые библии (с эпохи Реформации и по 1640 г. тут распространено свыше 1 млн. изданий Библии и Нового Завета) большое значение. Книга стала лакмусовой бумажкой прогресса. Вокруг печатного слова кипели битвы. В 1628 г. Карл I чуть не задохнулся от гнева и возмущения, когда общины в Англии потребовали от него напечатать «Петицию о праве» (первое вмешательство народа в королевские прерогативы). Он возражал против того, чтоб народные массы вообще знали об этом требовании. Бурно отреагировала Палата лордов на призыв Палаты общин напечатать «Великую ремонстрацию» (в первый и последний раз в своей истории члены Парламента обнажили шпаги). Каждый вычитывал в Библии то, что и желал прочесть. Уровень научных знаний был ничтожен, а система обучения в обществе еще только-только складывалась. К. Хилл писал в этой связи: «Низкий образовательный уровень духовенства усиливал стремление пуритан к домашней религии, к чтению Библии… Но что хуже всего, университетское образование продемонстрировало свою несостоятельность в качестве стража веры. В новом мире конкуренции, развертывавшемся вокруг, молодые люди, учащиеся университетов обнаружили, что Библия противоречит иерархическому обществу и иерархической церкви. Церковники поставляли предателей из своей собственной среды. Как только Писание было переведено на английский язык и отпечатано, ящик Пандоры открылся… Библия явилась разделяющим фактором в обществе, где копилось социальное напряжение».[155] Таким образом и пуританская вера зачастую черпала энергию, энтузиазм, даже идеи в учении Христа-революционера! О роли Библии в жизни английского общества говорил в «Опыте о нравах» и философ Вольтер. Он писал: «Во времена Кромвеля место всякой науки и литературы занимало подыскивание текстов из Старого и Нового Заветов и применение их к политическим распрям и самым жестоким революциям». Время требует новой Библии справедливости! Из той плеяды пуритан выйдут герои Английской революции, а также «отцы-пилигримы», основавшие первые поселения в Америке. О них не скажешь, что они «купались в деньгах». Благодаря их влиянию, мужеству, энергии и решимости английскому парламенту удалось отстоять принципы законности и правопорядка, приняв в 1719 г. знаменитый «Закон против мошенничества и спекуляции». Для иных стран и парламентов спустя три века ноша эта оказалась непосильной. Нет той строгости, мужества, патриотизма, нет элементарного здравого смысла. Английское пуританство «дало образцы массовой целеустремленности, методичности», а также «превратилось в суровую школу самодисциплины, перевоспитания и преобразования духовного облика своих приверженцев». Протестанты Англии и Голландии проявляли интерес и к работам иноверцев. В XVII веке в Оксфорде выходит повесть суфийского мыслителя XII в. Абу Ибн Туфейля «Философ, воспитавший себя сам» (1671). Через год ее печатают и в Амстердаме. Что заинтересовало в ней протестантский «истеблишмент»?  О. Домье. Хороший отец преподает сыну урок нравственности. 1847 г. Некая идея, недоступная «новой элите» в России. Власть и деньги (в любом нормальном обществе) должны все же хоть как-то соответствовать культуре, образованию, воспитанию. В аннотации книги, объяснявшей её нужность и важность, было сказано: «Повесть о Хайе ибн Йокдане, индийском принце, или Сам себя обучивший философ», в которой показывается, с помощью каких шагов и ступеней человеческий разум усовершенствованный тщательным наблюдением и опытом, может достичь познания природных явлений и через них прийти к открытию вещей сверхприродных, особенно Бога, и вещей касающихся другого мира». Публикация повести Ибн Туфейля окажет заметное воздействие на становление жанра «робинзонад» (Д. Дефо).[156] Впрочем, читатель наверняка «поймает автора за руку», и указав ему его же собственные страницы, где он показал бандитское происхождение капитала и буржуазной элиты Англии. Всё, это не отменяет высокой оценки пуритан, которые пытались воспитывать людей в строгости и благочестии. Дисциплина, меркантилизм и практицизм – вот Столпы, на которых держалась система обучения. Так, правила Сидни-Сассекского колледжа при Кембриджском университете, куда поступил учиться будущий протектор О. Кромвель, запрещали студентам ношение длинных или завитых волос, пышных воротников, бархатных панталон и прочих украшений, равно как и посещение городских таверн, увеселительных заведений и т. п. За годы революции кардинально изменился вчерашний простолюдин. Ранее его (этого «великого немого») всерьез не воспринимали короли, парламенты, дворяне и церковники. В эпоху же гражданской войны он (повсюду, не только в Англии) решительно и грозно выдвинулся на авансцену мировой истории. Однако, чтобы нагляднее объяснить, что означало появление пуритан (во главе с Кромвелем и сподвижниками) для различных сфер – политики, управления, культуры, науки, образования – придется отойти от сухих оценок и обратиться к отдельным личностям и судьбам. Что представляли собой эти реальные англичане тех времен («без румян и прикрас»)? Им присущи черты новаторства и бунтарства, избранничества и мессианства. Так было едва ли не с каждым великим народом, вступившим на путь исторических свершений. Он старается возвыситься над остальными. Ранняя сепаратистская «тайная церковь» Р. Фитца (1567–1568 гг.) видела в Англии подобие Израиля, которому благоволит Бог. Милтон считал, Бог дал откровение «согласно своему обычаю, сначала своим англичанам». Многие открыто говорили о том, что англичане – избранный народ, а Дж. Эймлер в примечании одной из своих книг утверждал: «Бог – англичанин» (1559). Т. Картрайт благодарил Бога за то, что тот, «минуя многие другие нации… доверил нашей нации» Евангелие (1580), а Дж. Лили в том же году и вовсе настаивал на том, что «живой Бог – это только английский Бог». Такого рода люди, в основном, и составили духовно-энергетический центр Английской революции.[157] В Британии революция не предварялась идейными движениями (как это было во Франции). Никто не ставил задачу создания и «Энциклопедии». Зато всюду шла образовательная работа, публиковались переводы мировой классики. Усилия нации обращены в двух направлениях: 1) создание широкой системы образования; 2) воспитание грамотной, профессиональной элиты. Выделим период с 1480 по 1660 годы. К началу периода в десяти графствах (взятых наугад) было открыто 34 школы, а к 1660 г. уже действовало 305 школ и ещё 105 было учреждено, но ещё не функционировало. К концу периода в стране имелась одна «граммар скул» на 4 тысячи 400 человек. Даже в отдаленной местности (типа Йоркшира) любой ребенок мог ходить в школу, находившуюся не дальше 12 миль от дома. Свою лепту внесли церковники. Во многих приходах святые отцы взяли на себя подготовку талантливых мальчишек, обучая их латыни и готовя к поступлению в университетские колледжи. Более всех от такой политики выигрывали сыновья йоменов, мелких торговцев, ремесленников. То, что происходило в Англии, без преувеличения можно назвать «культурной революцией». О её значении говорил и профессор истории Принстонского университета Лоуренс Стоун: «Между 1540 и 1600 гг. случился в английской истории один из тех знаменательных сдвигов, в ходе которого классы собственников сумели заметно умножить, повысить и обогатить высший образовательный ресурс нации. Совершив эту важную работу, они тем самым обосновали и закрепили за собой право на власть в новых условиях современного государства, а также смогли перехватить у другого класса (церковников) пальму культурного первенства, заполучив также право называться «интеллигенцией».[158] Обратите внимание: в классической стране капитализма буржуазия вначале все же обосновывает свое законное право на интеллектуальное лидерство и первенство, а затем уж захватывает власть. Разумеется, мы рассмешили бы весь белый свет, заявив, что деньги и собственность не сыграли никакой роли в возникновении Английской революции. В основе конфликта, переросшего в гражданскую войну, лежали имущественные интересы. На одной стороне оказались король и роялисты (пэры, бароны, рыцари, богатые эсквайры, джентльмены), на другой стороне – средние классы (среднее и мелкое джентри, купцы, люди ученых профессий, мастеровые, ремесленники, священники, йомены, фригольдеры, зажиточные фермеры). Вот как оценил социально-экономические причины возникновения Английской революции один из английских историков, член Британской академии наук Дж. Э. Эйлер: «Недовольство, вызванное монополиями, правительственным контролем и другими формами вмешательства в сельское хозяйство, промышленность, торговлю и транспорт, мы безусловно должны включить в число многих элементов в ситуации, сложившейся перед 1640 г., без которых последовавшие события не смогли бы стать такими, какими они были в действительности».[159] Скажем вдобавок о заметном ухудшении финансового положения короны (в период между царствиями Генриха VIII и Якова I), усилении роли Лондона как одного из самых больших экономически активных городов мира, а также о заметном росте влияния идеологии протестантизма (позднего пуританства) на средние слои английского общества. Представители нового революционного класса не скрывали своего презрения к дворянам за их косность и невежество. Джон Скелтон сочинил такие вирши: Зачем на свет родился ты? Мы видим, конфликт между двумя лагерями – «джентльменами» и «простецами» – возник задолго до революции. «Джентльмены» считали, что у них достаточно богатств, «прав крови», чтобы и далее занимать лидирующие роли. «Простецы» так не думали. Их соперники (их благородия) не были заинтересованы в умственном и духовном развитии чад… К примеру, один из джентльменов даже гордо заявил: «Клянусь телом Христовым, я скорее соглашусь увидеть моего сына повешенным, чем зубрящим буквы в школе. Разве сыновьями джентльменов становятся не для того, чтобы ловко дуть в охотничий рог, вести элегантно и красиво охоту за дичью и зверем, с должной грацией держа ястреба и умело дрессируя его?! А за буквами да цифрами пусть сидит деревенщина». Деревенщина училась. Примерно в таком же духе описывают премудрости обучения благородных дворян Т. Старк и другие… Первый прямо указывает на то, что главным в подготовке этих кругов к жизни являлось их обучение искусству охоты, танцам, игре в карты, приему пищи и спиртных напитков… Оказывается, самое важное – не труд, не деловые навыки человека, а развлечения и удовольствия. Он говорит: «В Англии джентльменов учат скорее тому, как вырастить хорошую породу собак, нежели мудрых наследников». Э. Дадли считал английское дворянство «наихудшим из всех того, что воспитано христианским миром».[160] Надо задуматься над тем, а почему с тронов сбрасывают королей. Англия XVII в. представляла бурлящий котел личных, династических, политических страстей. Век начался с утверждения личной унии между Шотландией и Англией (1603 г.) под короной Стюартов. Сын казненной Марии Стюарт Яков стал королем (до 1625 г.). Он настроен пораженчески к католицизму, ища поддержку у Испании, врага Англии. Это привело английское общество к расколу на тори и вигов. Первые твердо стояли за короля, вторые решительно – за парламент. В условиях противоборства богатый сквайр Р. Кетсби организовал «пороховой заговор» (1605), целью которого стала физическая ликвидация короля Якова I и его сына в британском парламенте. Неспособность короля Якова, «ученейшего дурака», противостоять вторжению католицизма и привела в итоге к расколу страны, жестокой гражданской войне и казни сына, короля Карла I (1625–1649). Стремление же Карла и его сторонников «кавалеров» править единолично не было подкреплено ни финансами, ни внушительными военными силами. В это время «круглоголовые» (сторонники парламента) предпочитали заниматься не пустой болтовней, а укреплением руководства движения, во главе которого встал 43-летний сквайр Оливер Кромвель. Кромвель (1599–1658), бесспорно, главное лицо Английской буржуазной революции. Это – сложная и противоречивая фигура. Историки справедливо говорят о том, что XVII век его ненавидел и презирал, XVIII век не понимал и только XIX век сумел-таки воздать ему должное. «Ближайшее потомство клеймило Кромвеля как нравственное чудовище, а в позднейшее время его прославляли как величайшего из людей».[161] Где же истина? Истина, как это часто бывает, находится посредине. В нем сочетались черты великого политика, сурового пуританина, деспота. Противоречивость вообще характерна для великих фигур истории (Наполеон, Петр Великий, Ленин, и т. д.). Иные никак не могут понять одной истины: совершить крутой перелом в сознании и жизни миллионов людей, изменить весь ход истории, вырваться из порочного круга преступного правления, вывести народы из тупика (а, увы, не заводить людей в тупик) нельзя, не применив к врагу силу в союзе с разумом. Вспомним, как тот же Мор возлагал надежды лишь на разум и мудрость. И что же? Он был казнен ничтожным правителем. Оливер Кромвель отчетливо понял, что разум надо вооружить, дополнив его аргументацию железом гвардейцев, смелыми генералами. И на плаху справедливо был отправлен бездарный и безвольный правитель… Однако все это произойдет позже… Имя Кромвеля будет овеяно легендами. О нем будут рассказывать сказки, создавать мифы: что, якобы, уже в четырехлетнем возрасте он разбил в кровь нос 3-летнему наследнику престола, будущему королю Карлу I, а вскоре увидел и устремленные на него огненные глаза. Чей-то громовой голос, якобы, воскликнул: «Ты будешь великим человеком»… Оставив легенды, расскажем о ранних годах его жизни. Учился Оливер в пуританской школе, где царили суровые порядки. Доктор Бирд не жалел ни молитв, ни розог. В 1616 г. (а это был год смерти Шекспира) 17-летнего Кромвеля привели в Кембридж. Здесь тогда преподавали богословие, геометрию с арифметикой, риторику с логикой, латынь и греческий язык. Учился он довольно средне. Недруги будут позже обвинять Кромвеля в злоупотреблении виски и женщинами, но какой сильный и здоровый юноша не отдавал дани грехам молодости. Особенно если ты очутился в компании студентов, изучающих право! Разве не затем изучают законы, чтобы в зрелые годы не устоять от соблазна их нарушить?! Во всяком случае доподлинно известно то, что из стен университета он вынес искреннее преклонение перед светскими науками (особенно, историей). Учеба была краткой, через год он вынужден будет уехать домой: умер отец и нужно было помочь матери вести хозяйство. В 21 год Оливер женится на дочери богатого лондонского купца-меховщика. Вернувшись в родные места, он взвалил на себя все хозяйственные заботы. Уже тогда в нем выработались такие завидные качества как точный расчет и железная хватка. Скромный, трудолюбивый фермере, внешне угрюмый и замкнутый человек. Впрочем, причислять Кромвеля к обычным фермерам было бы неверно. Его род в отдаленном родстве с министром Генриха VIII Томасом Кромвелем, по прозвищу «молот монахов» (он изгонял святых отцов, разрушал их монастыри и распродал с молотка почти все их земли). Среди его предков были и те, кого звали «золотыми рыцарями». Король Яков I однажды остановился у дяди Оливера. Одним словом, его вполне можно было отнести к джентльменам. Уединившись в сельском доме, он обрабатывал землю, ежедневно молился (вместе со слугами), умело читал проповеди, укрывал и ободрял преследуемых священников. Выступал он защитником общественных интересов в вопросе о земле, отчуждаемой у крестьян графом Бедфордом. По словам Карлейля, он призвал власть к ответу, сделав то, на что никто другой не решился. Так он прожил почти в полной безвестности до сорока лет. В округе все его знали и уважали как человека справедливого, разумного, решительного и мужественного. Вскоре граждане Гентингдона избрали его в парламент. Тогда в Англии никому и в голову не могла бы прийти такая глупость – избирать в парламент по спискам, да еще никому не известных выскочек. Выдвигали только тех, кого знали на местах. А с королем стране не повезло. Самовлюбленный циник, он требовал от законодательной власти все новых субсидий (пытаясь одобрить свой разбухший бюджет). При этом заявлял: «Помните, что парламенты всецело в моей власти, и от того, найду ли я их полезными или вредными, зависит, будут ли они продолжаться или нет». Смело и отважно сражались против деспотии короля английские политики (Пим, Эллиот, Гемпден), пытаясь отстоять права и привилегии нового дворянства и буржуазии, и прежде всего «полную собственность на свое имущество, земли и владения»… Король требует денег, вместе с тем категорически запрещая выдвигать обвинения против должностных лиц короля и правительства (даже обоснованные). «Мое правительство всегда право,» – таков его циничный лозунг. Впервые палата общин парламента Англии отказалась повиноваться воле короля. Трусливого спикера заставили принять революционные решения: отныне врагом и предателем страны должен считаться всякий, кто разрешит взимать пошлины без согласия парламента(даже король), кто добровольно заплатит неутвержденные парламентом налоги, кто одобрит привнесение папистских новшеств в англиканскую церковь. Король распускает парламент. Организаторы «парламентского бунта» (1629 г.) брошены в казематы Тауэра. За сочинения, направленные против епископов, их клеймили раскаленным железом и отрезали уши. Пришел, наконец, и час Кромвеля… В парламенте появились сила, отвага, ум, решительность. Сочетания этих качеств явно не хватает ныне в России. В английском парламенте оппозиция была представлена палатой общин (из 500 ее членов 91 представляли графства, 4 – университеты, остальные – города и парламентские местечки Англии). Кромвель в Долгий парламент 1640 г. попал от Кембриджа. Здесь-то и проявился его «огненный характер».[162] Вскоре он разбил пустоголовых «кавалеров», резонно не доверяя королю Карлу. Кромвель понял: с ним «нельзя вести никакого дела». А если уж такой человек как Кромвель вошел в политику, он должен был или уйти сам из нее, или устранить со своего пути короля. Нам абсолютно понятны его слова: «Если бы в сражении мне пришлось столкнуться с королем, я бы убил его». Здесь нет места личной ненависти и неприязни. Просто король обманул и предал свой народ. Ясно, что необходимо уничтожить этого врага Англии и народа. В Кромвеле видится «идеал» буржуазного политика. Им восхищение Карлейль, заметив, что ни в истории Англии, ни в истории других стран не было борцов, более беззаветно преданных своему делу. Не станем сравнивать его с русскими героями, но считаем в порядке вещей, что этот хантингдонский фермер станет в недалеком будущем «действительным королем Англии». В 1643 г. Кромвель страной как великий полководец и государственный деятель. Когда страна переживает период смуты, острого гражданского противоборства, так и бывает: из гущи народа вдруг появляется отважный человек, ранее ничем себя особенно не проявлявший, но «в час икс» ставший спасителем отечества. Такие люди рождены самим Провидением! И тут вступает в действие великий закон, который я называю Законом революционной необходимости! Он выведен на скрижалях крупнейших революций. В основе его лежат насущные требования широких слоев народа. Англия была первой страной, где этому закону удалось продемонстрировать свою железную поступь. История Английской буржуазной революции может поведать о многом. Если глубокие противоречия меж большинством и меньшинством (властью) не удается разрешить мирным образом, начинается война. Капиталисты и «новые дворяне» могли захватить собственность, скупив в ходе «приватизации» за гроши поместья и земли, находившиеся в руках прежних господ. Однако новым буржуа было еще не под силу одолеть короля.[163] Буржуазия решает создать свою армию (железнобоких) во главе с Кромвелем. Среди офицеров было немало выходцев из народа: полковниками станут извозчик Прайд, сапожник Хьюстон, шкипер Рейнсборо, котельщик Фокс. Армия Кромвеля была крепка верой и дисциплиной, не знала пьянства и разврата, не допускала насилия над мирным людом. Он набирал солдат из пуритан и сектантов. Основу его армии составляли солидные йомены (крестьяне), вкладывавшие «в общее дело всю свою душу». Поэтому она и стала непобедимой. Когда глава государства (король) попытался, было, договориться с парламентом за спиной народа и армии (они всегда стараются договориться за нашей спиной и обмануть простых людей), произошло нечто неожиданное для верховной власти. В 1647 г. корнет Джонс, всего-то с небольшим отрядом, арестовал короля. В ответ на требования предъявить полномочия корнет указал на драгун («Вот мои полномочия!»). Королю ничего не осталось, как признать убедительными: «Мне никогда не приходилось видеть полномочий, написанных более четким почерком». Мятежная армия смело и решительно шла на Лондон. Парламентарии и ростовщики столицы с ненавистью наблюдали за народными когортами. Вскоре после попыток «закулисы» (с помощью иностранцев) изменить ход событий военные устроили чистку в парламент. Оттуда была решительно изгнана чуждая «пятая колонна». Полковник Прайд пропустил лишь малую часть депутатов (десятую часть прежнего состава, 50 человек). Ответ на вопль: «По какому праву?» Он ответил: «По праву меча!» Часть парламента (в Англии) показала свое истинное и гнусное лицо. Напрасно он взывал к их вере, совести, гражданским чувствам: «Отрешитесь от себя и пользуйтесь властью, чтобы обуздать гордых и наглых. Облегчите угнетенным их тяготы, прислушайтесь к стонам бедных узников Англии…» Все напрасно. Эти преступники и предатели понимали лишь язык силы, закона и меча. «Охвостье» парламента (есть оно и в России) сосредоточило в руках властные полномочия и постановило: мы навсегда останемся во главе страны, дополнив ряды такими же проходимцами. Что прикажете делать с ворьем? Надо прибегнуть к силе!!! Кромвель буквально «стащил с трона» жалкую кучку воров, шутов, болтунов и демагогов. Под дулами мушкетов! Долгий парламент был разогнан – и, как заметил венецианский посол, «ни одна собака даже не тявкнула».[164] Так спасают свой народ от тиранов… Венцом тех революционных перемен стали события января 1649 г., когда страна по сути дела восстала против правителя-короля на стороне парламента (но это был, заметим, революционный парламент!). Суд принял верное решение в отношении предателя-монарха. Заметим, сделано это под воздействием «ежовых рукавиц» Кромвеля. Тот «попал в цель», воскликнув: «А я вам скажу, что мы отрубим ему голову вместе с короной». Выбор между народом и королем сделан. Король Англии Карл I был казнен. Хотя один из ближайших сподвижников Кромвеля генерал Т. Ферфакс отказался заседать в суде и подписать приговор; даже такой противник абсолютизма как Дж. Лильберн отверг предложение войти в состав членов специальной судебной палаты. Последовал билль от 7 февраля 1649 года, гласивший: «Опытом доказано, и вследствие того палатою объявляется, что королевское звание в этой земле бесполезно, тягостно и опасно для свободы, безопасности и блага народного; поэтому отныне оно отменяется». К власти в Англии пришел не народ, а купцы, ростовщики, банкиры. Наступил период стабилизации. Это уже потом лицемерные английские буржуа будут патетически восклицать, отводя глаза в сторону и потупив взор: «Монарх – это навсегда».[165] 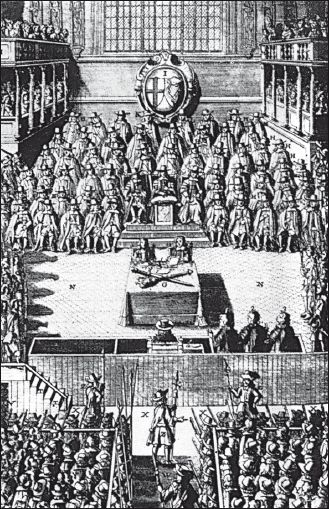 Суд над королем. Пока солдаты и офицеры, дети народа, вели битвы, властные тузы и ворюги занимались приватизацией и накопительством. И тогда появились агитаторы, говоря: «Даже наиболее скромный гражданин должен воспользоваться своей истинной свободой и собственностью… Мы прошли сквозь все трудности и опасности войны ради того, чтобы завоевать для народа и для самих себя обильную жатву свобод, но вместо этого, к великому огорчению и скорби наших сердец, мы видим, что угнетение теперь столь же велико, как и раньше, если не больше». Были ли основания для этих заявлений и обвинений? Разумеется, были. Ведомые офицерами и генералами, солдаты (Англии) восстали, потребовав не только возместить им долги, но и вернуть крестьянам отобранные земли, а также предоставить простолюдинам избирательные права. Итогом гражданской войны стало обнищание народных масс. Вот что было сказано в одном из документов «левеллеров»: «Пусть неумолимые требования наших желудков дойдут до парламента и до сити; пусть увидят они слезы наших несчастных голодных детей; пусть вопли их любящих матерей, требующих для них хлеба, будут отчеканены на металле. Если бы только наши страдания могли открыться сочувствующему взору. Пусть узнают, что ради хлеба мы продаем наши постели и одежду. Сердца наши почти не бьются, и мы в любой момент можем умереть посреди улицы». Таковы не радужные итоги событий тех лет. Когда завершилась первая (1642–1646) и вторая (1648) гражданские войны, победа буржуа была достигнута, а власть полностью оказалась в руках Кромвеля. В 1649 г. им провозглашена республика, а в 1653 г. он установил в стране режим неприкрытой единоличной диктатуры. Где-то тут и находится рубикон, за которым иная героическая эпопея сменяется фарсом, герой становится тираном. Размышляя над тем, как подойти к изображению Кромвеля («этой причудливой и колоссальной личности»), Гюго долго ломал голову над тем, как бы невольно не опуститься в своих описаниях этого выдающегося человека до примитивного гротеска. Многие, рисуя его портрет, ограничивались образом лишь Кромвеля-воина, Кромвеля-политика. Не мудрено, что образ получался каким-то плоским, суровым, однообразным. Кромвель – существо многогранное и сложное. «Увидев перед собой этот редкий и поразительно целостный образ, – писал Гюго, – автор этих строк не мог уже удовлетвориться пристрастным силуэтом, набросанным Боссюэ». Он стал присматриваться к этой великолепной фигуре, и его охватило пламенное желание изобразить гиганта со всех сторон и во всех его проявлениях. Материал был богатый. Рядом с воином и государственным деятелем нужно было еще нарисовать богослова, педанта, стихоплета, духовидца, комедианта, отца, мужа, человека-Протея, словом – двойного Кромвеля, homo et vir» (человека и государственного мужа). Далее рисуется сцена, когда республиканец, железный вождь парламента, цареубийца, вдруг, проявил страстное желание стать королем. Какой урок обладателям единоличной власти… Вчера они еще были глашатаями свободы и демократии (по крайней мере, казались таковыми). Но вот власть у них. Как она прекрасна, несравнима, восхитительна![166] «Голосуй – а не то проиграешь!» Вот уж и Вестминстер, и подмостки убраны флагами. Ювелиру заказана корона. Назначен день коронации… Как же на все это реагирует английский народ? Он недоумевает, глухо ропщет и явно возмущен «при виде цареубийцы, вступающего на престол». Однако химера, как пишет В. Гюго, ускользает. Игра Кромвеля, как говорят простые люди, «сорвалась»… Впрочем, и сам Кромвель прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь переменчив и непостоянен народ. Однажды он философски изрек: «Э! Да народ с таким же восторгом пошел бы смотреть, если бы меня повели и на эшафот». И тут он прав. Итоги правления Кромвеля противоречивы… Ему вменяли в вину роспуск парламента (хотя он его и не расстреливал), его властолюбие, неумеренную пышность жилья и кабинета (расположился в королевских, царских покоях), преследования соратников и т. д. Вольтер писал о Кромвеле: «Поработил Англию с евангелием в одной руке и со шпагой в другой, с набожной маской на лице. Достоинствами великого правителя прикрыл преступления узурпатора». Но в его деяниях было немало и позитивного. При нем окрепли финансы, строгим стало управление ими, упорядочена была судебная власть, отменены дуэли, улучшено положение школ и школьных учителей… Полагая, что деньги не пахнут, в 1655 г. он с большим почетом принял и главу иудейской общины в Амстердаме бен Израэля с его раввинами. Те просили отменить закон 1290 г. об изгнании евреев из Англии. Хотя никакого постановления на сей счет так и не было принято, евреи вскоре почувствовали себя здесь заметно вольготнее и тут же перенесли из Амстердама в Лондон свои главные деловые конторы, активно участвуя в британской торговле. Англия при нем не только не теряла земель, но приобретала, присоединив Шотландию и Ирландию, победив Голландию, разгромив испанцев на суше и на море. И, что гораздо важнее – вскоре стала торгово-промышленным гегемоном всего мира. Однако замечу: прежде чем это случилось, во главе страны встал Кромвель!!! Хотя с сегодняшних позиций это – не лучший тип политика. На его совести многие преступления. Вскоре после упрочения своей власти он открыто порвал с народом, устранил левеллеров, набросился на Ирландию, аки пес, возложил на себя королевские полномочия лорда-протектора, стал мечтать о мировом господстве («постучался бы в ворота Рима»). О судьбе Ирландии стоит сказать особо… Если бы в истории британской короны не было больше никаких преступлений, кроме покорения Ирландии, то и этот акт по отношению к талантливейшему и мужественному народу не дает право Британии кичиться её «демократией». В. Гюго справедливо заметил, что Шотландию Кромвель превратил в вилайет, а Ирландию – в каторгу! Близость ирландцев и англичан очевидна. На земле кельтской Ирландии и Британии создана обширная литература. Историки называют как латинские сочинения (Гильдас, De excidio Britanniae, около 560 г.), которыми кельты впервые «дебютировали во всемирной литературе», так и собственно ирландские источники. Соссей отмечал: «Начиная с V в. Ирландия была местопребыванием культуры; классическая литература изучалась там в то время, когда знакомство с греческим языком почти исчезло в остальной Западной Европе; в VII в ирландцы стоят на вершине культуры, и еще в школах времени Каролингов они были излюбленными учителями. Впрочем, эта ирландская культура была классическая и христианская; тем не менее она сохранила также некоторые туземные сказания, и позднее, именно во время викингов, при столкновении с датчанами и норманнами, эти сказания получили развитие… Ирландский народ в течение нескольких веков классического и христианского образования воспринял столько чуждых элементов, что языческая мифология никак не могла сохраниться у него в чистом состоянии».[167] Еще во времена Тюдоров англичане коварно натравливали клан на клан, дожидаясь своего часа. К несчастью, лорды-землевладельцы и вожди кланов Ирландии так и не смогли объединиться: «все воевали со всеми» (Т. Джексон)… «За полтора года они (мятежники) были доведены до такого отчаянного положения, что даже каменное сердце сжалось бы. Из всех углов, из лесов и долин они выползали на руках, так как ноги уже отказывались служить им; это были живые скелеты; они говорили так, что, казалось, мертвецы дают о себе знать стоном из своих могил; они пожирали падаль, радуясь, когда могли найти ее; затем они стали пожирать друг друга или трупы, которые не ленились вырывать из могил. Если они находили лужайку, поросшую салатом или трилистником, то собирались толпой, как на праздник, но не в состоянии были долго пировать; таким образом, за короткое время от них почти никого не осталось, и густо населенная, обильная страна внезапно опустела, лишившись и людей, и скота». Колонизацию Ирландии «триумфально» завершил все тот же Кромвель. Он принялся уничтожать силы ирландских «мятежников» (борцов за свободу родины). В иных городах он полностью истреблял гарнизоны вместе с гражданским населением, заодно уничтожая и ненавистных католических монахов, если они попадались на глаза. Нет ничего страшнее межнациональных, религиозных войн. Конечно, вы вправе сказать, что точно так же вели себя усмирители крестьян в Германии, Альба в Нидерландах, Мария Медичи во Франции и т. д. Это не оправдывает «железного карателя». В итоге всех его действий, к 1652 г., после 11 страшных лет войны, Ирландия представляла собой ужаснейшую картину. Всюду царят нищета, болезни, эпидемии, опустошения, мор и глад. Современники писали: «Целые районы обезлюдели». Один английский офицер вспоминал: «Можно было проехать двадцать верст и не встретить ни одного живого существа – ни человека, ни животного, ни птицы».[168] Говоря об отношении англичан к ирландцам, право, трудно удержаться от возмущения. Как только не издевались англичане над этим родственным им по языку и культуре народом… Священник и острослов Сидней Смит (1717–1845) однажды даже заметил: «Как только произносится слово «Ирландия», англичане, кажется, забывают о человеческих чувствах, об осторожности и о здравом смысле и действуют, уподобляясь варварам и самодовольным глупцам». Показателен и такой факт. После 1867 г. полицейским из Royal Irish Constabulary в Ирландии выдали оружие, а в самой Англии они не были вооружены.[169] Ирландия перешла в собственность британской короны. Какой триумф демократического духа! Какая слава диктаторскому правлению! Какой прекрасный пример для нравов нарождавшейся буржуазной республики! Вот бы иным «либеральным слизнякам» честно и рассказать об этом британском опыте. Но они предпочитают (на грязные деньги англосаксов) хаять Россию! Народ устал от революционного правления, наивно полагая, что шедшие на смену «железному правителю» будут обладать умом и деловым расчетом. Он глубоко заблуждался. При Карле II страна бросилась в иную крайность. Если пуритане были людьми суровых взглядов и твердой морали (так они, явно перебарщивая, считали театр вертепом), то при новой власти и развратнике-короле беспутство стало обыденным явлением. Король поторопился окружить себя метрессами. И даже благосклонно принял кличку «старина Раули» (так называли в шутку закупленного им жеребца королевской конюшни). Он сразу же стал попустительствовать всем взяточникам и казнокрадам, что без зазрения совести растаскивали государственную казну. А король только тупо и недоуменно пожимал плечами, восклицая: «Не понимаю, куда же могли деться столь крупные государственные суммы»… Вокруг кишмя кишели иезуиты. Устраивая заговоры и пытаясь убить короля, они считали себя хозяевами страны. В Лондоне случился страшный пожар, словно наказание Господне.[170] И все же поразительно, как ничтожества везде и всюду готовы воевать не с живыми (на это у них не хватило бы духу, их-то они славословили), а лишь с прахом и тенью великих революционеров!  Оливер Кромвель – лорд-протектор. Кромвель, его соратники и солдаты вынесли на своих плечах всю тяжесть революции. Пришедшие же им на смену «наследники» (из числа новой буржуазии) были карьеристами и мздоимцами. Они ловко воспользовались плодами народной победы. «Билль о правах» оказался пустой бумажкой, бесплодной прокламацией, которую «власть безнаказанно разорвала в клочья». Первое, что они сделали – запретили указом любое обсуждение действий государственных лиц. Люди 1688 г. отвергли протестантов-нонконформистов, самую патриотическую из сект. Они установили цензуру для книг и рабский режим для типографий. «Сливки общества» насмехались над общественным мнением, позвав в новый кабинет старых политиканов (Денби, Нотингемы, Галифаксы, Джефри). Произошел симбиоз старых и новых негодяев. Все эти важные чиновники, богачи, банкиры, аппарат власти вступили в странный союз с лозунгами свободы и отечества. Те, кто обладали всеми титулами, сразу же нашли общий язык с теми, кто ранее не имел таковых (но втайне страстно желал их заполучить). Они заявили «соискателям от оппозиции»: «В чем дело, господа, давайте править вместе, надувая наш любимый народ сообща, во славу капитала!» А когда возмущенные жертвы «демократии» потребовали (нет, не возвращения старых порядков и не кровавых репрессий, боже упаси!), а законного возмездия за те новые преступления, что совершены сановными жуликами и их подчиненными, правительство актом амнистии распространило на них свою защиту. Дело ясное: вор вора никогда не осудит. Manus manum lavat («рука руку моет»). «Наступила пора самого бесстыдного взяточничества; энергии хватало только на интриги, – писал О. Тьерри. – Поэтому не прошло и 20 лет после революции 1688 года, как английский народ уже проклинал ее и кричал: «Долой вигов!», так же как он раньше кричал: «Долой Стюартов!» А виги, подобно Стюартам, отвечали на это обвинениями в государственной измене, смертными казнями, новыми налогами, новыми указами для сохранения титулов и должностей. Передача престола, произведенная якобы в национальных интересах, чуть не была нарушена уже подлинным национальным восстанием. Потребовалось прибегнуть к такому отвратительному средству, как помощь иностранцев».[171] Виктор Гюго: «Не следует забывать, что в 1705 году, и даже значительно позднее, Англия была не та, что теперь. Весь ее внутренний уклад был крайне сумбурен и порою чрезвычайно тягостен для населения. В одном из своих произведений Даниэль Дефо, который на собственном опыте узнал, что такое позорный столб, характеризует общественный строй Англии словами: «железные руки закона». Страшен был не только закон, страшен был произвол. Вспомним хотя бы Стиля, изгнанного из парламента; Локка, прогнанного с кафедры; Гоббса и Гиббона, вынужденных спасаться бегством, подвергшихся преследованиям Чарльза Черчилля, Юма и Пристли; посаженного в Тауэр Джона Уилкса. Если начать перечислять все жертвы статута seditious libel (английский, авт. – «о крамольных пасквилях»), список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы; ее приемы сыска стали школой для многих. В Англии было возможно самое чудовищное посягательство на основные права ее обитателей… Такова была свобода»….[172] Поэтому о демократии, свободе и равенстве, якобы, присущих английскому государству, речь может идти лишь с большой натяжкой. Даже русский монархист К. Н. Леонтьев вынужден был признать, что английские свободы, так сказать, «с душком»… Он писал о них: «Равенства, в широком смысле понятого, в Англии было сначала, пожалуй, больше, чем, например, во Франции, но потом, именно по мере приближения цветущего периода (Елизавета, Стюарты, Вильгельм Оранский и Георги), и юридического и фактического равенства стало все меньше и меньше… С первого взгляда кажется, как будто Англии посчастливилось больше других стран Европы. Но едва ли это так. Посмотрим, однако, повнимательнее. Конечно, Англии посчастливилось сначала тем, что она долго сбывала свои горючие материалы в обширные колонии. Англия демократизировалась на новой почве – в Соединенных Штатах Америки».[173] Как видите, даже самый беглый анализ этого важнейшего периода английской истории, который часто готовы воспринимать в качестве «золотого века», явно не выглядит таковым. Хотя мы должны признать то, что Англия совершила в этот период истории колоссальный прорыв в вопросах создания центра мировой экономической власти. Достаточно сказать, что объем английской торговли с 1610 по 1640 гг. увеличился в десять раз. Основанный в 1694 г. Английский банк станет вскоре самым крупным финансовым центром мира, а фунт стерлингов, по сути дела, превратится в самую сильную денежную единицу в Европе.[174] Англия, Голландия, Франция своими успехами обязаны отнюдь не вульгарно понимаемым «рыночным отношениям», но тому институциональному контексту, в рамках которого и оказались возможны все важнейшие достижения и заслуги. Благодаря этому развернулась научно-промышленная революция, общество дифференцировалось путем введения шкалы вознаграждений и поощрений. В таком обществе почетным и выгодным делом считается не только торговля, но и занятия философией, наукой и техникой. Таким образом в сознании европейцев стала постепенно утверждаться и светская культура.[175] Философ Э. Берка сказал: «Сделайте революцию залогом будущего согласия, а не рассадником будущих революций». У Англии была другая, более позитивная и светлая сторона. С уходом «старого мира» британцы достигают и на ниве культуры, поэзии, просвещения, науки многие ощутимых результатов. Духовный мир англичан формировался с помощью школ и книг. Достойно изумления то, с каким пиететом взирали они на перо и книгу. Как тут не вспомнить У. Оккама (1285–1349), философа, учившегося и преподававшего в Оксфорде, предвестника эпохи Реформации. Людвигу Баварскому он сказал: «Защищай меня мечом, а я буду защищать тебя пером». Сила английской буржуазии в том, что она умело воспользовалась тем и другим. Ричард де Бери, епископ Дарэмский (XIV век) подчеркивает воспитательное и образовательное значение книг: «Какое огромное наслаждение познания скрывается в книгах! Как легко и откровенно доверяем мы книге тайну своего невежества! Книги – учителя, наставляющие нас без розог и линейки, без брани и гнева, без уплаты жалованья натурой или наличными. Подойдешь к ним – они не дремлют, спросишь у них о чем-нибудь – они не убегают, ошибешься – они не насмехаются. Вот почему сокровищница мудрости дороже любых сокровищ. И тот, кто считает себя приверженцем истины, счастья или веры, неизбежно должен быть приверженцем книг». Из книг, наук и техники англичане создали храм, «купель святого причастия». В книгах видели первопричину успехов и несчастий. Памфлет «Тревога Англии» (1587) усмотрел корень восстаний и беспорядков в Ирландии в «дороговизне исторических книг». Патриотизм у всех на слуху. Пособие «Совершенный джентельмен» (1622) требует от англичан не быть чужестранцами в своей стране, изучать собственную историю. Бюргеры Лондона, других городов читают хроники, трактаты, сборники мудрых мыслей. Помимо обязательного преподавания истории в школах Лондона вводится должность «хронолога», записывающего достопамятные события. Распространяются дешевые исторические издания. «И хотя строгие пуритане, – отмечал историк, – с подозрением и осуждением относились к чрезмерному поклонению «великому идолу», именуемому образованием, для истории делалось исключение, поскольку от нее ожидали наставления в благочестии».[176] В XVII веке взошла звезда историка Р. Хэклюита, автора «Основных плаваний английской нации» (умер в 1616 г.). Его книги по популярности сравнимы с Библией. Этот талантливейший ученый и писатель считал главным публикацию документов. Впервые его книга появилась на свет сразу же после разгрома испанской Великой армады (в 1589 г.). Уже тогда английские историки преспокойно выполняли «социально-политический заказ» своей страны и никто при этом не лил крокодиловых слез (как это делает в России антирусское лобби). Книгу Хэклюита даже называли «руководством по колонизации». Зная нравы англичан, эта оценка воспринимается, скорее, как похвала. В трехтомном издании представлены многочисленные документы и карты (не только английские). Он обосновывал права англичан на мировые пространства, прокладывал путь в Индию, Китай, Южную Америку. В книгах присутствовали элементы открытой пропаганды имперского мышления. Это был яростный и верный защитник британского господства. Историк станет и одним из основателей Ост-Индской кампании. Это еще более укрепило культ Хэклюита, идеолога британского колониализма. О книгах его говорят, что это «эпическая поэма английской нации». Надо отдать должное и его писательскому мастерству. Не случайно в Британии этого историка по сей день считают (конечно же, наряду с великим Шекспиром) отцом-основателем английской литературы. Хотя Карлейль, заявил во всеуслышание: «Англичане – немой народ. Они могут совершать великие дела, но не могут описывать их». Сущий вздор! В конце концов, разве не из этих «щенков знания» (хорошей бульдожьей породы) выросла большая часть британских «имперцев» или (чуть позже) американских научно-технических «акул» и «волкодавов»?! Разве не из стен славных английских и шотландских университетов явятся яркие представители исторической науки?! Разве не английской нации принадлежат имена Э. Гиббона и А. Тойнби?! Следует с осторожностью отнестись к эскападам Ф. Энгельса (немца!), характеризовавшего образованного британца, как «чучело», которое слепые люди называют выразителем «духа» времени.[177] При всей справедливости приведенной критики английских порядков, не будем забывать: Британия стала колыбелью политических свобод, оплотом деизма, цитаделью материалистических учений в Европе и мире. Как итог раскрепощенной энергии разума следует превращение ее в промышленную мастерскую человечества. В философии выделим имена Гоббса и Локка, в экономике – Смита и Рикардо, в поэзии – Шекспира и Милтона, в естественных науках – Ньютона и Фарадея. Подлинная палата умов Нового времени! Позднее к ним присоединятся и известные родоначальники позитивизма – Дж. С. Милль и Г. Спенсер, и другие. Подобно тому как экскурсию по Лондону начинают с показа башни Большого Бена, путешествие по духовному Альбиону, вероятно, следует начать с Шекспира, возможно, закончив просмотром его «Возлюбленной» (фильма, получившего «Оскара»). Шекспир – это целая вселенная. Нужен был поистине великий гений, чтобы вот уже четыре столетия подряд заставлять людей погружаться в глубокие раздумья о судьбе Гамлета, лить слезы над судьбами Офелии и Джульетты, содрогаться от преступлений четы Макбетов. Шекспир – лучшая школа для душ, возжелавших бессмертия. О нем говорят, что он равен Микеланджело по пафосу и Сервантесу по юмору. Но, кажется, и ныне еще никому из смертных не удалось в полной мере раскрыть «задушевную тайну его существа». Уильям Шекспир (1564–1616) – крупнейший гуманист эпохи Позднего Возрождения, человеком Нового времени. Считалось ранее, что он появился на свет в Стрэтфорде-на-Эвоне, маленьком и живописном городке, описанном им в комедии «Сон в летнюю ночь». Родом Шекспир был из богатой крестьянской семьи. Его отец начинал с торговли шерстью и хлебом, а затем получил должность чиновника, сумев подняться до поста старшего бургомистра. Никто из родителей Шекспира, так и не смог закончить школы. Уильяма определили в Стрэтфордскую вольную школу, где обучали латыни и чтению отрывков из Овидия, Вергилия, Цицерона, Сенеки. Об этих страницах школьной жизни он упоминает в «Виндзорских проказницах». Вероятно, на формирование юношеских взглядов оказала воздействие местность (Уорвик, Ковентри и др.). В дальнейшем тут разыгрывались действия его исторических пьес. Стрэтфорд посещался странствующими актерами. У юноши была прекрасная возможность ознакомиться с английским театральным репертуаром. Он решил отправиться в Лондон, где он застал славный век Елизаветы. Англия тогда вела ожесточенную борьбу с могущественной Испанией. В 1587 году свершилась казнь королевы Марии Стюарт, а в 1605 году Гай Фокс, возглавлявший «пороховой заговор», предпринял попытку взорвать здание английского парламента. Эпоха интересная и занимательная. Борис Пастернак писал в стихотворении «Шекспир»: Извозчичий двор и встающий из вод Учителем Шекспира в области драматического искусства стал Кристофер Марло (1564–1593). Этот сын башмачника закончил Оксфорд, получил магистерскую степень, но в итоге стал актером и писателем. О жизни Шекспира сохранилось немного сведений. Не найдено никаких личных писем. Отсутствуют его рукописи. Имеется всего пять или шесть собственноручных подписей Шекспира. Нет полной уверенности и в отношении подлинности авторства его работ. Неизвестно, кому он посвящал изумительные сонеты. Мы не знаем многого. С уверенностью можно сказать одно: мы имеем дело с титаном, мастером исторического психологизма. По словам Гете, этот бард умел, как никто другой, «выворачивать наизнанку внутреннюю жизнь». Он проникал в потаенные глубины бытия, тонко улавливал самую суть явлений. Пушкин скажет в этой связи: читая Шекспира, я словно бы заглядываю в бездну. Мы назвали бы его величайшим гением познания. Историки отмечают поразительную осведомленность его в английском праве. Опытные юристы нашли в его пьесах, изобилующих юридическими терминами, ни одной ошибки. Богатству приводимых им сведений о природе мог бы, пожалуй, позавидовать маститый ученый-натуралист. Знакомство его с деталями книгопечатного искусства побудило увидеть в нем ученика типографии. Глубокое знание им Библии подтолкнуло епископа Вордсворта сочинить книгу «Знание и употребление Библии у Шекспира». Возникло предположение, что подлинным автором его сочинений был Ф. Бэкон. Поэту предписывают авторство самых смелых медицинских идей (относящихся к XVIII веку). Изображения им сумасшедших точны в профессиональном отношении. Врачи-психиатры восторгаются верностью описания болезни Лира и Офелии. Актеры и постановщики испытывают священный трепет перед «шотландской» пьесой Шекспира – «Макбет», таинственные заклинания которой по сей день леденят кровь актеров. Одним словом, колдовство этого гения очаровывает многих. Гете полагал, что все философские книги не заключают в себе столько духовной материи, света, сколько содержится в одном лишь его образе – Гамлете. Возможно, именно поэтому он и называл Гамлета по отношению к грядущему – Zukunftmensch («Человек Будущего»).  Исаак Оливер. Портрет молодого лорда, которого долго не удавалось идентифицировать (вторая половина 1590-х гг.) Теперь появились основания считать, что на нем изображен Роджер Мэннерс, граф Рэтленд. Будущий премьер-министр Англии Бенджамин Дизраэли в романе «Венеция» говорит устами своего персонажа: «А кто такой Шекспир? Мы знаем о нем не больше, чем о Гомере. Написал ли он хотя бы половину приписываемых ему пьес? Написал ли он хотя бы одну пьесу полностью? Сомневаюсь в этом». В Нью-Йорке некий Дж. Харт бичевал Барда как самозванца, говоря: «Он был не пара литературным деятелям своего времени, и никто не знал этого лучше, чем он сам. Навязывать нам его дутую славу – это мошенничество мирового масштаба. У него нет ничего, что стоило бы передать другим поколениям». Харт полагал, что была группа способнейших литераторов, создателей драм, авторство которых приписывали ему. Но самую серьезную атаку на творчество Шекспира предприняла учительница из Америки Делия Бэкон (с 1852 г.). «Ни один человек, покойный или ныне живущий, – восклицала она в своем письме Н. Готорну, – не оскорблял меня так своими противоречиями. Он так опозорил гениальность и науку, что я была не в силах ни у кого требовать, чтобы они хоть что-нибудь изучали (из его творчества)». Она тщательно исследовала работы всех выдающихся творцов той эпохи. И пришла к выводу: «шекспировские» пьесы написаны группой лиц, движимых некой единой целью, как сказали бы в театре некой сверхзадачей. Среди них она называла Фрэнсиса Бэкона, сэра Уолтера Рэли, Эдмунда Спенсера и несколько других «высокорожденных умов и поэтов» (Уоллес И.).[179] Внесли свою лепту в дискуссию и российские ученые. Ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН И. Гилилов отмечал, что серьезный анализ произведений Великого Барда показывает: их автор был не только гениальным поэтом и драматургом, но и глубоко образованным человеком, свободно владевшим иностранными языками, прекрасно знавшим жизнь самой родовитой знати и монархов. Он абсолютно чужд низменным страстям и ростовщичеству. Однако с другой стороны, все известные и документальные факты о человеке, уроженце Стрэтфорда-на-Эвоне, известном под именем Уильям Шакспер (именно так писалось в документах его имя) говорят совершенно о другом человеке. Шакспер никогда и нигде не учился, все члены его семьи (включая детей) были неграмотны! Не существует ни единой строчки, написанной его рукой. В тщательно составленном завещании Шакспера перечислено все имущество (до мелочей) и деньги (до пенсов). Однако в этом списке вовсе нет рукописей или книг, хотя в те времена они стоили недешево. Наконец, известно, что он продавал солод, скупал земли, не брезговал даже правом на сбор церковной десятины с продаж сена, ссужал деньги под проценты, а должников жестоко и неумолимо преследовал по судам. Так кто же на самом деле написал эти дивные произведения, вот уже четыре столетия потрясающие людей?[180] Российский ученый выяснил, что имя «Шекспир» является псевдонимом или маской, за которой наряду с Роджером Мэннерсом (5-м графом Рэтлендом) скрывались и поэты его круга. Портрет Р. Мэннерса и сейчас можно увидеть в родовом замке Рэтлендов в Бельвуаре (графство Лейстер). Чем было вызвано создание такой маски графом и поэтами его круга, догадаться не трудно. И дело все-таки, полагаю, не в желании посмеяться над читателями, хотя излюбленным обращением к ним в елизаветинскую эпоху и было приветствие: «К идиотам-читателям». Мы уже говорили о том, какая судьба постигла Т. Мора, равно как и других знатных и уважаемых граждан. В те времена обращение к слову, а уж тем более столь масштабное и гениальное творчество было делом крайне небезопасным. Р. Мэнннерс закончил Кембридж и получил диплом магистра искусств. Затем он отправляется в Европу продолжить свое образование (Нидерланды, Германия, Италия, Швейцария, Франция). В Падуанском университете однокашниками графа Рэтленда-Мэннерса становятся двое студентов из Дании – Розенкранц и Гильденстерн (затем они перекочуют в текст «Гамлета»). Он принимает участие в морской экспедиции Эссекса против испанцев, где эскадра попадает в шторм (стихотворения «Шторм» и «Штиль»). В походе вместе с ним участвовал и поэт Дж. Данн. Рэтленд-Мэннерс (Шекспир) не оставляет учебы, при этом особенно усердно овладевая латынью, греческим, древнееврейским, несколькими европейскими языками. В 1599 г. он женится на Елизавете Сидни. Поэзия Шекспира переливает красками, как перья павлина (павлин венчал и родовой герб Мэннерсов). Его жизнь и дружба с семейством Сидни, главенствовавшим тогда на поэтическом Олимпе Англии, стала не только примером священного духовного союза, но и неким назиданием. Мы не раз говорили и будем говорить о холодности и бессердечии англичан. Но англичанин англичанину рознь. Перед нами жив пример Шекспира и его жены, Елизаветы Сидни, которая была умна и хороша собой и которая в 27 лет принимает обет уйти из жизни вместе с мужем, хотя их брак и носил платонический характер. И когда Шекспир (Роджер Мэннерс) умер, она почила через месяц после его смерти, тайно приняв яд. А ведь это была талантливейшая поэтесса, которую современники величали Фениксом английской поэзии. Вероятно, их и похоронили вместе, как шекспировских героев Ромео и Джульетту. В Соборе Святого Павла в Лондоне сегодня нет места, где покоится прах великого Шекспира, но это и не важно. Его прах развеян над земным шаром. Видимо, он не случайно когда-то назвал создаваемый им театр – «Глобус». Возглашаем антифон: Не менее важно ответить на вопрос: «А почему вообще стал возможен Шекспир?» Его появление стало возможным благодаря богатству Лондона и возникновению слоя процветающих горожан. Горожане, обладая довольно высокой культурой, нуждались и в театральных постановках. Эти постановки не только развлекали их, но и выполняли культурно-информационные функции. В Англии отношения между писателями и драматургами, с одной стороны, и классом капиталистов, с другой, никогда не были идеальными. И все же налицо взаимный интерес. Богатые члены лондонского сообщества активно участвовали в процессе подготовки различного рода процессий, спектаклей, церемоний. К этому их побуждали требования конкуренции и престижа: нужно было превзойти соперников и затмить их. Скажем, одна из самых дорогих постановок времен Шекспира (1613) обошлась организаторам в немалую для того времени сумму (свыше 1300 фунтов стерлингов).[182] Шекспиру под стать был и упомянутый Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Отец, сэр Николас – хранитель большой печати Англии (второй по значению пост в государстве). Мать Бэкона владела древнегреческим и латынью. Юноша три года учился в кембриджском Тринити-колледже. В 16-летнем возрасте, желая видеть его дипломатом, Бэкона отправляют в составе миссии в Париж. Выполняя ряд дипломатических поручений, он знакомится с жизнью Италии, Испании, Германии, Дании, Швеции, Польши. Затем его назначают старшиной юридической корпорации. Идея to sit in judgment (англ. «быть судьей»), скажем прямо, его не особенно вдохновляла. Постами он не был обделен (адвокат, генеральный прокурор, хранитель печати и государственный канцлер). Находясь на премьерском посту (1618), Бэкон не сумел удержаться от соблазнов. Даже философу трудно порой удержаться на краю бездны, именуемой «алчность». Став членом парламента, он стал жить на широкую ногу, беря взятки. На него накопился такой компромат, что английский король уже не мог терпеть. А так как короли в Англии были в те времена еще независимы, они могли бороться с коррупцией. Король не стал угрожать прокурору, а арестовал первое лицо (премьер-министра страны). Будучи прижат к стенке, Бэкон признался в 23 случаях коррупции. Его удалили от двора, приговорили к штрафу в 40 тысяч фунтов стерлингов и даже (на два дня!) поместили в Тауэр (видно, для острастки). Придется отделить личные качества этого человека от его роли как ученого. Как человек он, мягко выражаясь, несовершенен. В тяжкую годину его жизни граф Эссекс, друг Бэкона и королевский фаворит, много сделал для него. Он даже подарил ему поместье в Твикнем-парке (в качестве материальной поддержки). Но когда Эссекс уйдет в немилость и будет отстранен от власти, никто иной как королевский адвокат Фрэнсис Бэкон обвинит его в обдуманном и злонамеренном заговоре. Это закончится казнью бывшего друга. Мало того. Он напишет подлую обвинительную «декларацию», тут же обнародованную правительством. И этот жалкий лицемер, что turns King`s evidence (выдав, стал свидетелем обвинения), еще не стесняется оставлять в назидание потомству светлый афоризм: «Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести». Предатели, как видите, существовали во все времена. И даже, как видим, были порой весьма неглупыми людьми. Сей пример из жизни высших чиновников Британии наглядно показывает всё их двуличие и лживость. Справедливую характеристику дал Лоран Бэкону английский поэт Александр Поп: «The wisest, greatest, meanest of mankind!» (англ. «Мудрейший, величайший, подлейший из людей!»). Ф. Бэкон носил пышный титул лорда Веруламского, хотя правильнее было бы назвать его лорд Вероломный! Неужто прав был другой английский поэт и романист Дж. Мередит, когда в одном из своих сонетов сказал: «Предательство живет в нас изначально»?!  Фрэнсис Бэкон. В Бэконе сочетались типичные качества британца, создавшие славу и позор Британской империи (проницательный ум, решительность, энергия, лицемерие, коварство, низость). Его судьба еще раз подтверждает справедливость мнения, что во многих из нас живут the idols of the cave (англ. «призраки пещеры», т. е. заблуждения, предрассудки). Если так, то, полагаю, возможен риторический вопрос: «Что оправдывает существование умного негодяя?» Если уж нельзя иначе, если время оказывается сильнее, то, вероятно – лишь неутомимый труд во славу науки и культуры отечества. Тут уместно вспомнить и слова Вольтера, сказанные им в адрес Бэкона: «Он такой великий человек, что невольно забываешь его недостатки».[183] Ф. Бэкон особое значение придавал прогрессу разума, развитию науки и образования. Там, где их роль велика, сохраняются мир и союз. Когда же они деградируют, все впадает «в анархию и смятение». С их крахом разрушается и государственная основа. Он пишет: «Но это становится еще более очевидным, когда сами цари, владыки или магнаты оказываются людьми образованными. Ведь хотя, может быть, и кажется слишком пристрастным тот, кто сказал: «Только тогда государства будут благоденствовать, когда философы станут царствовать, или цари станут философами», однако по опыту известно, что под властью образованных правителей государства переживали самые счастливые периоды своей истории. Да и сами сенаторы и советники, если они образованны, опираются на более прочные принципы, чем те, которые руководствуются только практическим опытом. Ведь образованные люди заранее видят опасности и вовремя их предупреждают, тогда как необразованные видят их, только вплотную столкнувшись с ними, замечают только то, что им непосредственно угрожает, пребывая в уверенности, что, если будет нужно, они сумеют благодаря своей смекалке выбраться из самой гущи опасностей».[184] Тут он прав. Народ должен выбирать себе в вожди образованных людей. Фрэнсиса Бэкона относят к «поздним гуманистам». Вера в разум и справедливость, еще присущая Т. Мору, покидает Бэкона. Его совершенно не интересуют вопросы нравственные, вопросы социальной справедливости. «Новая Атлантида», написанная им в старости (ему уже за 60 лет), отражает итоги долгого жизненного опыта. Они не очень-то обнадеживающи. Его отправили в отставку. Под видом описания утопического государства он предлагал читателю новую систему воспитания и образования. Как заметил английский ученый А. Мортон, здесь «в сущности, излагается программа государственного колледжа экспериментальных наук». Описываемый Ф. Бэконом Бензалем – это обычная монархия, ортодоксального типа, где всем и вся заправляют король, его обслуга и чиновники. Все в государстве (кроме властителей и правящей элиты), заняты земледелием. Знания обретаются в школах, практические навыки – на полях. Каждый изучает лишь одно ремесло. Впрочем, желающие могут расширить круг своих навыков и познаний. Большинство (в свободное от работы время) имеет возможность заниматься науками. В качестве главного управляющего предлагается элитарная «коллегия Соломона». Обитатели Бензалема должны слепо ей повиноваться. Философ надеялся трактатом вновь привлечь благосклонное внимание короля Якова, считавшего себя добродетельным, и заигрывавшим с евреями-финансистами. Те обожали, когда их называли «Соломонами своего века». Трудно ожидать от безнравственных и подлых (хотя и умных) людей нормального воспитания будущих поколений. Теккерей дал Ф. Бэкону такую характеристику: «Бэкон сносил грубое обращение знатных, и в свою очередь, подобно школьнику, передающему значок нарушителя дисциплины следующему провинившемуся, грубо обращался с людьми, стоящими ниже его». И все же значение Бэкона велико. Дело не только в том, что он дал науке «несравненную рекламу». Ему принадлежит заслуга начертания плана ее развития. Его по праву считают, наряду с Р. Декартом, основателем систем современной науки и философии. Позже Дидро, излагая цели и программу энциклопедистов, отметил его огромный вклад в развитие наук: «Если мы смогли достичь этого, то нашему успеху мы обязаны главным образом канцлеру Бэкону, который набросал план всеобщего словаря наук и искусств в те времена, когда, в сущности, ни тех, ни других не было. В те времена, когда еще было невозможно написать историю того, что было известно, этот необычайный гений написал историю того, что еще предстояло изучить».[185] Фрэнсиса Бэкона считают одним из первых натурфилософов, объявивших эмпиризм главным «делом философии». Правда, его взгляды на науку как на «дитя революций» не совсем отвечают историческим реалиям. Величайшие открытия действительно часто содержат в себе мощный революционный заряд, но ограничивать процессы познания одними лишь революциями и гениями нельзя. В этом случае может быть несправедливо забыт ценный труд тех, кто работал в тени великих людей, да и в более мирные эпохи. Кому двигать мировую науку далее, если вдруг наблюдается нехватка гениев? При таком раскладе у истории нет ни прошлого, нет будущего. А это крайне печальное и опасное заблуждение. Согласно такому подходу, как писал Дж. Агасси в «Науке и обществе», физика начинается лишь в XVII в., химия – в конце XVIII в., оптика – в начале XIX в. При этом ничего не стоит впасть в грех революционного экстремизма. Нечто похожее допустил однажды даже великий Лавуазье, когда он и его последователи пришли к заключению, что вся химия, существовавшая до него, была основана «на одних лишь предрассудках». В итоге же, мадам Лавуазье торжественно сожгла труды Шталя, предшественника Лавуазье и выдающегося химика. Подобного рода примеры можно будет встретить и в истории современной науки (хотя бы и в советской России). Автору ближе идея Пьера Дюгема, сторонника континуалистской концепции развития науки. Согласно этой концепции, каждое достижение науки может и должно быть модифицировано, подвергнуто пересмотру (даже учение Ньютона). Хотя Дэвид Юм и считал, что учение Ньютона будет оставаться неизменным до скончания времен. Эйнштейн же подтвердил правоту Дюгема.[186] Если Бэкон был «головой» новой английской науки, то Уильяма Гарвея правильнее было бы назвать ее «сердцем». У. Гарвей (1578–1657) родился в семье кентского иомена, который с помощью торговли нажил приличное состояние. Гарвей – один из десяти детей. Известно, что в Кембридже он изучал классиков, философию и медицину. Получив степень бакалавра, он должен был уехать в Европу, ибо только во Франции и Италии процветали медицина с анатомией. Гарвей посетил Францию, Германию, а затем поступил учиться в Падуанский университет, где преподавали такие светила анатомии как Везалий, Фаллопий, Коломбо, Фабриций. Здесь он получил степень доктора медицины и право на преподавание во всех странах и учебных заведениях. Гарвей начал практиковать как врач в Лондоне (1609). Ему покровительствовали лорд-канцлер Ф. Бэкон, а затем король. В 1623–1625 гг. его назначили придворным медиком (при Якове и Карле). Карл I был человеком образованным и помогал ему, чем мог (доставлял животных для вскрытии и вивисекций, присутствовал на опытах, защищал от нападок). Гарвей чурался политики. Но в начале революции, граждане Лондона, которых он терпеливо, усердно лечил, разграбили его квартиру. Погибли его рукописи (плод сорокалетних трудов). В 1615 г. ему предложили кафедру анатомии и хирургии в Колегии врачей, а в 1616 г. он уже излагал свои взгляды на кровообращение. В этой связи интересно вспомнить, что Шекспир (умер в 1616 г.) уже намекал на существование кровообращения. К примеру, Брут говорит Порции (в «Юлии Цезаре») о каплях крови, «что движутся в моем унылом сердце», а обретающий дар речи живот (в «Кориолане») бурчит: «Не забудьте, что пищу ту я шлю вам вместе с кровью, что чрез нее и мозг и сердце живы, что от меня вся сила человека». Мысль о кровообращении возникла у Гарвея, видимо, еще в Италии. «Я преподавал и изучал анатомию не по книгам, а рассекая трупы, не по измышлениям философов, а на фабрике самой природы», – скажет он. Его предшественником был Гален, считавший, что кровь движется по венам от сердца и не ведавший, что кровь из артерий переходит в вены и возвращается в сердце. В одном Гален был глубоко прав: в организме человека действительно есть два рода крови – «грубая» и «одухотворенная» (с точки зрения поэзии и мудрости это, вероятно, так). И они крайне редко смешиваются. Более того. Два типа крови в конечном счете и весь род человеческий делят на два различных класса людей. Вскоре вышло его «Анатомическое исследование о движении сердца и крови в животных» (1628). Тем самым тайна природы кровообращения была открыта. М. А. Энгельгардт пишет: «Если Гарвею удалось реформировать физиологию, то эти он обязан своему методу… Он не только открывал новые физиологические явления; он преподавал самые приемы научного мышления. То, что его современник Бэкон проповедовал на словах, Гарвей проповедовал на деле. Первый рассуждал о необходимости индуктивного метода; второй ввел его в науку жизни». В своей работе он опирался и на труды древних мыслителей, ученых и поэтов (Аристотель, Гален, Вергилий). Он хорошо был знаком со многими светилами того времени (Бэкон, Гоббс, Коули, Драйден и др.). Известно, что Драйден и Коули писали в его честь стихи. Гарвей не мог не оценить по достоинству ума и остроумия Бэкона, хотя и говорил, что тот «пишет о философии, как лорд-канцлер». Он и сам был остроумным собеседником. «Когда послушаешь нашего Гарвея, – говорил Веслинг, – поневоле поверишь в обращение крови». На свои деньги он выстроил дом для Лондонской коллегии врачей, где поместил библиотеку. Буквально до последних дней он, как говорится, дышал его любимой наукой.[187] 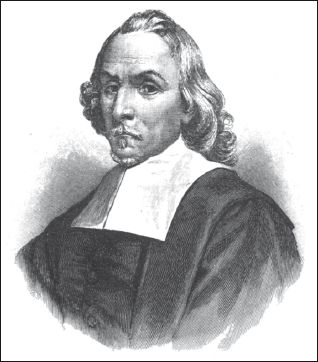 Уильям Гарвей. Крупнейшим европейским материалистом XVII в. предстал английский философ-эмпирик Томас Гоббс (1588–1679). Он явился на свет, как мы бы сказали, в «разночинной» семье (мать – крестьянка, отец – рядовой священник). Ходил в церковную и городскую школы. К 14 годам он так основательно овладел древними языками, что смог перевести на латынь «Медею» Еврипида, а в 15 лет Томас уже поступил учиться в Оксфордский университет, который с успехом закончил. У него остались не лучшие воспоминания о схоластической манере преподавания. Поэтому, признавая полезную роль университетов, он нередко критиковал методы обучения. Университеты Англии представляли собой консервативные учебные заведения. Математика считалась «черной дьявольской наукой». Естественные науки делали только первые шаги. Гоббса рекомендовали гувернером в одну из самых знатных семей Англии. Это давало возможность совершенствоваться в науках и языках. Гоббс, переводит «Историю пелопоннесской войны» Фукидида. Цель перевода – осмыслить опыт древних народов, чтобы избежать в будущем повторения трагических ошибок. Знание прошлого помогает найти верную дорогу. Как скажет впоследствии Карлейль: «Ничто так не научает, как сознание своей ошибки». Гоббс много путешествует, проведя более двадцати лет во Франции, Италии, Германии. Встречается с Галилеем, Декартом, Гассенди. Все это время занимается философией («единственная вещь, которая требовала от меня верности ей»). Он принадлежал к породе людей, о которых англичане говорят как о self-made-man (англ. – «человек, всем обязанный самому себе»). Такие люди не привыкли рассчитывать на покровителей. Гоббс с головой окунулся в политику: в споре короля с парламентом он занял сторону первого. Карл II, «душка Чарли» – прилежный, но не очень талантливый ученик великого мыслителя. Урокам и умным беседам он предпочитал хороших лошадей. (Правда, с той эпохи Англия всерьез полюбила скачки). Не очень хорошо складывались отношения Гоббса с парламентом. Тот провел реформы, ограничившие королевскую власть. При этом некоторые министры были объявлены государственными преступниками, а граф Страффорд обвинен в государственной измене и казнен. Пришлось и философу задуматься над своей возможной судьбинушкой. 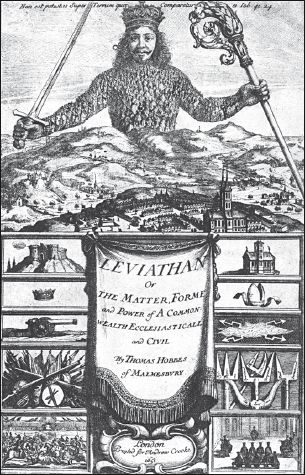 Символическое изображение Левиафана. Гоббс бежит в Париж, где работает над книгами – «О гражданине» (1642), «О теле» (1655), «О человеке» (1658). В «Левиафане» изложены вопросы политической теории и государства. Государство представлено как бы в виде «искусственного человека». Одновременно рассматривается и «материал, из которого он сделан». Из книги Гоббса многие будут черпать материал для своих теорий и размышлений. Она многих сделает «государственниками». Впрочем, и враги государства обрушились на Гоббса с острой критикой. Ведь он осмелился написать о том, что людям свойственно терять человеческий облик во время гражданской войны. Не пожалел он и правителей, сказав, что те живут в постоянной вражде друг с другом, снедаемые жесточайшей и непрерывной завистью («короли и лица, облеченные верховной властью»). Книга сразу попала в число запрещенных работ. Вот как говорилось о ней в печати: «В Лондоне опубликована книга, и была она прочитана великими и учеными мужами, и стала она известной, называясь ужасным именем – «Левиафан». Какова главная ее идея? Конечно же, не в расхожем определении, что в естественном состоянии «человек человеку волк» (Homo homini lupus est). Это было известно и ранее. Ну а если, как скажет позже О. Мандельштам, «не волк я по крови своей»? Хотя для читателя, окунувшегося в мрачно-апокалипсические реальности нынешних будней, думаю, понятен призыв философа к сильной и справедливой власти. Наилучший образец власти в подобные смутные времена – просвещенная диктатура, даже если это и связано с известным риском. Почему Гоббс выступил сторонником авторитарной власти? Потому что он считал, что большим государством только так и можно эффективно и хорошо управлять. Он сравнивал рассредоточение власти в руках многих с положением, как если бы верховная власть «находилась в руках малолетнего». При авторитарной власти правитель (если, конечно, он смел, умен, образован) вынужден стремиться к благоденствию народа, ибо ведь и его положение обусловлено богатством, силой и славой подданных. При демократическом или аристократическом правлении такая возможность чаще всего отсутствует. Там любой корыстолюбивый или честолюбивый государственный деятель, как правило, scoundrel («негодяй»). Его главная забота – обеспечить правдами и неправдами свое собственное благополучие, а не благосостояние народа. В своих рассуждениях Гоббс не мог обойти молчанием пример Голландии. Что бы там ни говорили, а та выглядела привлекательнее всем известной деспотической монархии. Он пишет: «И я не сомневаюсь, что многие люди были бы рады видеть недавние смуты в Англии из желания подражать Нидерландам, полагая, что для увеличения богатства страны не требуется ничего больше, как изменить, подобно Нидерландам, форму правления. В самом деле, люди по своей природе жадны к переменам. Если поэтому люди имеют перед собой пример соседних народов, которые к тому же еще разбогатели при этом, то они не могут не прислушиваться охотно к тем, которые подстрекают их к переменам. И они рады, когда смута начинается, хотя горюют, когда беспорядки принимают затяжной характер, – аналогично тому как нетерпеливые люди, заболевшие чесоткой, раздирают себе (тело) своими собственными ногтями, пока боль не становится нестерпимой».[188] Позволю себе тут заметить, что указанные слова Гоббса полностью ложатся на пример ельцинской России, где огромные массы людей точно так же решили, что достаточно им перенять образ правления «демократических и цивилизованных» государств США и Западной Европы, как они тут же разбогатеют в результате этих перемен и станут жить, как у Христа за пазухой. К счастью, период этого «либерально-демакратического» безумия почти закончился и наступило отрезвление здоровой части общества. Хотя ведь и Британия демонстрировала главенство буржуа над королевским абсолютизмом! Сменились не только формы власти – изменился правящий класс. Центром и арбитром в стране стал Парламент. Формально первым европейским парламентом считался исландский (тинг-альтинг), но англичане закрепили в сознании мира и Европы образ разумной парламентской республики. Так что в общепринятом понятии «свободы», если внимательно присмотреться, на самом деле масса деталей от костюма англицкого покроя. Главной задачей демократического правления является защита граждан (их жизни и собственности) от действий бандитов и корыстных преступных политиков. Это достигается законом, а также свободой слова. Вспомним слова Цицерона: «Мы истинно свободны, когда мы сохранили способность рассуждать самостоятельно, когда необходимость не заставляет нас защищать навязанные и, в некотором роде, предписанные нам мнения». Гоббс говорит: «И чинимые ими (авт. – знатью) насилия, притеснения и обиды не смягчаются, а, наоборот, усугубляются высоким положением этих лиц, ибо они меньше всего совершают это из нужды. Последствия лицеприятия по отношению к знатным людям развертываются в следующем порядке. Безнаказанность рождает наглость, наглость – ненависть, а ненависть порождает усилия свергнуть всякую притесняющую и наглую знать, хотя бы и ценой гибели государства. К равномерной справедливости относится также равномерное налоговое обложение, равенство которого зависит не от равенства богатства, а от равенства долга всякого человека государству за свою защиту… И если многие люди вследствие неотвратимых случайностей сделались неспособными поддерживать себя своим трудом, то они не должны быть предоставлены частной благотворительности, а самое необходимое для существования должно быть им обеспечено законами государства… Иначе обстоит дело с физически сильными людьми, ибо таких надо заставить работать, а для того чтобы такие люди не могли отговариваться отсутствием работы, необходимо поощрять всякого рода промыслы, как судоходство, земледелие, рыболовство и все отрасли промышленности, предъявляющие спрос на рабочие руки».[189] Гоббс убедился, как трудно быть пророком в своем отечестве. Он вынужден бежать во Францию, опасаясь преследований со стороны Долгого парламента. Вернувшись на родину в годы Реставрации, он увидел, что и власть королей ничуть не лучше. Несмотря на то он пару лет обучал математике будущего короля Карла II, тот, наградив его пенсией в 100 фунтов стерлингов в год, забывал ее выплачивать. Палата общин создала специальный комитет, чтобы исследовать атеистические работы, куда включила и работы Гоббса (не зря он обозвал свою злую работу о парламенте «Бегемотом»). «Бегемота» печатали за границей. Собрание сочинений появилось в Амстердаме (1668).[190] А как повели себя английские ученые мужи? Вскоре после смерти Гоббса иные умники из Оксфордского университета не постеснялись выпустить суровый декрет против «некоторых вредных книг и достойных осуждения ученых, которые подрывают авторитет священных особ монархов, их правительства и государства» (1682). В документе осуждались те стороны теории Гоббса, где сказано о зависимости власти от народа и о том, что всякая власть корнями своими уходит в волеизъявление нации: «Глас народ – глас Божий?» Их кредо было иным: свобода и право существуют только для них, избранных. Демократия – всего лишь удобная ширма, за которой можно скрывать преступления или обычную трусость. Поэтому они и плетут заговоры против народов. Книги Гоббса «Левиафан» и «О гражданине» были преданы сожжению в цитадели науки и свободы – в Оксфордском университете (под аплодисменты профессуры). Хотя в это трудно поверить (как? в Англии!?). Счастье еще, что, как говорится, littera scirpta manet (написанное остается). Ученые мужи лишь подтвердили высказывание Д. Локка: «Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими духовными задатками; в людях, не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще более глупыми и дурными». При всех своих недостатках люди народа нам ближе и понятнее. Образы таких вот пуритан-англичан запечатлел Вальтер Скотт в лице Аввакума Многогневного и Джона Берли в одноименном романе. Здесь впервые заговорили народные массы. Заговорили как проповедники, солдаты, учителя. Их трибуна – не университетская или церковная кафедра, а на открытое поле, в стане восставших. А это, как говорят в Шотландии, а far cry (огромная разница) по сравнению с парламентской трибуной, с которой выступали буржуа. Иначе звучат и речи… «Речь Многогневного была в такой же мере дикой и несообразной, в какой неожиданным и несвоевременным было его вторжение на трибуну, но она била в самую точку, так как поднимала больные вопросы, обсуждение которых, с общего согласия, предполагалось отложить до более благоприятной поры».[191] Fiat justitia… (лат. «Да свершится правосудие»). Страсть и искренность восставшего народа выше воспитания и культуры. Консервативные пресвитерианцы выступали за введение строгой цензуры на печатные издания. При иных обстоятельствах известная доля строгости и пуританизма жизненно необходима для общества. Важно чувство меры. В Англии философов, отстаивавших принцип свободы и независимости, энергично поддержали литераторы. Воздадим должное светлой памяти английского первопечатника Уильяма Кекстона(1422–1491). Благодаря ему идеи свободомыслия, науки, культуры нашли в Англии материально-экономическую опору. «Презренный металл», будучи вырван из рук ростовщиков-иудеев, обретал в Англии легитимность, ореол почитания и благочестия, явившись в пуританско-реформаторских одеждах. Последовательным защитником свободы слова и печати выступил великий английский поэт Джон Милтон (1608–1674). Родился он в Лондоне, где и пройдет вся его жизнь, в семье состоятельного нотариуса. Отец был не чужд знаний и талантов. Атмосфера, царившая в семье, заметно ускорила духовное и интеллектуальное развитие юноши. Здесь любили литературу, звучала музыка (отец играл на органе и скрипке, сочинял мадригалы. Милтон учился упорно и настойчиво. Он писал: «Жажда знаний была во мне столь велика, что, начиная с 12-летнего возраста, я редко когда кончал занятия и шел спать раньше полуночи». О годах своего детства (устами Христа в «Возвращенном рае») он скажет: И будучи ребенком, не любил Он посещает лучшую лондонскую школу того времени (при соборе св. Павла). Здесь царит культ знаний. Повсюду латинские надписи типа: «Ingredere ut proficias» («Начни, дабы принести пользу»). Наиболее краткая и внушительная: «Либо учить, либо учиться, либо уйти». Директором тут был известный гуманист У. Лилли. Порядки в школе строгие. Учат латыни, греческому, древнееврейскому, восточным языкам. В 16 лет Милтон стал студентом Кембриджа. Если Оксфорд слыл цитаделью англиканских убеждений, то Кембридж считался центром пуританизма. Студенты распределялись по 16 колледжам, и Джон Милтон попал в «Колледж Христа». Трудно сказать, чего еще рассадником был тогда почтенный Кембридж, но Милтона поселили в грязноватом здании со зловещим названием – «Крысиный зал». Через 4 года он стал бакалавром, а спустя еще 3 года – магистром искусств. Для преподавания в университете пришлось бы надеть рясу (таковы были правила). Его это не прельщало. Милтон укрылся в поместье отца в Хортоне и весь отдался литературе (первые стихи написаны в 15 лет). В 1638–1639 гг. он посещает Италию – родину итальянских гуманистов. Штудирует и философию, говоря: «Божественная философия! Ты не сурова и не суха, как думают глупцы, но музыкальна ты как лютня Аполлона! Отведав раз твоих плодов, уже вечно можно вкушать на твоем пиру тот сладостный нектар, от которого нет пресыщения».[192] Его пуританская натура рвется из Италии домой, к родным берегам. Ведь, на родине, в Англии, назревают серьезные события. Страна гудит, как растревоженный улей. Грядет битва за свободу. «Я считал, что было бы низко в то время, когда мои соотечественники боролись за свободу, беззаботно путешествовать за границей ради личного интеллектуального развития». Милтон спешно возвращается в Англию, где начинает выступать с острыми памфлетами против господствующей англиканской церкви. Его талант сравнивают с гением, что может «высечь колосса из гранитной скалы». Занимаясь воспитанием племянников, он работает над трактатом «О воспоминании» (1644). Вскоре ему пришлось окунуться в гущу действительности. Пуритане-пресвитерианцы приняли в парламенте закон о введении строгой цензуры на печатные издания. Милтон отвечает «Ареопагитикой, или Речью о свободе слова». Свобода слова рассматривается как важнейший принцип демократии. Как же можно «убивать» книгу?! «Убить книгу – почти то же, что убить человека, – писал он. – Тот, кто уничтожает книгу, убивает самый разум… многие люди живут на земле, лишь обременяя ее, но хорошая книга есть жизненная кровь высокого разума». Таково его понимание роли книги в жизни человека и общества. Пушкин скажет: «Милтон, друг и сподвижник Кромвеля, суровый фанатик, строгий творец… Тот, кто в злые дни – жертва языков, в бедности, в гонении и слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный рай». В трактате «Обязанности королей и магистратов» Милтон доказывает, что источник подлинной свободы – народ. Народ может избрать правителя, либо его отвергнуть («поставить его или сместить»). Когда суверен заботится не о нуждах народа, а лишь о себе и своих приближенных, народ обязан призвать его к ответу (и даже казнить). Революции нужен был такой просвещенный, умный, честный и энергичный человек. В итоге, 13 февраля 1649 г. его назначают Секретарем Республики по иностранным делам. Разве не так же два с половиной века спустя молодая Советская республика призвала заниматься иностранными делами образованнейшего Г. В. Чичерина?! Милтон не щадит себя, работая днем и ночью. Он переводит Декларацию об установлении республики, текст которой вскоре разошелся по миру. Английские революционеры понимали: революция должна уметь себя защищать. И не только огнем пушек, но и сильным, разящим словом. Государственный Совет приказывает президенту Брэдшоу: «приготовить акт, запрещающий печатать бранные и оскорбительные памфлеты против республики». 20 сентября 1649 г. учрежден Акт о печати, требовавший строгого контроля над газетами и информационными листками. Милтон поставил дело так, что стоеросовой цензуры не было («цензоры согласно этому акту не назначаются, так что каждый может публиковать свою книгу без разрешения цензуры, при условии, что имя печатника или автора будет указано, если это понадобится»). Говори правду, но не смей клеветать и лгать, ибо можешь понести за это наказание!  Джон Милтон. Представляется и сегодня нелишним выступить в защиту умной и честной печати, дав всего лишь один отрывок из милтоновской «Ареопагитики (О свободе печати)». Вот что он пишет: «…Итак, видя, что те многочисленные книги, которые якобы оскверняют и жизнь, и веру, нельзя запретить без ущерба цивилизации и свободного мнения; что всякого рода книги чаще и прежде всего попадают в руки людей ученых, которые могут передать остальным все, что в них есть еретического и порочного; понимая и то, что дурные навыки распространяются и без книг тысячью других способов, которые невозможно устранить, да и ложные учения могут проповедоваться помимо книг, ибо их сторонники могут обходиться и без печатных сочинений и таким образом пренебрегать запрещениями, – сознавая все это, я отказываюсь видеть в этой хитроумной затее с цензурою что-нибудь еще кроме повторения старых, тщетных и бессмысленных предприятий. И, право, трудно тут удержаться от забавного сравнения с тем господином, который запер ворота своего сада, надеясь таким способом переловить в нем всех ворон… И потом, если справедливо, что умный человек, подобно хорошему старателю, умеет добыть золото из самой пустой книги, тогда как дурака не исправит ни самое лучшее чтение, ни совершенное отсутствие оного, – то для чего же нам лишать умного возможности обнаружить свой ум, в то же время заботясь о глупце, которого эта мера никак не избавит от глупости?»[193] Как тут не вспомнить известный афоризм, сказанный некогда в нашей в России: «Пусть пишут, дабы глупость каждого была видна». Показателен и один из милтоновских сонетов, выразивших его позицию (сонет «Новым гонителям свободы совести при Долгом парламенте»): Как смелы вы, кем требник запрещен Каковы его взгляды на характер власти и того общественного строя, что утвердился в Англии в результате революции? Он был яростным сторонником «Доброго Старого дела», имея в виду всю гамму пуританских и индепендентских ценностей. Конечно, он восхищался Кромвелем, другими вождями Республики несмотря на то, что те разогнали парламент, где заседало «охвостье». Милтон уверен: это отвечало коренным интересам английского народа и революции в то время. Несмотря на слепоту (сказались годы тяжкой, неусыпной работы), Милтона оставляют на посту секретаря. Тем не менее в парламенте и Совете («собранье развратителей») он предпочитал редко бывать. Наихудшие опасения поэта подтверждались. Новые правители стали обогащаться, ударились в соблазны и роскошь. Милтону ясно: ни элита, ни народ не отвечают требованиям времени. Что делать? Просвещать тех и других. Сама Реформация нуждается в реформе. Необходимо написать еще более убедительную книгу, нежели «Защита английского народа». Нужно предостеречь народы против власти ловких демагогов. Он терпеть не мог «грубое большинство, шумливое и кричащее», однако не идеализировал и либеральное охвостье. Массам необходимо хорошее воспитание, культура, образование. «Чтобы сделать народ пригодным выбирать, а избранных – пригодными управлять, – диктует он (зрение покинуло его), – необходимо исправить наше испорченное и никуда не годное образование, учить людей вере в сочетании с добродетелью, умеренностью, скромностью, рассудительностью, бережливостью, справедливостью, учить его не восхищаться богатством или почестями; ненавидеть буйство и амбиции; ставить каждому свое личное благосостояние и счастье в зависимость от всеобщего мира, свободы и безопасности». Он требует повсеместного создания школ и академий для детей из всех слоев общества.[194] Английские мыслители оставили заметный след и в педагогике. Философ Джон Локк (1632–1704) – бесспорно ярчайшая фигура, подлинный основатель английского Просвещения… Джон появился на свет в семье адвоката, придерживавшегося строгих взглядов на воспитание детей. В 15 лет его посылают в Вестминстерскую школу Лондона. В школе Локк изучал классические языки (латынь, греческий, древнееврейский). Учеба тогда была делом не простым: учебный день начинался – в 5.15, в Оксфорде – в 5.00, в классах частенько пороли. О том, что представляло собой тогдашнее обучение, писал и сам Локк, говоря о Вестминстере как о «суровой школе». Он советовал Э. Кларку направить своего непутевого сына в одно из таких «богоугодных заведений», где его как следует выпороли бы, дабы тот «впоследствии, возможно, проявил больше склонности и желания учиться дома». Его заветной мечтой было поступление в университет Кембриджа или Оксфорда. Он получил на конкурсной основе стипендию в 20 фунтов, что дало ему возможность поступить в колледж Крайст Черч в Оксфорде. Изучая историю, философию, языки, ботанику, химию, медицину, он стремился объять необъятное (в его библиотеке – 3600 книг, 402 – медицинские и 240 – научные). Локк стал старшим преподавателем колледжа, отдав свое сердце студентам. Родители и оба брата умерли. Жениться так и не удосужился. Дальнейшая его жизнь связана с педагогической деятельностью: учитель в семьях знатных вельмож. Локк воспитывал детей, наблюдал за их здоровьем, учил их чтению. Авторитет его школы рос быстро. Если во взглядах Гоббса есть нечто от английского шкипера, укрощающего корабль в волнах океана, то Локк – прагматик свободного толка, дающий разуму право выбора. Он придавал большое значение «реальному обучению»: естественнонаучным дисциплинам, стенографии, бухгалтерии («знаниям, требующимся для промышленности и торговли»), наряду с изучением истории, этики, права. Локк подчеркивал важность занятий историей, «так как никто не учит и ничто не восхищает так, как история». Искусство воспитания и обучения непременно должно способствовать укреплению в человеке системы нравственности, гражданских начал, подлинного ars vitae (искусства жизни). «Мысли о воспитании» (1693) – важный документ образовательного кодекса. К ребенку нужно подходить строго индивидуально, так как «вряд ли найдутся двое детей, в воспитании которых можно было бы применить совершенно одинаковый метод». Локк – противник формальных методов обучения. Они навевают скуку. Он советовал подходить с умом к обучению: «Счастье или несчастье человека большей частью является делом его собственных рук. Тот, чей дух – неразумный руководитель, никогда не найдет правильного пути, а тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не будет в состоянии продвинуться вперед по этому пути». А то о многих людях можно сказать – better fed than taught! (англ. «вырос, а ума не нажил»). Важное дело и воспитание характера: «Обучать мальчика нужно, но это должно быть на втором плане, только как вспомогательное средство для развития более важных качеств. Ищите человека, который знал бы, как можно формировать характер мальчика, отдайте его в такие руки, которые смогут, в пределах возможного, охранить его невинность, любовно поддержать и развивать в нем хорошие начала, мягкими приемами исправлять и искоренять все дурные наклонности и прививать ему хорошие привычки… Это самое главное…»[195] «Мысли о воспитании» Локка ставят в один ряд с: «Воспитателем» Томаса Элиота (1531), «The Scholemaster» (1570) Роджера Эшема, книгами под названием «The Compleat Gentleman», первая из которых была написана Генри Пичемом в 1622 г., а вторая – Жаном Гейяром в 1678 году.[196] Политическая деятельность Локка отмечена взлетами и падениями. В политику его привлек Эшли, граф Шефтсбери, чьим другом и помощником он был. В 1672 г. Шефтсбери стал главой правительства (когда его кабинет пал, Локк уехал во Францию). Вновь в кабинет Локк попал уже в 1679 г. (с тем же Шефтсбери, назначенным лордом-председателем Тайного совета). Позже тот обвинен в заговоре против короля Иакова II и заключен в Тауэр за участие в Монмутском восстании. Шефстбери уехал в Голландию и там умер. Туда же направился и Локк, живя под чужим именем. Он был деловым человеком. Будучи комиссаром торговли и колоний (с 1696 г.), Локк активнейшим образом влиял на внешнюю политику страны, способствовал учреждению Английского банка и ряда частных компаний, проведению денежной реформы, утверждению свободы печати. Таков сей многогранный и необычайный талант, воплотивший лучшие черты английского народа. Локк развил свои идеи в «Опыте о человеческом разуме» (1690), произведении, над которым автор проработал в общей сложности около 20 лет… В книге рассмотрены различные стороны познания. Учение Локка оказало влияние и на Вольтера. Французский философ называл теорию Локка «учением о душе», отведя ей видное место в «Английских письмах». По его мнению, до Локка единственное, чего удалось добиться «резонерам», так это написать «романы души». Локк первый «скромно изложил ее историю», сумев раскрыть человеку его разум так, как «хороший анатом объясняет строение органов человеческого тела». Англия и Локк позволили Вольтеру выйти во всеоружии на битву с католицизмом и Римской церковью. Локк свято верил в нерушимость законов частной собственности. В его понимании они сродни законам природы. Мы не склонны абсолютизировать роль собственности в жизни человека. Тем не менее не стоит и преуменьшать ее организующее, дисциплинирующее воздействие. Далеко не все способны добровольно подняться до сияющих высот Разума. Вероятно, есть доля истины в латинском изречении: «Mens hebes ad verum per materialia surgit» («Тупой ум восходит к истине через материальные блага»). Однако это же справедливо и в отношении любой власти. Она нуждается в кнуте и дамокловом мече. Почти все крупнейшие просветители Европы – сторонники концепции равновесия сил и разделения властей. Поскольку надежд на то, что «закон будет править королем», мало, исполнительную верховную власть нужно жестко ограничить. Англичане сочли, что главное место среди ветвей власти должно принадлежать парламенту (прежде всего Палате общин). А Болингброк заметил: «парламенты – истинные хранители свободы». Жесткую позицию в этом вопросе занимал Локк. Он отдавал пальму первенства законодательной власти, отмечая, что все другие виды власти «проистекают из нее и подчинены ей». Исполнительная же власть (прежде всего ввиду ее огромных полномочий и возникающих в этой связи колоссальных возможностях злоупотреблений) должна быть не только строго подотчетна парламенту, но и может быть изменена и смещена им в случае надобности. Сыны народа, представленные в парламенте, должны «открыто и откровенно разговаривать с правителем». Все ошибки его правления, «какими бы постыдными они ни были, не должны замалчиваться, а, напротив, должны быть открыто обнародованы с тем, чтобы устранить их последствия». Подумать только, англичане 300 лет тому назад уже осмеливались делать то, о чем мы, россияне, сегодня только-только еще робко начинаем говорить! 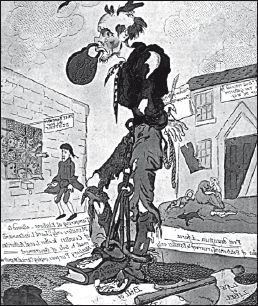 Карикатура на общество английских бюргеров (1819 г.). «Кому живется весело и вольготно в Европе?» Чтобы сдержать короля и помешать злоупотреблениям со стороны его самого и его свиты, парламент обязан «подхлестывать» и чиновников. Локк прямо высказывался в отношении некоторых нерадивых особ: «Если министров и их приспешников будут ожидать не титулы, голубые ленты, ордена Подвязки, дары, пенсии, денежные вознаграждения, должности, конфискованные владения и т. д., а тюремные заключения, штрафы, публичные осуждения за их плохую деятельность, то мы очень скоро увидим совершенно иной стиль работы».[197] Учение Локка воскресило идею цельного человека Возрождения, придав ей в том числе и новое терминологическое значение. Как писал историк Г. Хикольсон, из всех английских мыслителей Локк наиболее впечатляющ и велик. «Никто иной как Локк ввел в научный обиход такие известные ныне категории, как «индивидуализм», «разум», «толерантность», «собственность», «полезность», «величайшее счастье для наибольшего числа людей». Джон Локк был куда более открыт свободному поиску истины и протесту, нежели хотя бы тот же Юм, смертельно боявшийся каких-либо потрясений и утверждавший, что любой, даже самый наихудший установившийся порядок лучше наисправедливейшей из революций. Видно, не случайно не откуда-либо, а именно из локковской школы в скором времени и выйдут такие глашатаи свободы в Англии как Толанд, Шефтсбери, Болингброк».[198] Локк – сторонник сохранения в отношениях меж людьми определенной этики. Он говорил: «Вежливость – первая и самая приятная добродетель». О его жизни можно сказать кратко – Res ipsa loquitur (лат. «Дело говорит само за себя»). Поэтому написанная им самим эпитафия, помещенная на его могиле вполне соответствует тому, что он сам всегда думал о себе, равно как и о смысле всей жизни: «Здесь покоится Джон Локк. Если вы задаете себе вопрос, каким человеком он был, то ответ состоит в том, что он был доволен своей скромной судьбой. По образованию ученый, он посвятил свои научные изыскания поискам истины. Об этом вы можете узнать из его сочинений».[199] Когда в Англии бушевала гражданская война, а армия парламента схватилась с войском короля, в рождественскую ночь появился на свет Исаак Ньютон (1642–1727)… Он родился, когда доживал свои дни великий Галилей… Порой создается впечатление, что сама природа позаботилась о том, «чтобы цепь гениев не прерывалась». В суровое время явился на свет этот болезненный и одаренный мальчик. Чума и пожары, ураганы и армии проносились над Англией, подобно безжалостным «всадникам смерти». Семья И. Ньютона была обеспеченной. Отчим был человеком достойным, но ребенок в основном воспитывался бабушкой. А мальчик, предоставленный лишь женскому вниманию, имеет не много шансов стать настоящим мужчиной. Все это делало его нелюдимым и замкнутым. Безумные мысли преследовали Исаака: не сжечь ли дом отчима (за то, что «отнял» у него мать). Этим список его «грехов» исчерпан. В школе он сторонился сверстников, не принимая участия в их играх. Однако всегда выигрывал у них в шашки. Сверстники отмечали его неуживчивый характер. Нельзя сказать, чтобы он выделялся и умственными познаниями. В списке успеваемости он находился на предпоследнем месте, опережая, по словам историка, лишь «явного идиота». Впоследствии эту удивительную и шокирующую оценку опроверг сам Ньютон, рассказав, как из последнего ученика сделался первым. Произошло это так. Один из школьников жестоко его избил. Ньютон избрал оригинальный способ мести «толпе»: стал усиленно заниматься и вскоре сделался первым учеником в школе. Если бы силу множества идиотов можно было остановить одним мановением высокой мысли гения и таланта, сколь прекрасен стал бы наш мир! Юноша в тиши уединения читал Овидия, рисовал, конструировал (солнечные и водяные часы). В записную книжку («Сад») он заносил зерна идеи, мысли, проекты, изобретения, результаты экспериментов. Член Королевского общества У. Стьюкли (автор «Мемуаров», увидевших свет в 1936 г.), писал: «Мне кажется довольно вероятным, что раннее мастерское владение сэром Исааком Ньютоном механическими приспособлениями и его мастерство в рисовании и проектировании сослужили… хорошую службу в его экспериментальном пути в философии и подготовили прочный фундамент для развития его пытливого ума». Механика проложила путь его открытиям. Он проявлял любовь к живописи и поэзии (писал картины и стихи). Непросто складывалась судьба молодого Ньютона и в Кембридже, где он из-за скаредности матери фактически очутился на положении слуги. Жизнь его принимала скрытный характер (сжег письма, не вел никаких дневников, не остался в воспоминаниях соучеников, часть бумаг сгорела во время пожара в Кембридже). Он весь ушел в учебу. Страшная чума 1665–1666 годов удержала молодого человека дома. Год великого пожара, когда исчез старый Лондон, почему-то именуется им в биографии как annus mirabilis («изумительный год»). В 1665 г. он получил степень бакалавра, затем степень магистра искусств (1668), став постоянным сотрудником Колледжа Св. Троицы. Взор Ньютона обращен к Декарту… Тот подхлестнул его ранние опыты в области механического конструирования. Декартовские «Начала философии» стали настольной книгой юноши. В записной книжке Ньютона читаем: «В философии не может быть государя, кроме истины… Мы должны поставить памятник из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: «Платон – друг, Аристотель – друг, но главный друг – истина». В поисках истины он обращается к гоббсовскому «Левиафану», к трудам Р. Бойля, к «Диалогам» Галилея. Он трудится ночами, испытывая упоение от занятий наукой. Молодой ученый не только вначале пренебрегал публикациями, но порой и выказывал к ним «нескрываемое отвращение». Смысл своих научных бдений Ньютон выразил одной фразой: «Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов». Интеллектуальным отцом Ньютона стал Исаак Барроу, известный в Англии эрудит, знаток древних языков, математик, физик, богослов, один из самых знаменитых британских проповедников. Поэмы его читались королевским двором, живой литературный язык восхищал англичан. Известен он и как автор поэмы «Слезы Кембриджа». Он во многом и помог Ньютону быстро подняться по академической лестнице и получить профессорское место. Уже в то время быть английским профессором считалось престижным (им платили порядка ста фунтов в год). Ньютону везло на тех, кто помогал ему упрочить славу. Так, члены Королевского общества, осуществлявшие регулярную переписку с английскими и континентальными учеными, разослали по всему свету статью Ньютона («Об анализе уравнений с бесконечным числом членов»). Можно смело утверждать: знаменитое «ньютоново яблоко» не упало бы, если бы прежде не потрясли древо науки. Говорят, что учение о всемирном тяготении явилось в результате отшельничества Ньютона. В Кембридже явилась эпидемия (1666). Ньютон уединился в Вульсторпе, рассуждая под небом – и «эврика». Что же до легенды, о законе гравитации, выведенном Ньютоном под деревом, Байрон скажет о нем так: «Man fell with apples and with apples rose» («Человек пал из-за яблока и с яблоком воспрянул вновь»). Ньютон впоследствии признавал, что математической формуле, в которой выражена суть этого закона, он во многом обязан изучению законов Кеплера. Тот в 1619 г. издал знаменитую «Гармонию мироздания», находясь «на расстоянии одного шага от открытия Ньютона». То, как шли и идут к истине ученые, свидетельствует в пользу единого научного сообщества.… За Кеплером шел Роберт Гук. В том же 1666 г. он прочел в Лондонском королевском обществе отчет об опытах над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела относительно Земли. Надежды Гука построить «целую систему мироздания» не завершились успехом. Он еще не обладал математическим методом анализа бесконечно малых величин, известный ныне как дифференциально-интегральные исчисления. Позже француз Огюст Конт скажет, что дифференциальное исчисление, или анализ бесконечно малых величин, есть тот мост, который был перекинут Ньютоном между конечным и бесконечным, между человеком и природой. Прошло не так много времени и Ньютон удивил мир. Три года спустя после француза Пикара, он сумел вычислить диаметр земного шара. Рассчет оказался точен: сила, заставлявшая тела падать на Землю, равна той, которая управляет движением Луны. Это дало ему возможность создать «систему мирозданья». Так родился ряд его выдающихся теорем о движении планет. Оправдались слова ученого о том, что гений это терпение научной мысли, сосредоточенное в известном направлении. Ньютон впоследствии не раз проявлял свои потрясающие способности.[200] Наконец, увидел свет его знаменитый труд, на титульном листе которого стояло: «Математические начала натуральной философии. Автор Ис. Ньютон» (1687). Напомним, что крупнейшее математическое сочинение древности, трактат Эвклида, имело сходное название – «Архай» («Начала»), как и труд глубоко почитаемого им Декарта – «Начала философии». Правильнее было бы назвать сей труд – «Математические основы физики», ибо речь тут шла о важнейших её категориях (пространство, время, движение, силы). Третьей книге «Начал» Ньютон предпослал «Правила философствования» (их четыре). Для анализа этапов эволюции человечества, вероятно, наибольшее значение имеют первых два правила, выводящих некий общий закон его развития… Ньютоновы «правила» звучат так: «Не следует искать в природе других причин, кроме тех, которые достоверны и достаточны для объяснения явлений. Недаром философы говорят: природа ничего не делает напрасно. Напрасно – значит при помощи многих средств, когда можно обойтись немногими. Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Поэтому одинаковые явления нужно объяснять по возможности одними и теми же причинами. Например: дыхание у человека и у животного; падение камня в Европе и в Америке; свет от огня в очаге и свет от Солнца; отражение света на Земле и на планетах…»[201] Оставим анализ математических открытий Ньютона специалистам, бросим взор на то, как чувствовал себя Ньютон в роли 27-летнего профессора в Кембридже. Исследователи его жизни и творчества отмечали, что Ньютон имел обыкновение тщательно готовиться к лекциям. Однако Кембридж переживал не лучшую пору. На лекции и занятия Ньютона, как и на лекции Барроу, ходили плохо. Он даже сравнивал себя с Софоклом (тому приходилось играть в пустом театре, без труппы и без хора). Студенты пренебрегали обязанностями, в чем им подавали пример их профессора… Профессор арабского языка, даже прибил на двери аудитории табличку: «Завтра профессор арабского языка уходит в пустыню» – а затем и вовсе прекратил читать лекции. Ньютон, если кто-нибудь забредал иногда на его лекцию, читал ему полчаса. Если же в аудитории его встречали пустые стены, он уходил через пятнадцать минут. Любопытно, что ни один из окончивших Кембриджский университет так и не смог впоследствии точно вспомнить, что он когда-либо слушал лекции почтенного Ньютона.[202] За фигурой «отца и главного архитектора классической механики» хотелось бы разглядеть человека. Жизнь его определялась воздействием двух главных факторов: преданностью науке и пуританской верой. Как пуританин Ньютон придерживался строгих воззрений. Это помогало ему в жизни и труде. Однако в церкви колледжа он не появлялся, так как часто просыпал утреннюю службу. Да и вообще считал это «дело», как игру в кегли и другие развлечения, пустым занятием… Перед нами уравновешенный и спокойный человек (по крайней мере, до кризиса 1693 г.). Таковы одаренные и целеустремленные натуры. Его секретарь Хэмфри Ньютон (однофамилец) отмечал: «Он постоянно был занят работой, редко ходил к кому-нибудь или принимал у себя гостей… Он не позволял себе никакого отдыха и передышки, не ездил верхом, не гулял, не играл в кегли, не занимался спортом; он считал потерянным всякий час, не посвященный занятиям. Редко уходил он из своей комнаты, за исключением только тех случаев, когда ему надо было читать лекции… Занятиями увлекался он настолько, что часто забывал обедать… Раньше двух—трех часов он редко ложился спать, а в некоторых случаях засыпал только в пять—шесть утра. Спал он всего четыре—пять часов, особенно осенью и весной, когда в его химической лаборатории ни днем, ни ночью почти не гасился огонь. Я не мог узнать, чего он искал в этих химических опытах, при выполнении которых он был очень точен и аккуратен; судя по его озабоченности и постоянной работе, думаю, что он стремился перейти черту человеческой силы и искусства».[203] Ньютон был человеком идеи, дела, а не заядлым книжником или кабинетным мыслителем. Его больше занимала физическая, нежели духовная материя. У него была солидная библиотека. Женщин он не баловал своим вниманием. Его волновали иные страсти. Ньютон увлекся тайнами алхимии, собрав более 200 книг со всего света на эту тему. В неустанных опытах в своей лаборатории он провел более 30 лет, тщательно проверяя и испытывая старые рецепты. Возможно, надеялся, что ему откроются тайные знания, которые, согласно легенде, открыл Адаму сам Господь Бог. В 1696 г. Ньютона назначают смотрителем монетного двора. С 1689 г. он – член Согласительного парламента, откуда его и выдвигают на пост сначала смотрителя, а затем начальника монетного двора. В итоге производительность двора за годы его правления увеличилась в 8 раз. На этом посту он проявил себя как государственник. Его научные изыскания стали основанием для того, чтобы начиная с 1703 г. и до самой смерти он оставался главой Академии наук (т. е. президентом Лондонского Королевского общества). Однако чины и звания еще никого не сделали лучше. Все чаще окружающие стали замечать в сэре Ньютоне неприятные черты (раздражительность, подозрительность, самомнение, гордыню). Он укрепился в своей гордыне, увлекшись арианством, одним из направлений христианской теологии, восходящим к учению Ария (IV в. н. э.). Ариане считали Христа первым творением Бога-Отца, однако ему «ни равным, ни совечным». Это означало, что они отрицали Троицу. Почему Ньютона заинтересовала эта проблема? Ньютон работал на кафедре кембриджского Колледжа Св. Троицы (1672). Религия в те времена главенствовала во всех учебных процессах. Англиканская же церковь свято следовала догме тринитаризма (Троицы). Ньютон же принял сторону «нечистых», отверженного еретика Ария, то есть «отождествил себя с Арием и интеллектуально, и эмоционально».[204] Неординарность сэра Ньютона проявились и в его трактовке цепи исторических событий. Более 40 лет он изучал историю Древнего мира, произвел тысячи расчетов и вычислений, предложив науке новую хронологию событий. Результатом его труда стали две книги: «Краткая хроника исторических событий, начиная с первых в Европе, до покорения Персии Александром Македонским» и «Правильная хронология древних царств». Тщательность, с которой Ньютон работал над ними («Краткую хронику» он переписывал от руки 80 раз), говорит об исключительной важности трудов. Суть его открытия состояла в том, что ему удалось открыть принцип так называемой «искусственной дуплексии» (то есть раздвоение событий). В итоге таких «раздвоений» многие события как бы отодвигаются, удаляются во времени. Ученые пожелали «распространить» историю Египта и Вавилона на тысячелетия. Хотя в той же Библии, которую он считал Библию куда более точным хронологическим источником, указана дата сотворения мира –4000 лет до Рождества Христова. Ньютон доказывал, что в основе практически всех научных трудов древности лежат мифы и сказания. Там есть правда, а есть вещи и события фантастические, сказочные. Но для чего нужно было вносить путаницу в историю? В споре народов за первенство важна роль древности. «Все нации, прежде чем они начали вести точный учет времени, были склонны возвеличивать свою древность. Эта склонность увеличивалась еще больше в результате состязания между нациями». Выводы, сделанные им, потрясли воображение современников. Он сдвинул во времени многие известные события (правление фараона Менеса, миф о Тезее, Троянскую войну и т. д.) на сотни, а то и на тысячи лет. Вся «шкала времени» согласно предлагаемой им формуле (x-535) x 4/7 + 535 = y) должна быть сокращена в соотношении 4:7… В итоге, «возраст» Эллады укорачивался в несколько раз. Несмотря на необычность подобного «математического» подхода к истории и хронологии, к нему прибегали и другие ученые. К примеру, немецкий ученый Леншау в 1938 г. в трудах по истории Древней Греции при помощи астрономических методов доказывал, что Олимпийские игры проводились тогда не раз в 4 года, а ежегодно. Сегодня «ньютоновские ноты» звучат достаточно громко.[205] По словам А. Эйнштейна, «самой судьбой он был поставлен на поворотном пункте умственного развития человечества». Ньютон осветил дальнейший путь и множеству механиков и изобретателей. Вероятно, в его лице Англия обрела некий «вечный движитель» грядущей промышленной революции. «Великий систематизатор» в строгой одежде пуританина. Английский поэт Александр Поп напишет о нем вдохновенные строки, которые даются нами в нашем собственном, достаточно вольном и свободном переводе: Во тьме сокрыты таинства Природы, Без достижений других великих умов и трудов не состоялся бы и Ньютон. Таким трудом была кеплеровская «Новая астрономия» (Astronomia nova). В отношении этого сочинения справедливо говорят: «Ньютон никогда не написал бы своих «Начал естественной философии», если бы он долго не размышлял над теми замечательными местами, в которых Кеплер совместил столько счастливых своих изысканий. Соединенные писания этих двух людей – поразительное доказательство того, на что способен человеческий ум, вооруженный наблюдениями и геометрией».[206] Не только Кеплер был той ступенью, с которой Ньютон встал на путь славы и успеха. Заметную роль в истории науки и культуры Англии сыграл Роберт Гук (1635–1703), сын бедного священника. Велики его заслуги перед наукой и государством. Это были времена, когда экспериментальная наука делала лишь первые шаги. Известно, что он помогал делать аппаратуру для экспериментов Р. Бойля, одного из инициаторов создания Королевского общества (Бойлю предложили стать президентом Академии наук, основанной в 1663 г.). 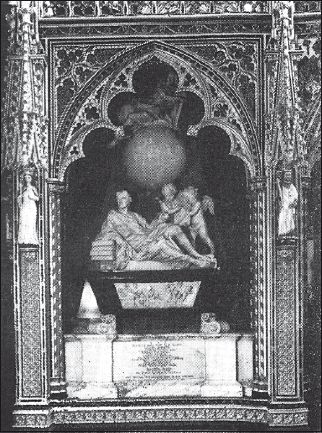 Усыпальница Ньютона. На постаменте надпись: «Превзошел разумом человеческий род». Оценивая его роль в науке, Дж. Бернал отмечал, что если бы Гук имел более обеспеченное общественное положение и не страдал от своего уродства и хронических болезней, он не был бы таким обидчивым, мнительным и сварливым человеком и его выдающаяся роль в истории науки получила бы полное признание. Если Бойль представлял собой душу Королевского общества, то Гук был его глазами и руками. Он был величайшим физиком-экспериментатором до Фарадея и, подобно ему, не имел математических способностей Ньютона и Максвэлла. Гук интересовался механикой, физикой, химией и биологией. Он изучил упругость и открыл то, что называется законом Гука, кратчайшим в физике: ut tensio sic vis (растяжение пропорционально силе); он изобрел круговой пружинный маятник, применение которого сделало возможным создание точных часов и хронометров; он написал «микрографию», первый систематизированный обзор микроскопического мира, включающий и открытие клеток; Гук применил телескоп для астрономических измерений и изобрел микрометр; вместе с Папеном он подготовил почву для создания паровой машина. Его величайший вклад в науку, только сейчас начинающий получать признание, – это провозглашение им оригинальной идеи о всеобщем законе квадрата и всемирном тяготении. Здесь, как мы видим, он был превзойден блестящими математическими достижениями Ньютона, однако в настоящее время становится ясным, что лежащие в основе их физические идеи принадлежали Гуку и что он был совершенно несправедливо обойден в признании его заслуг в выдвижении этих идей. Жизнь Гука служит примером тех возможностей и трудностей, которые встречал на своем пути талантливый экспериментатор XVII века».[207] История Ньютона и Гука – иллюстрация к тому, сколь неблагодарными могут быть и великие ученые к тем, кто являлся их предтечей, создавшая пьедестал для их славы. В действительности, по мнению тех, кто очень хорошо знал Гука, великого ученого-энциклопедиста, то был человек обаятельный, щедрый и благородный. Он поражал своей энергией и конструктивностью. Роберт Гук – дитя Английской революции (1640–1660). Со школьных лет мальчик проявил необычайную одаренность. Достаточно упомянуть, что шесть труднейших книг Евклида он изучил всего за одну неделю. Затем он знакомится с философией и геометрией Декарта. Гук успешно изучил греческий и латинский языки, постиг древнееврейский, научился играть на органе. Это помогло ему стать хористом в Оксфорде, в церкви Христа. Оксфорд слыл кузницей кадров интеллектуальной элиты Британии (здесь преподавали Роджер Бэкон, Джон Дунс Скотт, Томас Мор). В 1654 г. он встретился с физиком Робертом Бойлем и стал работать его помощником. Бойль (автор закона сжатия газов, известного как закон Бойля-Мариотта) поручил ему разработать конструкцию воздушного насоса. У Бойля – немалое состояние, оставленное отцом, а Гук был беден, что вынуждало учиться и работать одновременно. Первую степень он получил только в 1662/63 гг., будучи известным ученым. В 1660 г. вышла книга Бойля «Об упругости и весе воздуха». Тогда же в помещении Грешемовского колледжа под председательством профессора астрономии Кристофера Рена создано Общество для распространения физико-математических экспериментальных наук. Ученые обязались платить по шиллингу в неделю в качестве взноса. Карл II сделал их организацию легальной (1662), присвоив наименование «Королевского общества» и даровав ему герб с девизом «Nullius in Verba» (ничто словами). В Лондонском Королевском обществе Роберт Гук получил должность куратора. В 1661 г. опубликована первая работа Гука, а в 1665 г. вышел в свет его знаменитый труд «Микрография» (с описанием экспериментов). Десять лет спустя, в 1671 г. в члены Академии принят Исаак Ньютон, представив в Общество зеркальный телескоп. Известные «Математические основания натуральной философии» Ньютона появились в 1681 г. Так что он следует за Робертом Гуком не только хронологически. Ньютон читал его труд, как прилежный ученик, делая выписки, внимательно ознакомившись со всем, что написал Гук о теории света. Имеется личное признание сэра Ньютона на сей счет. Однако несмотря на это, он в «Оптике» ни словом не упомянул об исследованиях Гука. Цели и задачи Королевского общества сформулированы Гуком в документе, оригинал которого хранится в Британском музее (1663). Королевское общество должно «совершенствовать познания натуральных вещей и всех полезных искусств, мануфактур, механической практики, машин и изобретений при помощи экспериментов (не вмешиваясь в богословие, метафизику, моральные знания, политику, грамматику, риторику и логику)», рассматривать все системы, теории, принципы, гипотезы, элементы, истории и эксперименты естественных, математических и механических вещей, а также стараться восстановить по мере сил «такие допустимые искусства и изобретения, которые утеряны». Научные занятия Гук перемежал с решением важных практических задач, которые стояли тогда перед столицей Британии. В 1666 г. случился страшный лондонский пожар. Сгорело 13 тыс. домов, 80 церквей, включая кафедральный собор Св. Павла (без крова остались 200 тыс. лондонцев). Если великий Ньютон бросил столицу и сбежал к себе в деревню, то Гук решительно принялся за восстановление города (их статус был различен). Биолог и геолог, астроном и механик стал еще и архитектором. Правду говорят, что энциклопедисты могут все! Эпоха поощряла широту интересов и увлечений. Профессор астрономии Рен был также архитектором. В Оксфорде он выстроил Шелдонский театр (большой лекционный зал) и ряд зданий Тринити-колледжа. Рен Гук и представили свои проекты перестройки Лондона. Проект Гука (с системой улиц, пересекавшихся под прямым углом) понравился заправилам Сити. Те сделали его своим представителем или «надзирателем за восстановлением города». Эта работа отняла у него без малого 30 лет. Дни заполнены до отказа. Труды приносили деньги и почет – и не меньшее число завистников и недоброжелателей. Важным местом в архитектурном творчестве Гука стал дом для умалишенных (знаменитый Бедлам), выстроенный в 1675/76 годах. В этом сумасшедшем доме, похожем на дворец, вполне могло бы ныне расположиться английское правительство и парламент (в особенности штаб-квартира НАТО). Гук строил торговые холлы, школы, особняки, правительственные здания. Ум его был в постоянном движении, изобретая то одно, то другое. В сферу научных интересов входило изучение причин тяготения. В Лондонском королевском обществе Гук выступил с важным сообщением на эту тему. Зная способности Ньютона в области математики, он напишет ему письмо, предлагая ряд основополагающих идей. Отнюдь не мифическое яблоко, якобы, упавшее на голову Ньютону, послужило причиной установления Закона всемирного тяготения, а опыты и наблюдения Роберта Гука. Ньютон быстро уловил суть подсказки, но так и не смог в дальнейшем забыть «смертной обиды». Черная зависть сжигала его сердце. В течение 30-летнего спора о первенстве он всячески принижал заслуги великого ученого, стараясь везде, где возможно, превозносить своё первенство в физике. И хотя закон всемирного тяготения по праву считается делом Ньютона, легенда о яблоке – фикция. Она рассказана племянницей Ньютона некой К. Бэртон Вольтеру (между 1726 и 1729 гг., когда он жил эмигрантом в Лондоне), а тот уже дал ей ход. Спор о приорите Ньютона или Гука в этом вопросе еще не закончен. Попытки Ньютона вычеркнуть имя соперника и конкурента из истории науки крайне несправедливы. Очевидно, что Ньютон до 1679 г. вообще не занимался вопросами гравитации и начал свои исследования лишь под влиянием Гука. Русский ученый С. И. Вавилов, проанализировав все «за» и «против», приходит к такому выводу: «Ньютон был, очевидно, не прав: скромные желания Гука имели полное основание. Написать «Начала» в XVII в. никто, кроме Ньютона, не мог, но нельзя оспаривать, что программа, план «Начал» был впервые набросан Гуком».[208] Ревнивый Ньютон только после смерти Гука вошел в состав Королевского общества. Далее стали происходить удивительные вещи. Вдруг, ни с того ни с сего, исчезают рукописи Гука, в других работах появляются его «посвящения» Ньютону. Затем тем же таинственным образом куда-то «испарились» все портреты Роберта Гука, и даже следы его могилы. В Королевском обществе чья-то невидимая рука будет стирать следы великого ученого. Как видим, «комплекс Сальери» распространим и на фундаментальную науку. Возродив Академию и став в 1703 г. её президентом, Ньютон в ряде случаев вел себя автократично, спекулировал славой, превратив общество в «орудие второй и третьей вендетт своей жизни» (против астронома Дж. Фалмстида и философа Г. В. Лейбница).  Заседание Лондонского королевского общества в XVII веке. Творческая работа шла не только в Лондонском королевском обществе. В Англии уже повсюду была питательная культурная среда, которая жадно и неистово впитывала все доступные ей знания. Даже лондонские подмастерья днем трудились, а вечера проводили в чтении и яростных спорах о будущем. В такой атмосфере вырос Джерард Уинстэнли (1609–1676) – торговец, философ, защитник бедняков. О жизни его известно немногое. Судьба уготовила ему совсем иную участь, нежели дело торговца. Вскоре он стал жертвой обмана, лишившись предприятия и денег. Как писал сам герой, он «потерпел неудачу в воровском искусстве продажи и покупки и разорился из-за обременительных налогов в начале войны». Вернувшись в свою деревню, он стал развивать теории об общей собственности на землю. Уинстэнли стал главой движения, известного как «истинные левеллеры» (уравнители). Если другой вождь левеллеров (Лильберн) выступал в защиту прежде всего политических свобод, являясь борцом за гражданские права и равенство всех перед законом, то Уинстэнли считал все это лишь внешней стороной свободы. Что толку в демократической конституции (на которую уповал Лильберн), если богатые при этом контролируют буквально всё, владея землей и ее плодами… На кой черт нужна человеку свобода, если тот лишен элементарной собственности и минимальных средств к существованию. Истинная свобода едва ли возможна в индивидуалистическом обществе, где всем заправляют сила и деньги. Уинстэнли заявлял: «Человеку лучше не иметь тела, чем не иметь пищи… для него… Истинная свобода там, где человек получает пищу и средства для поддержания жизни, а это заключается в пользовании землею».[209] Справедливость такой позиции становится сегодня очевидной для многих людей (в России).  Словолитец. С гравюры И. Аммана.1568 г. Страна нуждалась и в хорошей конституции. Вопросы политико-административного, хозяйственного устройства выдвигались в число первоочередных. Отвечая на вызов времени, Дж. Уинстэнли создает трактат «Закон свободы, изложенный в виде программы, или Восстановление истинной системы правления» (1652) и передает его Кромвелю. В проекте сказано: «…большая часть народа вопиет» под гнетом налогов. Необходимо не только «сменить лиц, стоящих у кормила правления», но и изменить законы. В противном случае правителя ждет скорая гибель, а потомков – еще большее рабство.… В 1649 г. Уинстэнли (якобы, получив божественное указание) стал вместе с соратниками вскапывать пустошь, с тем чтобы выращивать здесь зерно, бобы, другие культуры и тем самым прокормить всех нуждающихся. Что может быть праведнее и справедливее права человека на тяжкий и полезный труд. Так левеллеры стали диггерами («копателями»). Власти «самой справедливой страны» мира, увы, отнеслись с полнейшим равнодушием к нуждам тружеников. Имя «Уинстлей» (как, впрочем, и имя Т. Мора) помещено правительством революционной России на стеле знаменитого Александровского сада, что возле московского Кремля. Тут же должно было быть высечено золотыми буквами и имя отважного Джона Лилберна, защитника бедняков Специальная глава в трактате Уинстэнли посвящена проблемам воспитания и обучения детей. Школы должны быть одинаковыми для всех, а образование – обязательным. Пусть дети учатся «читать законы республики», знакомятся искусствами и языками. Они должны получать полный набор так называемого классического образования, со всем комплексом необходимых этических, профессиональных и международных познаний. Он призывал покончить с грубой монополией на образование Оксфорда и Кембриджа. Относясь с предубеждением к схоластической манере обучения, он полагал, что такая метода «ведет к праздной жизни», множит ряды бездельников, живущих за счет других. Сюда он относил лордов, чиновников, священников, юристов и т. п. Особое внимание при обучении следует уделять тем, в ком есть то, что называют «божьей искрой», кто проявляет исключительные способности к всяческим изобретениям и усовершенствованиям… В этой мысли философа ощущается пуританское (и христианское) преклонение перед ремеслом обычного простого труженика. Преклонение, впрочем, вполне оправданное и нам понятное: ведь и Моисей был пастухом, апостолы – рыбаками, а сам Христос – сыном плотника… Его политические позиции изложены в «Новом законе справедливости» и в «Законе свободы». Уинстэнли твердо высказался в пользу республиканского правления. Всякое монархическое правительство является авторитарным и «вполне может быть названо правительством разбойников с большой дороги», ибо оно отняло силой землю у младших братьев и продолжает удерживать ее силой. Оно проливает кровь «не для освобождения народа от угнетения, но для того, чтобы быть самому царем и быть правителем над угнетенным народом». Только при честном и справедливом правлении настанут изобилие, мир и довольство. Однако поскольку власти склонны к порокам и злоупотребениям, всех должностных лиц должно выбирать и переизбирать ежегодно. Если вода застаивается, она портится, как и власть, занимающая высший эшелон. Уинстэнли убежден, что в том случае, «если общественные должностные лица будут долгое время оставаться на ответственных постах, они выродятся и утратят смирение, честность и внимательную заботу о братьях, так как сердце человеческое склонно предаваться соблазнам алчности, гордыни и тщеславия…» Избираться могут все, кроме невежд, пьяниц, лжецов, болтунов, склочников, земельных спекулянтов. Он решительно выступал против «поспешной распродажи земли», предпринятой правителями («прежде, чем народ отдал себе отчет в положении дел» в данной области). Он рекомендует гражданам Англии: «Выбирайте людей мирного духа и мирного поведения… Выбирайте мужественных людей, не боящихся говорить правду, ибо позор для многих в Англии наших дней, что они погрязли в вязкой тине рабского страха…»[210] Похоже, что само время старается найти более точные инструменты для оценки любого рода «товара», включая людские поступки и деятельность. В этой связи нельзя не упомянуть имени английского экономиста, статистика, физика, механика, врача Уильяма Петти (1623–1687), родоначальника классической буржуазной экономии, считавшего сферу производства главным источником богатства (кстати говоря, он же первым выдвинул трудовую теорию стоимости). Наряду с французом Сен-Симоном, его считают предшественником науки социологии. В XVII веке зарождается такое понятие, как «политическая арифметика» (термин принадлежит тому же Петти), обозначавшее первоначально любое теоретическое исследование социальных явлений (в основе которых лежит количественный анализ). В сочинении «Политическая анатомия Ирландии» (1672) он называет источник своей методологии – труды Ф. Бэкона. В 1691 г. выходит в свет и его «Политическая арифметика», в которой он говорит о необходимости применить бэконовские методы науки при оценке социальных явлений: «…я вступил на путь выражения своих мнений на языке чисел, весов и мер (я уже давно стремился пойти по этому пути, чтобы показать пример политической арифметики), употребляя только аргументы, идущие от чувственного опыта, и рассматривая только причины, имеющие видимые основания в природе». В дальнейшем идеи «политической арифметики» У. Петти найдут продолжение в идеях «социальной математики» французского философа Ж. А. Кондорсе и в знаменитом труде основоположника демографии Томаса Мальтуса – «Опыт о законе народонаселения» (1798).[211] Воскрешая образ Англии XVII–XVIII веков, не следует думать, что умственная жизнь британца сосредоточена только вокруг вопросов политики и экономики. Как и всюду, здесь масса интересных событий культуры и литературы. Вспомните все запоем читали книги Д. Дефо и Дж. Свифта… Выходец из среды йоменов, Даниель Дефо (1660–1731) – коренной лондонец, проживший жизнь, полную удивительных приключений, взлетов и падений. Он стал автором 350 произведений. Одно (и главное) принесло ему всемирную славу – «Робинзон Крузо». «Робинзон» считается первым классическим английским романом, к которому применимо название «история современника». В известном смысле, это вообще первый современный детский роман. Чем интересен для нас Дефо? Происходил он из семьи фламандских предпринимателей Де Фо, переселившихся в Англию «из огня интервенции». В Англии назревала гражданская война. Король и чиновники вынуждены облагать капитал непосильными налогами. Позором правительства было и падение производства, и упадок торговли, и обнищание народа, и эмиграция, в результате которой умелые мастера уезжали за границу (в Голландию и Америку). Одним словом, картина схожая с тем, что происходит ныне в России. Кромвель потребовал наведения в Англии «тирании порядка». В год крушения республики (1660) и появился на свет Д. Дефо.  Дефо у позорного столба. Известно, что каждый мальчишка в душе Робинзон. Он все желает делать сам. Это столь же естественно, как стремление к путешествиям и романтике, как мечты о подвигах и ярких встречах. Замученный школьными уроками или опекой родителей, ночи напролет предается он дикой, но сладостной идее – убраться куда-либо подальше от всех, на необитаемый остров. Кто из нас не жаждал обрести Пятницу, верного и благодарного друга?! Многим из нас хотелось бы, чтобы вместо скучной и монотонной школы нам подарили «робинзонаду». Д. Дефо писал: «Одному богу известно, что в моих рассказах было больше добрых желаний и намерений, чем знаний, и надо признаться, что при этом со мною произошло то, что в подобных случаях бывает со многими. Поучая и наставляя Пятницу, я учился и сам: то, что прежде мне было неизвестно или о чем я прежде не рассуждал, теперь ясно представлялось в сознании, когда я передавал это моему дикарю. Я никогда не был столь одушевлен изучением спасительных истин, как теперь, в беседе с ним».[212] История жизни Д. Дефо, писателя, торговца, политика, авантюриста и соглядатая, настолько удивительна, что было бы непростительно ограничиться детскими воспоминаниями о Робинзоне. Влияние его произведений на поколения европейцев огромно. Англичане месяцами откладывали пенсы и шиллинги, чтобы купить его книгу, цена которой составляла добрую часть породистого скакуна. К концу XIX века в разных странах насчитывалось уже до семисот изданий «Робинзона Крузо». Возникло и целое явление – «робинзонада». Роман Дефо был переведен почти на все языки мира. О нем будут писать многие исследователи в разных странах. Руссо сделал роман одной из главных книг в воспитании Эмиля («Эмиль»). Дефо жил в эпоху Карла II… Из всех правителей Англии тех лет тот, пожалуй, был ближе других к народу. Он, в целом, немало сделал для науки и просвещения, подписав в 1660 г. исторический указ о создании Королевского общества (Академии наук). Им же был принят важный «Закон о церковном единообразии». Однако для сына протестантов Даниеля Дефо двери англиканских школ (Кембриджа, Оксфорда) были закрыты. Дефо закончил пансион и академию Ньюингтона, где получил разностороннее образование. Кстати, здесь же учился и Тимоти Крузо (будущий герой его бессмертного произведения). Хотя писатели-классицисты А. Поп и Дж. Аддисон и клеймили Дефо как «невежду», сам он так писал об уровне полученных им знаний: «Владею французским столь же бегло, как и английским; знаю испанский, итальянский, славянский, португальский; обладаю обширными знаниями в области экспериментальных наук и солидной научной коллекцией; в географии весь мир передо мной, как на ладони («ходячая географическая карта»); по любой европейской стране могу дать обзор истории, политики, торговли; искусен в астрономии…» Видимо, это и дало известное основание для некоторых биографов называть его «гражданином современного мира».[213] Д. Дефо активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Известен сатирический памфлет против душителей свободы – «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (карикатура на священников). За этот дерзкий вызов писателя поместили в тюрьму, трактат сожгли, а его самого на три дня выставили у позорного столба в колодках. Впрочем, «казнь» завершилась триумфом. Восторженные почитатели забросали его цветами, столб увили гирляндами, в его честь стали слагать песни. Памфлеты его расходились по всей Англии. Не пощадил он и соотечественников в ироничном эссе «Чистокровный англичанин». Там он решительно высмеял идею «чистокровности», ибо и англичане как нация сложились в ходе смешения многих племен: норманнов, англосаксов, германцев, датчан, евреев. В другом памфлете «Просьба бедняка» Дефо протестует против алчных богатеев, губительной власти злата и лживой парламентской демократии: «Я видел изнанку всех партий. Все это видимость, простое притворство и отвратительное лицемерие… Их интересы господствуют над их принципами». То была необычная и авантюрная личность… Известно, что он «торговал решительно всем: от табака и водки до общественных убеждений». Жизнь Дефо преподносила ему немало сюрпризов. Он позже признался: «Судеб таких изменчивых никто не испытал, тринадцать раз я был богат и снова беден стал». Однако «человек ста псевдонимов» не терял мужества и надежды на успех.[214] Дефо не ограничивался литературным творчеством. Ему пришла в голову дерзкая и авантюрная идея: план по созданию в стране шпионской сети (под чужим именем объехал восток страны, выясняя шансы правительства на выборах). Вскоре ему удалось создать эффективную шпионскую агентуру и за рубежом. Не знаю, может, поэтому Горький назовет «Приключение Робинзона» «империалистическим произведением». Известный знаток жизни творчества Дефо – критик Доттен – также называл «Робинзона» своего рода «учебником колонизаторства». Воздадим должное и таким качествам буржуазного индивида, как терпение, трудолюбие, упорство, практицизм, профессионализм, бережливость, аккуратность. Эти достоинства попытался так или иначе пропагандировать Дефо сначала в «Робинзоне», а затем в «Образцовом английском купце», «Образцовом английском джентльмене» и «Всеобщей истории торговли» (1713). Впрочем, его внимание к homines oeconomici (лат. – «людям экономики») оправдано. Капитал, который в общем-то во все века был persona gratissima (в высшей степени желательное лицо) при дворах князей и монархов, во времена Дефо стал полновластным властелином и господином. Нынешний мир стал создаваться по его образцу и подобию. Бурная его деятельность затронула также материальное, духовное и культурное производства всего общества. Nolentes – volentes! (Желают они того или нет). Как социолог и экономист Д. Дефо не всегда точен в определениях. Так, при характеристике категорий лиц, занятых торговлей, у него в этот разряд попадают различные особи (от фермера до лавочника). Но для нас существенна авторская позиция, проникнутая уважением к «торговой династии». Главная мысль Дефо в следующем: он считал торговлю наивернейшим путем к обретению богатства нацией. Англичане эту идею прекрасно поняли и поддержали. Даже король Карл II заявил: истинное английское дворянство – это купечество. Несмотря на столь высокую оценку их роли, английские купцы, не доверяя верховной власти короля, не желали давать ему взаймы. Жизнь свидетельствовала в пользу купечества как полезного для страны сословия. По мысли Дефо, оно трудолюбиво, осторожно, бережливо и аккуратно. Не будем забывать, что Дефо ведь и сам был хватким купцом. Современники даже упрекали его в насаждении «системы выжимания пота». Качества, превозносимые им в известных романах и публицистике, заставят известного французского теоретика культуры И. Тэна высказаться недвусмысленно о его талантах: «Его воображение было воображением делового человека, а не художника». Эти же черты купеческой философии отмечали в Робинзоне и другие известные мыслители и писатели. В частности, Ф. Энгельс в своем письме к К. Каутскому охарактеризовал Дефо как «настоящего буржуа».[215] Не будучи восторженными почитателями буржуазного порядка, не можем не заметить, что вышеупомянутые черты в некотором смысле необходимы для обустройства жизни. Любая нация должна, видимо, пройти через эту «школу прагматизма», «торговую робинзонаду», не позволяя, как говорят французы, чтобы «сердце брало верх над разумом». Кстати, еще до Дефо, по заказу знаменитого министра финансов Франции Ж. Кольбера, неким Савари был написан «Совершенный негоциант» (1675), где был дан образ «героя своего времени». Сочинение с полным основанием можно отнести к категории так называемой учебно-справочной литературы. В нем содержалось подробное изложение торгового права и товароведения, сведения по экономической географии, бухгалтерии, мерам и весам, а также профессиональная информация. Вознося хвалу купеческому сословию, автор выдавал и образовательные рекомендации. Не следует детей в обязательном порядке заставлять идти «по стопам отцов»… Пусть сами выберут себе занятие (по душе). Не стоит и чересчур превозносить богатство, ибо любимые чада, скорее всего, начнут его презирать. Учить надобно тем вещам, которые необходимы для обыденной жизни (языкам, истории, арифметике, географии). В то же время изучение латыни, риторики, философии, искусств может отвратить наследников от священного дела торговли. Кто же тогда умножит или хотя бы сохранит капиталы семьи?! Понятно, что не всем «героям» тех времен надо подражать, равно как не все рекомендации Дефо заслуживают похвалы и одобрения. В деловых кругах всегда было немалое число авантюристов и жуликов. Боже милостивый, сколько дутых компаний и предприятий рождалось и быстро исчезало в Англии в XVII–XVIII веках! Некая лондонская «Компания Южных морей» выпустила уйму сомнительных акций и, наобещав народу баснословные прибыли, разумеется, надула легковерных – обычный способ действия махинаторов всех племен и народов. За ее крахом последовало разорение акционеров. Однако число бесспорных олухов, как и количество отпетых негодяев, ничуть не уменьшилось. Закон капитализма в том, видимо, и состоит: число первых должно уравновесить число вторых.[216] Яркий отклик нашло в сердцах людей замечательное творение Джонатана Свифта (1667–1745) – «Путешествие Гулливера». Этот сатирический роман вначале задумывался Свифтом как «разоблачение фантазий» Дефо. Кого не заинтригует посещение «летучего острова» Лапуты? У нас по сей день немало «универсальных искусников», что уже на протяжении 10–15 лет так «улучшают человеческую жизнь», что жизнь народа стала невыносимой. Иные догадки писателя оказались пророческими. Спустя 150 лет после выхода этой книги ученые подтвердили мысль Свифта о наличии у планеты Марс двух спутников! Немало светлых и умных голов, внесших значительную лепту в сокровищницу просвещения, было в Шотландии и Ирландии. На ниве знаний сталкиваются представители различных слоев общества, разных профессий. Священник Э. Картрайт изобретает механический ткацкий станок. Слепой от рождения Дж. Меткаф (самоучка) выступает как строитель дорог и инженер. Герцоги заняты сооружением каналов. Философы увлечены экономическими проблемами. В XVII в. духовенство во многом еще определяло настроения нации. Особенно истово поклонялись Богу в Шотландии. «В течение XVII в. шотландцы, – писал Г. Бокль, – вместо того чтобы развивать искусства, совершенствовать свой ум или увеличивать свое богатство, проводили большую часть времени в том, что называлось религиозными занятиями». Он живописует страхи и ужасы пресвитерианской церкви. Шотландские священники обещают прихожанам в случае непослушания место в ужасной геенне огненной. Если в других странах народ веселится на свадьбах, то тут духовные лица, якобы, запрещают веселиться, стремясь предупредить излишнюю радость жениха и невесты. Были установлены и суммы, которые разрешалось потратить на эти цели. Дело доходило до того, что под контроль церкви был поставлен и набор блюд.[217] Оставим «брань» на совести Бокля. Нам кажутся разумными цели и идеи, скажем, квакерского движения, что возникло в Шотландии в XVII–XVIII вв. Собираясь в старых «молельных домах», члены его мечтали об установлении мира, дружбы и взаимопонимания между народами. Это умнее и человечнее, чем насаждать свои порядки крестом и мечом.… Религия пресвитериан ограждала многих верующих от излишеств и земных пороков (от сластолюбия и чревоугодия). По мнению историка К. Хилла, шотландские заветы были уникальными в истории европейской Реформации в том смысле, что они объединяли аристократию с простым народом против чужеземного и католического правления. Нечто схожее наблюдалось и в Нидерландах. В итоге у шотландской реформации была «более прочная и более неоспоримая народную база», нежели, скажем, у англиканской церкви.[218] В Британии границы религиозной терпимости были все же несколько шире, чем в Европе. Протестантизм не означал обязательного политического единомыслия. Это дало основание Монтескье сделать даже такую запись в книжке: «В Англии нет религии; из числа членов Нижней Палаты только четверо или пятеро присутствуют при совершаемом для Палаты богослужении и проповеди… Как только кто-нибудь заговорит о религии, все принимаются смеяться. Человек сказавший при мне «Я верю в это, как в символ веры», был поднят на смех всеми присутствующими… У них есть комитет, обязанный иметь попечение о положении религии, но на него смотрят, как на смешное учреждение».[219] Богослов и острослов С. Смит выразил эту мысль таким образом: В одном случае лучшие умы идут на службу церкви, в другом они находят пристанище в университетах и колледжах. Вольтер заметил, что во Франции в его времена был лишь один профессор, труды которого стоило бы прочесть (да и тот иезуит Порре). При том количестве просвещенных умов, какое видим во Франции, это действительно вызывает удивление. Что едва ли не вся классическая французская философия вышла из стен католических школ (в том числе иезуитских). На это обстоятельство обращая внимание и А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», приводя пример философа и математика П. Гассенди, что лишь в начале карьеры занимал место профессора в университете г. Экса. Однако после того как стал очевиден его высокий уровень, он получил приглашение в систему церкви. Там его ждало более спокойное и благополучное существование. Церковь нисколько не мешала его научным занятиям. Это важный момент, мимо которого нельзя пройти. Выходит, церковь в ряде стран не только преследовала, но и поощряла науку и знание. К подобному выводу приходит и А. Смит, говоря, что фактически во всех романских, католических странах лучшие головы были не в университетах. Пост профессора мог привлечь разве что тех, кто посвятил себя физике или юриспруденции. Подобная же ситуация складывалась и в Англии, поскольку англиканская церковь была второй по богатству и влиянию после Римской. В этой связи и тут самых талантливых рекрутировали в лоно церкви. Поэтому в английских университетах редко можно было тогда увидеть знаменитостей. Совершенно иная картина складывалась в странах протестантизма. В Женеве, Голландии, Шотландии, Германии, Швеции и Дании большая часть выдающихся людей, напротив, становились профессорами университетов. Поток талантливых умов устремлялся в этот оазис.[220] Быстро растет население Шотландии. Наблюдается подъем промышленности. В системе образования Шотландии авторитетом пользуются университеты Эдинбурга и Глазго. Достижения высшей школы напрямую связываются с ростом торговли и богатства в вышеупомянутых городах, да и в стране в целом. Просветитель А. Фергюсон, как полагают, первым вводит в употребление термин «цивилизация» (в «Очерке истории гражданского общества», 1767). Если для французов и англичан «цивилизация» представляла собой продукт общественного договора, законов, соглашений между группами и классами, то шотландцы видели в ней продукт человеческой практики. Независимо от воли человечество вынуждено следовать этой дорогой. Не зная законов истории, оно «выполняет их». В их позиции важно то, что они все народы в той или иной степени считают «детьми цивилизации». Читаем у А. Фергюсона: «Что дикарь изобрел или увидел… суть ступени, которые ведут народы»; «…самые последние достижения человеческой мысли… есть только продолжение определенных достижений, которые использовались в самом грубом состоянии человечества»; «люди продолжают труды через многие века вместе, они строят на основаниях, заложенных предшественниками в течение веков».[221] И здесь шотландцы и ирландцы оказались на голову выше их соотечественников – англичан! Вот как описал характерную для Шотландии ситуацию тех лет писатель Смоллет в романе «Путешествие Хамфри Клинкера»: «Не только торговля, но и наука процветает в Глазго. Здесь есть университет, в коем профессора по всевозможным отраслям науки тщательно отобраны и хорошо обеспечены. В этот город я попал во время вакаций, а потому не мог вполне удовлетворить свое любопытство, но, без сомнения, система образования здесь во многом предпочтительнее нашей. Студенты не обучаются приватно у разных учителей, но каждый профессор преподает свою науку в публичных школах или классах».[222] Центры просвещения в Англии, которые перед тем долгое время были связанные с двором или со старыми университетами, как и Лондонское королевское общество («Олимп науки»), несмотря на Ньютона и Гука, представляли собой довольно безотрадное зрелище. Многие члены перестали платить взносы, коллекция инструментов «покрыта пылью, грязью и копотью», научные инструментов были сломаны и испорчены. Наука нуждалась в притоке «молодой крови», в тесной и органичной связи с промышленниками. Возникла нужда в сильных, ярких, деятельных натурах, о которых говорят: «То кровь кипит, то сил избыток». Произошло выхолащивание бэконовской идеи фундаментальной науки, предполагавшей служение истине и человечеству. Бэкон писал в «Новом Органоне»: «Подлинная же и надлежащая мета наук не может быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми открытиями и благами. Но подавляющее большинство людей науки ничего в этом не смыслит. Это большинство – только наставители и доктринеры, и лишь иногда случится, что мастер с более острым умом, желая славы, устремится к какому-либо новому открытию. Это он совершает почти с убытком для своего достояния. Но большинство не только не ставит себе целью увеличение всего содержания наук и искусств, но даже из имеющегося содержания ищет и берет не больше, чем может обратить для целей поучения или наживы, или для того, чтобы прославить свое имя, или для другой прибыли этого рода».[223] Наука в Англии не смогла тогда вполне реализовать себя. Поэтому и пришло в упадок Лондонское королевское общество. Исследования носили все более отвлеченный характер. Свифт высмеивал тогдашних членов академии. Он говорил: в Лондонском королевском обществе взвешивают воздух! На этот факт ухода наук от магистрального пути служения обществу указывали многие исследователи (М. Эспинас). Произошел разрыв между «скромными прикладными науками» и прикладными науками, что призваны продвинуть вперед дело развития ремесленных технологий.[224] С такими же проблемами столкнулись в дальнейшем многие страны.  Адам Смит. Самое почетное место среди великих шотландцев занял Адам Смит (1723–1790), классик политэкономии, идеолог промышленной буржуазии. Он родился в семье контролера таможни. Отец его обучался в университетах Абердина и Эдинбурга. В 1707 г. заключена важная уния, объединившая Англию и Шотландию. Купцы, промышленники, крупные фермеры, составлявшие партию вигов, поддержали этот союз. Шотландия пережила трагические времена короля-убийцы Макбета, желала двигаться вперед. Но были и свои «националисты» (тори), выступавшие против союза. На их стороне выступали вожди кланов горной Шотландии, желавшие сохранить власть над соплеменниками-горцами. Столкнулись интересы союзной торговли, промышленности, науки, техники, образования, культуры, с одной стороны, а с другой, эгоистические интересы порой невежественных «горцев», которые во имя своей мифической «свободы» готовы уморить народ голодом или извести его в кровавых битвах, только бы не допустить главенства более передовой страны. Пусть все разваливается и гибнет, а мы будем и впредь тешить свою клановую гордыню, держа народ во мраке и нищете. Конечно, это менее всего затрагивает национальную честь шотландцев, которые прославились как великие ученые, яркие писатели, умелые воины. Эти строки правильнее обратить на другие страны и регионы, где бушует сепаратизм (знакомая для современной России ситуация). О детских и юношеских годах А. Смита известно немногое. Иные даже вынуждены были назвать их «кошмарным сном биографа». Роберт Хейлброунер говорил о нем так: он «был неважным корреспондентом, ревнивым хозяином своих сочинений (некоторые из них он велел сжечь, находясь на смертном одре) и вообще человеком, чья покойная и замкнутая жизнь оставила весьма скудные следы для его биографов». Учился он в университете Глазго, где тогда преподавал Хатчесон, виднейший деятель шотландского Просвещения (читал лекции по проблемам стоимости товаров в торговле и природе денег). Смит занимался самостоятельно, запоем глотал Гроция, Бэкона, Локка. Ухаживал за дамами. Очаровательная М. Кэмпбелл, дочь принципала, выглядела в глазах юноши разумнее, чем «все профессора, вместе взятые». В те дни ему приходила на память пылкая эпиталама английского поэта Дж. Деннау, ставшего епископом, вспоминавшего с нежностью годы студенческой молодости в «Эпиталаме времен учебы в Линкольнз-Инн»: …А вы, повесы, гордые юнцы, В 1740 г. Адам Смит получает ученую степень магистра искусств и стипендию в Оксфордском университете. Отныне он мог, в течение 11 лет, обучаясь в Оксфорде, получать по 40 фунтов ежегодно. Путешествуя по Альбиону, он не раз убеждался: Англия богаче его родной Шотландии. Шесть лет он безвыездно провел в Оксфорде. Нелегко находиться вдали от родных мест. Итог образования – в нем сочетались шотландский патриотизм с английской просвещенностью. Вскоре Смит приступает к чтению лекций в Эдингбургском университете, следуя девизу Сенеки: «Homines, dum docent, discunt» (лат. «Люди, уча других, учатся сами»). Судя по отзывам, он был отличным педагогом. Хотя его «Теория нравственных чувств» (1759) не принесла ему столь громкой славы, как иные сочинения, она сыграла свою роль («Теория» при жизни выдержала несколько переводов и шесть переизданий), став основой его лекционного курса по «нравственной философии». Среди мыслей, нашедших отражение на ее страницах, выделим следующие: человек должен руководствоваться в жизни симпатией к людям; ему должно быть присуще чувство справедливости, ибо это – та «несущая колонна, на которой держится все здание» общества; страсти, что движут нами, в конечном счете должны быть благотворными для людей; всем нам должен быть присущ голос совести, который является внутренним судьей каждого.[226] Путь А. Смита в экономику лежал через нравственность. «Разумное и нравственное всегда совпадают», – любил говорить Лев Толстой. У пуритан moral restraint (нравственное самовоздержание) вообще играло довольно важную, если не определяющую роль при формировании системы общественных нравов. Нравственная философия в XVIII веке включала в себя как бы все науки об обществе. А это предполагало (по крайней мере, в теории), что экономика и политика должны быть непременно «нравственными». Сегодня почти всюду эти истины, увы, лишь отринутые и забытые слова. Что подвинуло его к смене научных интересов? То ли находящаяся поблизости от университета кожевенная фабрика, считавшаяся самой большой в Европе, то ли дух времени, превративший Глазго в крупнейший торговый город и порт, то ли ряд обстоятельств (в 1778 г. он был назначен таможенным уполномоченным и служил на этом посту до самой смерти), сказать трудно. Возможно, все это вместе взятое. Недалеки от истины те, кто называли Глазго «экономической лабораторией» шотландца, а идеи «Богатства народов» относили к заслугам в первую очередь самой промышленной революции. Конечно же, и само время изменило некоторые из взглядов философа. Ранее он, осуждая голый и безграничный людской эгоизм, сурово порицал и бичевал «безнравственные системы». Справедливости ради заметим: эгоизм шотландских предпринимателей был все же куда более созидателен и конструктивен. Они не грабили до нитки свой бедный народ, но давали ему работу, а с ней и более или менее достойные условия существования. Вот как описывал автор биографического повествования о жизни Адама Смита эту эпоху… Прибыль в Глазго стекалась отовсюду… Молодой и энергичный капитал приносил прибыль, и та в свою очередь вновь превращалась в капитал. Капиталисты строили суда и фабрики, нанимали все новых рабочих. Рынки казались безграничными, а крестьяне и обнищавшие ремесленники, горцы из разрушенных родовых кланов шли в Глазго и окрестные города, заполняя фабрики и мастерские. Автор первой истории города, вышедшей в 70-х годах XVIII в., с восторгом пишет, что после 1750 г. с улиц исчезли нищие и даже малолетние дети были заняты работой. Накопление шло безудержно. Однако интересно и то, что лишь малую толику прибылей купцы и промышленники тратили на себя и свои семьи. Лондонцев, давно привыкших к столичной роскоши и расточительству старой и новой знати, поражал «аскетизм» глазговских богачей. В Глазго почти нет богатых особняков. Во всем городе – 3–4 частных выезда. Смит сообщал, что в его студенческие годы ни у кого в городе не было более одного человека мужской прислуги. Вызывающая роскошь просто-напросто считалась тогда дурным тоном. «Скупость пришпоривает усердие», – писал его друг Юм, выражая дух эпохи.[227] Главный духовный импульс исходил от шотландских университетов, отличавшихся (в лучшую сторону) от тогдашних британских вузов (сильная профессура, демократическая манера преподавания, низкая плата за обучение). Эти университеты, словно магнит, притягивали зарубежных студентов, среди которых были даже русские. Высокий уровень подготовки давали общеобразовательные школы Шотландии, во главе которых стояла пресвитерианская церковь. Возникали и благотворительные школы. Как известно, президент Российской академии наук Е. Дашкова также хотела отправить сына учиться в Шотландию. Она писала по этому поводу: «Из Спа я написала историку Робертсону, ректору Эдинбургского университета, что осенью приеду в Эдинбург и поселюсь в нем на долгое время, пока мой сын не закончит свое образование; ему было всего тринадцать лет, и я просила Робертсона руководить его образованием в течение нескольких лет».[228] Ректор университета посоветовал княгине сперва как следует подготовить отпрыска, прежде чем отправлять за границу. Та поняла и не стала гнать сына из отечества. В своей знаменитой работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), которую некоторым «горе-экономистам» неплохо бы прочитать от корки до корки, дабы восполнить элементарные «вузовские пробелы», Адам Смит говорил, что положение государства зависит от решения нескольких ключевых проблем (труд, производство, торговля, возможности профессионального образования, свобода капитала). Он писал: «Восстановите так же, как для солдат и матросов, эту естественную свободу заниматься по своему усмотрению любой профессией для всех подданных его величества, т. е. уничтожьте исключительные привилегии корпораций и отмените устав об ученичестве, ибо они представляют собою действительное ограничение естественной свободы, и прибавьте к этому отмену закона об оседлости, чтобы бедный работник, лишившийся работы в одной отрасли промышленности или в одном месте, мог искать ее в другой промышленности или в другом месте, не опасаясь преследования или выселения, и тогда ни общество в целом, ни отдельные лица не будут страдать от увольнения того или иного разряда мануфактурных рабочих больше, чем от увольнения солдат».[229]  Университет Глазго в конце XVII века. Смит один из первых привнес в науку понятия «варварского» и «цивилизованного» общества. Одно от другого отличается не только определенным видом занятий (охота, пастушество, земледелие, промышленность, наука, торговля), но и образом общественной философии. Наличие в обществе деления на классы, различные уровни дохода в разных группах населения, дифференциация видов, размеров собственности рассматривались им как признак «цивилизованности». При внимательном прочтении Смита выясняется, что он отнюдь не был сторонником дикого, бандитского капитализма. Скорее в нем можно увидеть глашатая строгой народной нравственности и морали. Говоря современным языком, Смита можно назвать защитником философии «тружеников», нежели идеологом свободной, распущенной и алчной элиты (интеллигенции). «В обществе, где уже вполне установилось разделение на классы, всегда существовали одновременно две схемы или системы нравственности, из которой одну можно назвать строгой или суровой, а другую – свободной или, если хотите, распущенной». Народ в его представлении гораздо более строг, праведен и справедлив, чем господа, чья «распущенность» с годами, по мере все более бешеного развития капитализма, переходит все рамки приличия, обрекая «простонародье» на заклание хищным выводкам (выродкам) «светски воспитанного общества».[230] Позже автор «Истории цивилизации в Англии» Г. Т. Бокль даст его трудам такую оценку: «Об Адаме Смите можно сказать, не боясь опровержения, что этот одинокий шотландец изданием одного сочинения больше сделал для благоденствия человечества, чем было когда-либо сделано совокупно взятыми способностями всех государственных людей и законодателей, о которых сохранились достоверные известия в истории». Какие же силы неба (или ада) надо разбудить, чтобы bad fairy (англ. «злой гений») российской власти и буржуазии не счел за труд прочесть хотя бы XXI главу второго тома «Богатства», названную – «Nota bene» – «Об ограничении ввоза из-за границы таких продуктов, которые могут быть производимы внутри страны»!? Как видим, понадобились бомбы и ракеты Запада, что упали на братскую Югославию (а завтра будут сброшены на Россию!), чтобы понять всем необходимость того, что можно было бы сегодня назвать «ограниченным и мобилизационным протекционизмом».… В Шотландии, «медвежьем углу Европы», благодаря усилиям науки и просвещения был создан удивительный анклав прогресса. Здесь (по сути дела, впервые на севере Европе) возникли предпосылки промышленного переворота. Сельское хозяйство равнинной Шотландии стало образцовым. Так что у давней пословицы «Горд, как шотландец» есть свое обоснование. Кроме всего прочего, шотландцы к середине XVIII в. прославились блестящей плеядой литераторов, философов, историков. В самом деле, не случайно столицу страны – Эдинбург – кое-кто уже стал гордо величать «Северными Афинами», а наступившие годы культурного подъема в Шотландии впоследствии получат название «века Перикла».  Дэвид Юм. Гравюра Гедана с портрета А.Рэмси 1766 г. Выдающейся личностью Шотландии был и философ Дэвид Юм (1711–1776). За благожелательную и миролюбивую натуру друзья называли его не иначе, как «наш добрый Дэвид». Жизнь Юма стала своеобразным «гимном интеллектуальной красоте» (Шелли). Выходец из добропорядочной графской семьи, Юм отказался от властной карьеры, предпочтя карьеру ученого. Он закончил Эдинбургский университет (начал учиться в 12 лет), многое почерпнув и в культуре Франции, где прожил три года. Философ получил широкую известность своим «Трактатом о человеческой природе». Его он написал во Франции в 26 лет. О содержании оного можно сказать просто и кратко – это наука о человеке. В основе труда лежит идея прямой зависимости общего состояния наук от степени познания ими науки о человеке. Религия, математика, естественные науки, логика, этика, политика связаны с этим разделом науки. Наука о человеке является единственным прочным основанием других наук. Юм отвергал «моральные атрибуты Бога», считая суеверием христианскую священную историю. Он оспаривал саму идею организации божьим промыслом Вселенной. Мало вероятно, говорил он, чтобы столь умная ее организация была «делом рук» какого-то устроителя, скорее всего – это плод естественного воспроизводства.[231] Будущее человечества зависит от уровня развития культуры, человеческого ума и характера, общественного воспитания и морали. А уже как следствие действия упомянутых факторов – возможность появления справедливого строя. Юм понимал, сколь далеки от реальности его мечты. Лучшее из его произведений («Исследование о принципах морали», 1752) так и «не было замечено». Эдинбургский университет не пожелал дать ему место преподавателя философии (1744) из-за полного отрицания им религиозных принципов. Прекрасный знаток истории (автор фундаментальных «Истории Англии» и «Истории дома Тюдоров»), в жизнь своих почитателей он вошел как скромный певец знаний, нарисовавший в воображении духовный Новый Иерусалим – «город с золотой мостовой и рубиновыми стенами». Юм придавал исключительное значение задаче улучшения человеческой природы с помощью культуры. Он прямо говорил о том, что «напрасны были бы наши ожидания найти в неподвергшемся влиянию культуры (uncultivated) естественном состоянии средства» против человеческих, общественных пороков и недостатков. Ныне иным правителям не грех вспомнить некоторые азы нравственных и экономических положений его философии. В частности, он установил прямую связь между понятиями «собственности, права и обязательства» и «идеями справедливости и несправедливости». Особо стоило бы подчеркнуть следующие его слова: «Собственность человека – это какой-нибудь предмет, имеющий к нему некоторое отношение; но данное отношение не естественное, а моральное и основано на справедливости. Поэтому очень неразумно воображать, что у нас может быть идея собственности до того, как мы вполне поймем природу справедливости и укажем ее источник в искусственных установлениях людей. Происхождение справедливости объясняет и происхождение собственности». Иначе говоря, нелепо закреплять права собственности, если они не подкреплены справедливостью. Точно так же было бы безумием возводить град на зыбкой почве социальной несправедливости, назови его хоть «Европейским домом», хоть «Американским градом на холме», хоть «Российской демократией». Он предупреждал, что враги разума и справедливости охотно готовы приобрести «патент», скрепленный печатью разума, чтобы скрыть собственные тайные и эгоистичные цели… «Всё может произвести всё». Это утверждение философа в высшей степени справедливо, если, конечно, не возводить его в принцип построения цивилизации. Вместе с тем легко убедиться, что никакой научный патент, никакой академический титул не спасет от краха политэкономическую или идейную доктрину, если та эгоистична и индивидуалистична, противореча интересам абсолютного большинства. Если личный интерес есть «первичный мотив справедливости», то еще важнее симпатия к общественному интересу. Общественный интерес должен быть источником морального одобрения и оплотом любой политики. Главная обязанность политиков, как и системы воспитания – поддержание в обществе «уважения к справедливости и отвращения к несправедливости». Нужно так строить общественную систему, чтобы чувство чести смогло «пустить корни в нежных душах детей» и обрести нужные твердость и крепость. Общество, лишенное равенства, справедливости и порядочности, не спасут и права собственности, ибо в стране утвердится власть негодяев.[232] Юм и Смит – бойцы на поле битвы за культуру (эстетический смит-и-вессон, что был приставлен к виску бессовестной и хамоватой буржуазии). Их слова образны и доходчивы. Они дают программу «краткого курса» в сфере эстетики. Нормы времени вырабатываются путем сравнений. Все сравнивается со всем. Ныне могут быть иные нравы, вкусы, понятия, критерии. Когда-то славили иных поэтов, писателей, ученых. Сегодня их время ушло. Мы «никоим образом не в состоянии» наслаждаться их произведениями. Возьмем хотя бы Гомера. Какое впечатление остается от него, если взглянуть на него глазами современников. Сплошные марши и сражения, грохот щитов, непонятные и напыщенные речи. Жестокость и кровь. Нет, с Гомером нынче как-то неуютно. Но это не значит, что нужно выбрасывать его из библиотек. Как было бы преступлением и глупостью «выбросить портреты наших предков из-за того, что они изображены на них в рюшах и кринолинах» (или, скажем, даже в комиссарских тужурках!). Затрагивает он и стороны эстетического опыта. Говоря о духовных вкусах, мы порой рассуждаем, подобно поварам или парфюмерам. Ведь так оно и есть. Духовная пища – то же блюдо, только посложнее. Философия и культура не одобряют однообразных «диет». Считающий себя воспитанным человеком не стал бы доказывать итальянцу, что шотландская мелодия звучит приятнее итальянской оперной арии. «Если вы умны, то каждый из вас допустит, что вы оба правы» (Юм). Это же можно сказать и в отношении того, что мы говорили о культуре и цивилизации. У каждого народа – свои привычки. То, что считается этичным и прекрасным у одного народа, в одну эпоху, вызывает недоумение, страх, даже отвращение у других (в другие времена). А. Смит приводит пример: тонкие черты, белый цвет лица в Гвинее считается уродством и, напротив, черный цвет, толстые губы и сплюснутый нос – красотой. Некоторые аборигены в Америке имели обыкновение сжимать головы детям дощечками, сдавливая их почти до квадратной формы. Однако ведь и европейские женщины до недавнего времени заключали в жутчайшие тиски корсетов «прекрасные естественные формы своего тела». И этот обычай был принят «среди самых цивилизованных народов мира». В период царствования Карла II распутство считалось среди знати Англии знаком светского воспитания (как и во Франции). Столь же различна манера проявления чувств у народов: «Живость и чувствительность, которые французы и итальянцы, два самых культурных европейских народа, проявляют по всякому поводу, удивляют прежде всего тех общающихся с ними иноземцев, которые воспитывались среди людей, обладающих более слабой чувствительностью. Эти иноземцы не могли приобщиться к столь бурной манере себя держать, какую им никогда не приходилось наблюдать у себя в стране. Молодой французский аристократ, которому отказали в получении полка, в состоянии плакать в присутствии всего двора. Итальянец…проявляет больше волнения, когда его штрафуют на двадцать шиллингов, нежели англичанин, которому читают смертный приговор» (А. Смит).[233] В XVIII в. возросло значение университетов. Если Исаак Ньютон читал лекции при полупустых аудиториях, то на лекции Ф. Хатчесона, А. Смита, других известных преподавателей собираются толпы студентов. Фрэнсис Хатчесон (1694–1746), primus inter pares (лат. «первый среди равных»), стал читать лекции на английском, а не на мертвой латыни. Под влиянием его идей формируются взгляды Д. Юма, Э. Берка, А. Смита. Следы его мысли вспыхивают, словно ночные звезды, в работах великих умов (Лессинга, Канта, Дидро, Гердера). Он – один из тех «виртуозов мысли», которых Шефтсбери называл «тонко и изящно образованными людьми». Хатчесон верил в существование врожденных (генетических) способностей человека. В его представлении они – наиважнейший исходный материал. Образование, культура, воспитание суть лишь инструменты. С их помощью, конечно, можно увеличить способности ума, полнее раскрыть, то что заложено природой. Но если люди лишены способностей или вообще склонны к лени и безделью, тут «никакое образование не поможет». Хатчесон пишет: «Образование может заставить невнимательного гота вообразить, что его соотечественники достигли совершенства в архитектуре; а отвращение к его врагам, римлянам, может соединить определенные неприятные идеи даже с их зданиями и поднять его на их разрушение; но он никогда бы не образовал этих предрассудков, если бы был лишен чувства красоты. Разве слепые когда-либо спорят о том, какой цвет более тонкий, пурпурный или алый? И разве может какое бы то ни было образование расположить их в пользу какого-либо из этих цветов?»[234] Наука, образование, искусства пользовались в Англии, Шотландии, Ирландии почетом и уважением. Правящий класс этих стран проявил изрядную долю здравого смысла, мудрости и прозорливости. Идеологи реформ (не чета нашим, российским) всячески холили и лелеяли отечественную науку… Таков был и лорд Шефтсбери (1671–1713), аристократ, живший в Италии и посвятивший себя философии. Это – один из наиболее ярких представителей века Просвещения. Британия сравнивается им с Древним Римом… Шефтсбери призывал правителей и аристократов «по своей доброй воле» оказывать помощь искусствам и наукам, дабы облегчить их «счастливые роды». Нации нужны поэты, рапсоды, историографы, хранители древностей всяческого рода. Художества и науки не могут быть оставлены без попечения в передовой стране мира. Он приучал английскую буржуазию к мысли о необходимости и важности выполнения роли domina omnimum scientarium! («властительницы над всеми науками»). Без мощной поддержки духовной элиты власть не может работать. Пренебреги она людьми острого ума, вырази свое презрение свободному гению – и она обречена. Времена Кромвеля давно миновали. В Великобритании это поняли. Теперь, если власть и обратится к силе оружия – её ждет полнейшее фиаско. Поэтому Шефтсбери и рекомендует сильным мира сего любить и привечать «заслуженных людей, с тем чтобы они благожелательно относились к правительству и были его друзьями». Перед нами программа действий разумного и, смею сказать, весьма просвещенного правительства, искренне заботящегося о благе страны, а не сборища Tom fools («невежественных дураков и шутов»).[235] Почтенные профессора, благодарные государственным мужам и состоятельной верхушке за поддержку их творческих и научных усилий (приносящих прибыль и славу им и Англии), выступали в поддержку и имперских притязаний Альбиона. Профессор Эдинбургского университета В. Уэльвуд поддержал претензии Карла I на владычество английской короны над водами океана, омывающего страну с юга, а также над Северным морем (XVIII в.). Какую позицию мог занять Ньютон, если он получил кафедру математики в Кембридже, учрежденную на деньги крупного собственника Лукаса. Английских ученых и интеллектуалов можно заподозрить в чем угодно, но только не в разрушении основ своей страны, а также тех условий, которые, собственно, обеспечивали им их благополучие и успех. В России в последние годы все наоборот. Кучка вороватых бездарностей, ничем не прославивших себя ни в науке, ни в производстве стала «реформаторами» (архитекторами краха великой страны). 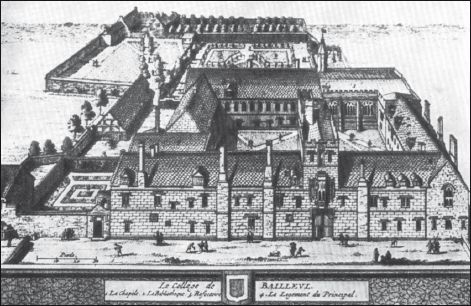 Баллиольский колледж в Оксфорде в начале XVIII века. Поступь века Просвещения становится все увереннее… Значение английской мысли и культуры в деле укрепления свобод, новых веяний в Европе велико. Ф. Энгельс был прав, заметив (1847): «Если Франция подала в конце прошлого столетия славный пример всему миру, то мы не можем обойти молчанием тот факт, что Англия подала этот пример на 150 лет раньше и что в то время Франция еще совсем не была готова последовать ему. А что касается идей, которые французские философы XVIII века, Вольтер, Руссо, Дидро, Д`Аламбер и другие, сделали столь популярными, то где первоначально зародились эти идеи, как не в Англии! Никогда не следует допускать, чтобы Милтона, первого защитника цареубийства, Алджернона Сидни, Болингброка и Шефтсбери вытеснили из нашей памяти их более блестящие французские последователи!»[236] В Англию переезжают многие умные люди. В 1700 г. сюда из Голландии перебрался Бернард Мандевиль (1670–1733), закончивший Лейденский университет. Б. Мандевиль – родом из семьи французских протестантов. Уже тогда имели место процессы, позже названные «утечкой умов». Умы утекают и притекают. А чтобы этот процесс пошел на пользу стране, надо иметь умных правителей. Получив известность как автор едкой сатиры на нравы общества («Басня о пчелах», 1705), Мандевиль пишет «Опыт о благотворительности и благотворительных школах» (1723). Там он предлагал упразднить мелкие церковноприходские и частные школы, которые не смогли обеспечить должного уровня образования. Он настаивал и на отделении школы от церкви. Как полушутливо заметил литератор и ученый Дж. Аддисон (1672–1719): «Мы, англичане, отличаемся особой робостью во всем, что касается религии». Особое внимание Мандевиль уделял университетскому образованию. Двери университетов должны быть открыты для людей «со всех концов земли». Способных юношей следует оставлять в университетах для продолжения образования, научной и педагогической работы. Университеты «должны быть открытыми аукционами для всякого рода литературы, подобно ежегодным ярмаркам разнообразных товаров и изделий, проводимым в Лейпциге, Франкфурте и других местах Германии, где нет различия между местными жителями и иностранцами и где участвуют люди со всех концов земли с одинаковой свободой и равными привилегиями». Интересны его оценки и тогдашней системы высшего образования Великобритании. Уже в первой четверти XVIII века английские университеты выглядят достаточно «богато». Однако там масса недостатков: «много бездельников, которым хорошо платят за то, что они едят и пьют, а также получают великолепные и удобные квартиры».[237] Как жила профессура в то время? Тогдашняя элита общалась часто, шумно, плодотворно. Времени для этого было предостаточно. В клубах, университетах, гостиных, в бесчисленных кафе и пабах шли горячие дискуссии. Смит был знаком с Юмом. Частенько они встречались и, как говорится, расслаблялись. Смит, соперничавший с Хатчесоном, в компании друзей любил выпить. Трудно читать лекции с половины восьмого утра, да еще каждый день?! Осатанеешь. Юм рассказывал А. Смиту, как он писал труд «Историю Англии». В беседах участвовал лорд Кеймс, подтрунивавший над холостяцкой жизнью философов. Бутылка заменяла им жену, надо сказать, небезуспешно. Подумав, философы решили: нечего даже пытаться совмещать серьезное занятие наукой с женщиной. Тем, кто жаждет сильных ощущений, лучше взять да испробовать смесь пива и джина! Если бы они могли, то и поспорили бы с Карлейлем, который обрушился на любителей крепкой выпивки: «Пиво и джин: увы, это не единственный род рабства»… Расчувствовавшись, старики вспомнили Ньютона, с которым встречались, когда тот был уже стар. Ньютон тогда признался Кеймсу, что за два года (между 23 и 25-ью годами) сделал в науке больше, чем за всю остальную жизнь. Но при этом потерял любимую девушку. Ей надоело ждать ученого жениха. Она выбрала другого, возможно, и не столь умного, но более внимательного. Философы и лорд многозначительно переглянулись и, подняв стаканы, чокнулись, словно бросая вызов тем, кто дерзнул оспаривать девиз «in vino veritas», тем самым как бы подтверждая древнее название страны («веселая Англия»). Возможно, кто-то из них процитировал стихотворение немецкого поэта Иоганна фон Бессера (1654–1729), названное крайне многозначительно «Противу баб»: Когда Господь, уже в последний день Творенья, Перевод Е. Ханта Вряд ли можно говорить о проблемах образования и воспитания, не касаясь психологии лежащей в основе большинства мотиваций интересов и поступков. Знаменательно, что именно в Британии, где Гоббс некогда придал ассоциациям силу универсального закона психологии, Локк пропел осанну воспитанию и опытному знанию, а Ньютон создал новую механику, появится и тот, кого считают основателем ассоциативной психологии. Им стал Дейвид Гартли (1705–1757), получивший богословское и медицинское образование. Благодаря ему это учение стало доминирующим в психологии вплоть до начала XX века. Он заставил педагогов осознать проблемы психологии воспитания, настежь распахнув затворенные двери школ и университетов. Основные положения теории автор изложил в «Размышлениях о человеке, его строении, его долге и упованиях» (1749). Психолог М. Ярошевский отмечал: «Исходя из представления о прижизненном формировании психики, Гартли считал, что возможности воспитания, воздействия на процесс психического развития ребенка поистине безграничны. Его будущее зависит от того, какой материал для ассоциаций ему поставляют окружающие: поэтому только от взрослых зависит, каким вырастет ребенок, как он будет мыслить и поступать. Гартли был одним из первых психологов, заговоривших о необходимости для педагогов использовать знание законов психической жизни в своих обучающих методах».[239] О роли познания писал и епископ Дж. Беркли (1685–1753), потомок английских переселенцев, родившийся в Южной Ирландии. Закончив Тринити-колледж (в Дублине), он стал преподавателем, а в 1709-м принял священнический сан. Внеся вклад в теорию познания, он в меру сил старался обосновать и теорию послушания. Папы, епископы, патриархи традиционно занимают в истории сторону сильных мира сего. Этой цели служит сочинение Беркли «Пассивное послушание» (1712) и его открытые письма в «Дублинском журнале» (1745), направленные против ирландского «бунта». Читателю мало интересны его рассуждения по поводу «достоинств дегтярной настойки». Важнее его «Трактат о принципах человеческого знания» (1710), в котором подвергаются критике общие абстракции философов. Если оставить в стороне детали его спора с Локком, то нам представляется важным два взаимосвязанных момента в его книге. Во-первых, Беркли решительно противопоставляет мир людей и мир философов, поскольку последние живут, по сути дела, исключительно среди абстрактных понятий: «Простая и неученая масса людей никогда не притязает на абстрактные понятия. Говорят, что эти понятия трудны и не могут быть достигнуты без усилий и изучения; отсюда мы можем разумно заключить, что если они существуют, то их можно найти только у ученых». В таком случае (во-вторых) спросите их: «А в состоянии ли господа философы вообще понять жизнь? Не закрывают ли их символы, абстракции, термины от них истинные явления природы и человека?» Если вероятность этого велика, не следует ждать от них ни новых откровений, ни смелых и новаторских решений. Беркли вынужден признать: «В целом я склонен думать, что если не всеми, то большей частью тех затруднений, которые до сих пор занимали философов и преграждали путь к познанию, мы всецело обязаны самим себе; что мы сначала подняли облако пыли, а затем жалуемся на то, что оно мешает нам видеть».[240] Но облако пыли, поднятое Английской революцией, а зачем и Реставрацией, давно улеглось. Ситуация изменилась. Просвещение уже не напоминает монастырскую обитель. Монастыри и церкви передают образовательную «эстафету» городским и сельским светским школам. В системе обучения и воспитания все более ощутим дух практических нужд, изобретательства, инженерии. Проявляются и конкурирующие моменты в деятельности высшей школы. С одной стороны, действуют традиционные, классические университеты и колледжи, с другой – промышленно-технические заведения нового типа, диссидентские академии. Обновляется и совершенствуется педагогическая метода. Возникают новые виды воспитательных заведений – скажем, знаменитая система кораблей-приютов «Трайнинг-шип». Меняется общий стиль преподавания. На сцену поднимаются иные герои… Персонажами исторической «пьесы» становятся уже не только и не столько герцоги, лорды, святейшества, но и купцы, рудокопы, ткачи, учителя, изобретатели машин. Воззрения священников, джентльменов обогащаются и дополняются взглядами буржуа, тогда еще полных силы и дерзновения. Знание становится инструментом, с помощью которого преобразуют действительность. Человек получил возможность использовать накопленные знания в целях самоусовершенствования и улучшения жизни. «Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Заметно улучшилась работа системы земледелия, всей экономики. Для Англии характерен переход от эпохи эотехники к эпохе палеотехники. Упрочились связи между отдельными странами и сообществами. В труде Дж. Бернала читаем: «…Шотландия благодаря кальвинизму установила интеллектуальную связь с Голландией, в частности с Лейденским университетом, что обеспечило постоянный приток в страну высокообразованных людей, особенно в области медицины, включавшей также и химию. Великий Бургав, последователь Ван-Гельмонта и учитель, подготовивший половину всех химиков Европы, оказал особенно серьезное влияние на Шотландию, где его ученики играли ведущую роль во внедрении науки в университеты. В XVIII в. университеты Шотландии, несомненно, ни в чем не походили на своих английских братьев, они стали активными центрами научного прогресса, отличительной чертой которого было стремление связать практику с теорией во всех отношениях». Таковы некоторые самые общие итоги.[241] Однако и в Англии в конце XVIII – начале XIX веков возрождение науки шло уже не из старых центров (Оксфорда, Кембриджа или Лондона), как это было в XVII в., а из Лидса, Глазго, Эдинбурга, Бирмингема или Манчестера. Манчестер – это легендарный город промышленной революции, подаривший человечеству первую публичную библиотеку, первую паровую машину, первый локомотив, первую железную дорогу (в ХХ в. здесь будет создан и первый компьютер). Перед нами «британские Афины» эпохи индустриализации. В отношении Манчестера английские историки говорят, что в Британии нет другого такого города, где бы на протяжении двух столетий ни прослеживалась столь явная связь между ростом индустрии и развитием наук. Манчестер считался городом торговцев и ремесленников. Тут обосновались многие из тех, кто занимался медициной и науками. Рост буржуазных отношений и накопление капиталов вели к появлению людей ученых или нацеленных на карьеру в области искусств. Из этой среды вышел Т. Персиваль, основавший научное объединение, которое затем трансформировалось в «Манчестерское литературное и философское общество». Учреждается колледж, готовящий юристов и священников. Т. Персиваль и его друзья (Т. Генри и др.) первыми предложили схему подготовки специалистов высшей квалификации для индустрии. В Манчестере прошли этапы жизни и деятельности химика Дж. Дальтона. Торговец Дж. Оуэнс учредил колледж, который должен был соперничать с ассами высшего образования типа Оксфорда и Кембриджа. Колледж выжил, процветая во многом благодаря тому, что стал неким «симбиозом капитала и культуры», переняв лучшее у шотландцев и немцев. Таковы лишь некоторые примеры деятельности купцов, банкиров, промышленников Англии середины и конца XVIII века.[242]  Манчестер в XIX веке. Люди, стоящие близко к нуждам промышленности и торговли, первыми протянули руку помощи образованию и науке. Они понимали их значение лучше всяких банкиров. В труде Бернала читаем: «Значение науки, которая меньше ценилась в то время при дворе или в городе, было полностью осознано поколением северных промышленников и их друзьями. Они видели, что причиной того обстоятельства, что в прошлом наука не имела успеха, было то, что адепты ее не были людьми практическими. Затем, впервые в истории науки, ее начали систематически преподавать также за стенами морских школ. Несмотря на пренебрежительное отношение со стороны более старых университетов (во всяком случае, закрытых для оппозиционеров, какими было большинство людей нового направления), она нашла себе место в диссидентских академиях, подобных академиям Уоррингтона и Дэвентри. Поскольку академии эти были созданы на пожертвованные средства, успех их служил мерилом ощущавшейся в это время потребности в науке, и на протяжении XVIII века они давали лучшее, после шотландских университетов, научное образование в мире».[243] Такова плеяда ученых-практиков: «интеллектуальный отец капитализма» А. Смит, основатель современной геологической теории доктор Геттон, «владелец воздуха», святой отец Дж. Пристли, открывший кислород, наконец, Вениамин Франклин, которого иные называли «Бэконом XVIII века». Центрами научного прогресса становятся шотландские и новые английские университеты, где практика теснейшим образом увязывается с теорией. Деловые люди стараются следовать совету лорда Болингброка: «Давайте удовлетворимся частным, или экспериментальным знанием…»[244] Интересна фигура Джозефа Пристли (1733–1804). Священник, ученый, мыслитель, педагог принадлежал к движению «рациональных диссидентов», выступающему за реформирование английской конституции и расширение прав и свобод личности. Читателю Пристли известен как ученый, «открывший кислород». Мало кто знает, что он был еще и педагогом. Он обучался в академии Дэвентри (1752–1755), учебном заведении нового типа, где, по словам Р. Уоттса, давалось самое «лучшее для своего времени высшее образование». В те времена Оксфорд и Кембридж превратились скорее в «стойло» для породистых английских джентльменов, нежели выступали в роли цитадели серьезной науки. Средние школы Британии находились в упадке. Разносторонняя личность Дж. Пристли немало дала английской системе образования. Он читал лекции по химии, анатомии, языкознанию, литературе, истории и праву. Он издал «Начала английской грамматики» (1761). Студенты Уоррингтонской академии, где он преподавал, получали на его лекциях внушительный запас знаний. Когда же он вынужден был покинуть ее стены, ректорату пришлось поделить чтение его курсов между тремя различными преподавателями.  Майкл Фарадей. В трудах Дж. Пристли сформулирована идея прогресса цивилизации, который ставится им в зависимость от трех главных моментов – прогресса образования, факторов разделения труда, форм государственного и общественного правления. Последнюю сферу он называл «великим орудием прогресса человеческого рода». Пристли говорил, что благодаря этим факторам люди позднейших столетий стоят… выше людей предшествующих веков при одинаковом их возрасте. К такому прогрессу рода грубые животные не способны. «Ни одна лошадь этого столетия, по-видимому, не стоит выше лошадей прошлых эпох, и если имеется какой-нибудь прогресс в отношении рода, то он обязан нашим способам разведения и дрессировки лошадей».[245] А как сказал поэт: «Все мы немножко лошади!» Вскоре Дж. Пристли избирают в Королевское общество за создание научно-популярной работы по истории электричества (1766). Дж. Бентам, подчеркивая его роль в вопросе повышения престижа академии, писал: «Уоррингтон был тогда образцовым местом. Там жил Пристли». Он поддержал Великую Французскую революцию и решил уехать в Америку. Там, по предложению Джефферсона, им будет специально написана для института государственного образования в Вирджинии книга «Советы по организации государственного образования».[246] Все заметнее и ощутимее прогресс и фундаментальных наук. Одним из наиболее выдающихся представителей экспериментального знания стал английский физик и химик Майкл Фарадей (1791–1867). Его предки были кузнецами. Показателен сам факт того, что выходец из подобной семьи получил в Англии возможность стать великим ученым. Свой трудовой путь он начинал с профессии переплетчика книг. Вскоре проявился его интерес к изучению тайн и загадок природы. В 1812 г. Фарадей попадает на лекции светила тех лет сэра Хэмфри Дэви. Прослушав их, он не сомневается в правильности избранного пути. Через год по рекомендации того же Х. Дэви его назначают ассистентом в лабораторию Королевского института Великобритании (важнейшего научного центра страны). Вместе с патроном молодой человек совершает путешествие по Франции, Италии и Швейцарии. В 1825 г. Фарадей стал директором лаборатории, а затем назначается пожизненным профессором химии в Королевский институт. Фарадей внес немалый вклад в науку: обнаружил химическое действие тока и электромагнитную индукцию, установил взаимосвязь между явлениями магнетизма, света и электричества, стал основоположником учения об электромагнитном поле («отцом электроники»). Его исследования в области электромагнетизма и электрической индукции привели к тому, что колоссальная область электротехники стала, по сути дела, его вотчиной. Он – не только «царь физики», но и Орфей всей электрической Одиссеи. Никто не мог с таким искусством рассказать молодежи о свойствах физики и химии. Со времени его первой работы по физике (о «поющем пламени», 1818 г.) он сумел совершить столько, что у нас не хватит строк для перечисления даже его основных трудов. Так же, как он «играл земным магнетизмом, как волшебник магическим жезлом», он погружался в тайны природы, будучи уверен в единстве всех ее сил. Фарадей признавал действие физических сил на расстояние, был убежден в существовании телегенеза и телепатии. Он же в 1832 г. в общей форме высказал и теорию телеграфа, которая вскоре воплотилась в жизнь. Его называют великим благодетелем мира. «Только после исследований Фарадея в области электромагнетизма и индукционного электричества… появилась возможность превратить электричество в послушного слугу человека и совершать с ним те чудеса, которые творятся теперь», – писал Я. В. Абрамов. Он благороден, справедлив, гуманен и добр. «Он был демократом, готовым бунтовать против всякого авторитета, желающего незаконно ограничить свободу мышления», – писал Тиндаль. Его приоритетными интересами были – наука и образование. Правительству, предложившему ему государственную пенсию за открытия, он писал: «правительство поступает совершенно справедливо, награждая и поддерживая науку». Фарадей решительно помогал всем, кто нуждался в помощи. При этом он сам был абсолютно равнодушен к деньгам. Промышленные общества предложили ему заработать очень большие деньги путем «профессиональных услуг». Он пару раз выполнил их пожелания и сделал ряд анализов, но затем решительно оставил эти занятия, отдав все силы и время фундаментальной науке. Когда к нему обратилась комиссия Британского общества естествоиспытателей с запросом, что надо сделать правительству для улучшения положения ученых и представителей науки, Фарадей написал: «правительству ради своей выгоды следовало бы ценить людей, служащих стране и приносящих ей честь», и что «во множестве случаев, требующих научных знаний, правительству следовало бы пользоваться учеными». Но, к величайшему сожалению, в его Англии эта разумная и крайне эффективная практика не реализуется так, как это должно было бы быть с пользою для всех. Очевидно, продолжал ученый, «правительство, еще не научившееся уважать ученых как особый класс людей, не может найти верных путей и средств вступать с ними в сношения». Так, премьер Мельбурн, несмотря на уже всемирную славу Фарадея, ничего не слышал о нем и лишил его пенсии («какой-то химик»). Правда, будучи фантастическими невеждами, иные правители отделываются орденами да званиями. Впрочем, великий ученый был равнодушен к наградам, которыми его, «царя физиков», вскоре стали осыпать все страны Европы. Дважды отклонил он просьбу и собратьев-ученых стать президентом Королевского общества (Академии наук), мудро сказав: «Я хочу остаться до конца жизни просто Майклом Фарадеем, и позвольте мне вам сказать, что если бы я принял честь, которою удостаивает меня Королевское общество, я не мог бы более ручаться за непорочность своей души». Зная дрязги, зависть, склоки, что нередки среди академиков, он был прав. Он как-то бросил: «Факты были для меня важны, и это меня спасло».[247] Мы же полагаем, что лишь понимание элементарного факта главенства науки как формы жизни и существования большинства может «волшебным образом» снять груз проблем человечества. В дверь цивилизации все явственнее, настойчивее стучится «машинный век»… Шотландец Джемс Уатт (1736–1819) – одна из интереснейших фигур. Среди его предков, шотландцев, были учителя математики и мореходства, создатели кораблей и строительных кранов, музыкальных инструментов… Его отец и мать были образованными людьми. Джеймс Уатт с детства отличался необычайной любознательностью и любовью к чтению. В гимназии он овладел латынью, преуспел в математике и астрономии, увлекся анатомией (однажды его поймали с головой мертвого ребенка, которую он хотел препарировать). Уатта влекли все области знания. В мастерской он помогал отцу тому собирать машины. Судя по всему, быть ему оптиком, мастером математических инструментов. В те годы это означало что-то вроде «ученого-механика». В Лондоне он некоторое время ходил в учениках. Вернувшись в Глазго, Уатт пытается найти работу. Ему повезло. В местном университете освобождается место мастера по изготовлению научных инструментов. Так способности юноши и его трудолюбие завоевали ему признание. Профессор Робинсон (тогда еще студент) писал: «В его руках все становилось началом научной работы, все превращалось в науку… При его общепризнанном умственном превосходстве над сверстниками, в характере Уатта была какая-то удивительная наивная простота и открытость, которые делали привязанности к нему очень прочными. Его превосходство смягчалось беспристрастностью и всегдашней готовностью признать за всяким его заслуги и достоинства». Хорошим и достойным людям везет на приличных людей. В этом смысле Уатту действительно «везло», ибо он встретил тех, кто стал ему другом (Дикк, Смол, Болтон). У знаменитого изобретения (паровой машины) были, разумеется, предшественники. Герон Александрийский за 120 лет до нашей эры дал описание «шара Эола» (вращающегося на своей оси). Среди изобретателей паровой машины называли имена англичан – маркиза Ворчестера (1663), капитана Савари (1702) и кузнеца Ньюкомена (1704); французов – Соломона де Ко (1630) и Дениса Папина (1674); немцев – Герике (1672). Конечно, книга маркиза Ворчестера «Век изобретений» и книга Соломона де Ко «Причины двигающихся сил» не имели прямого отношения к созданию паровой машины. Открытие свое Уатт сделал в 1765 г. Рудники и шахты в Англии уже стали истощаться. Чтобы поднимать руду, нужно было откачивать воду, спускаясь все ниже. Машина Уатта – спасение для тысяч рабочих и сотен промышленников. Страна и мир получили один из главных инструментов прогресса. Однако пройдут еще годы опытов, труда, борьбы с денежными трудностями, прежде чем паровые машины войдут в жизнь. Для научно-технического прогресса нужны деньги. Капиталистов можно «не любить», но деньги на научные исследования, переоснащение устаревшей промышленности брать придется. Поэтому воздадим должное тем, без кого никогда не состоялся бы и Дж. Уатт. Это – промышленник, в прошлом доктор медицины Ребак и талантливый предприниматель М. Болтон. Последний создал в 1765 г. самый большой и лучший завод в Бирмингеме («Зоо»). Обладая отменным деловым чутьем, он сумел оценить перспективы использования машины и предложил Уатту стать компаньоном. В письме он заявил, что готов делать машины «для всего света», предложив себя в роли «акушерки», которая поможет Уатту «разрешиться от бремени». (Рассчитывать только на частный капитал в деле поддержки научно-технических и промышленных усилий в конце ХХ века в России было бы не только наивно, но и смерти подобно).  Джеймс Уатт. При всем уважении к Шотландии Уатту было трудно найти деньги у себя на родине. Уатт пришлось заняться стройкой канала (1770–1772). Затем он изобрел микрометрический винт (1770) и новый отражательный квадрант (1773). Работа над машиной отодвигалась. Умерла любимая жена. Уатт в отчаянии: «Мне дольше невыносимо оставаться в Шотландии, я должен или переехать в Англию, или найти себе какое-нибудь доходное место за границей!» Эта идея чуть было не воплотилась в жизнь. Профессор Робисон предложил ему переехать в Россию. Сам он переехал туда, занимая пост директора морского училища. Уатт колебался. В 1775 г. к нему обратился русский посланник, предложив место и оклад (10 тысяч рублей). Его просили построить в Петербурге машину для наполнения водой доков. К сожалению, дело не сладилось. Не желая упускать гениального изобретателя, Болтон пугал Уатта «страной медведей и беспардонных казаков, для которых закон не писан». Поэт Дарвин писал ему: «Боже, как я был испуган, услышав, что русский медведь наложил на вас свою огромную лапу и тащит вас в Россию. Пожалуйста, не ездите туда, если есть какая-нибудь возможность. Россия – это логовище дракона: мы видим следы многих зверей, ушедших туда, но очень немногих, возвращающихся оттуда. Надеюсь, что ваша огневая машина удержит вас здесь». В конечном итоге, чудо-машина была готова и стала приносить барыши. Уатт был самоучкой. Ни школ, ни университетов он не посещал. До конца дней он оставался скромным и добрым человеком, честно служившим своей стране. Он отказался от баронского титула, сказав, что не годится для него. От членства в различных научных обществах он не отказывался, считая это честью (член Лондонского королевского общества, Эдинбургского общества, Парижской академии). Когда ему исполнилось 70 лет, он скажет: «Большую часть своей жизни я тяжело работал на пользу общества и, надеюсь, не напрасно: instrumenta artis nostrae у всех в руках. Я служил уже государству в той форме, к какой меня предназначила природа…»[248] Достойный сын шотландского народа. Примером того, как надо поддерживать инженеров и конструкторов, служит история создателя аналитической машины Чарльза Бэбиджа (1791–1871). Отец его был банкиром, оставив в наследство сыну приличное состояние. В школе тот увлекался математикой. Самой интересной книгой он считал учебник алгебры. Бэбидж обожал копаться во внутренностях игрушек, вопрошая: «А что внутри?» С 19 лет он учится в Кембридже, становясь одним из лидеров студенческого братства. В его круг войдут знаменитые Дж. Гершель и Дж. Пикок, ставшие друзьями. Они поклялись «приложить все усилия, чтобы оставить мир мудрее, чем они нашли его». В дальнейшем Бэбидж стал профессором математики в Эдинбургском университете. В молодые годы он составлял грамматику и словарь мирового универсального языка. И даже сочинил статью, которая была встречена с живым интересом «в кругу домушников», если они ее, конечно, читали («Об искусстве открывания всех замков»). Подлинная слава ждала его в другой области. В Лондоне создается Астрономическое общество (1820). В его организации принял активное участие и Бэбидж (секретарь, вице-президент, член Совета). Тогда-то и зародилась у него идея создания машины, которая смогла бы облегчить работу вычислителей (в 1812–1813 гг.). С присущей ему энергией он приступил к работе и к 1822 г. построил небольшую разностную машину, сумев провести сложные подсчеты. Бэбидж был награжден первой золотой медалью Астрономического общества. Президент общества Г. Коулбрук высоко оценил труд создателя машины: «Ни в одной области науки или техники это изобретение не может быть использовано так эффективно, как в астрономии и связанных с ней областях, а также в разделах техники, зависящих от них». Обращаем внимание на позицию английской власти. Заправилы Англии (и Сити) быстро прикинули выгоды от такого изобретения. Их не смутило, что эта счетная машина (не станок, пушка или пароход) строилась более 10 лет. На ее создание ушли по тем временам огромные деньги (17 тысяч фунтов стерлингов из казны правительства и 13 тысяч средств Бэбиджа). Машина тем не менее была крайне полезной. С ее помощью сделан сравнительный обзор различных систем страхования жизни и были опубликованы достаточно точные таблицы смертности. Нынче видим, как правители иной страны равнодушно наблюдают за возрастающей шкалой смертности среди их народа, не давая и фунта для создания машин, во многом превосходящих машину Бэбиджа.[249] Бэбиджа считают одним из праотцов современного компьютера. Число изобретений растет. Мир отдает отчет в значимости всего того, что происходит. Вот как, скажем, отреагировал украинский поэт Тарас Шевченко на эти события: «Великий Фултон! И великий Уатт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Мое пророчество несомненно».[250] Такого рода отклики на прогресс техники в Великобритании имели под собой основу. Грош цена была бы капитализму, если бы мысли и усилия его творцов были направлены только на грабежи, эксплуатацию и войны. Такой капитализм полностью исчерпал бы себя, не дав плодов. Но капитал и тут не сразу явился «из головы Афины Паллады» (во всеоружии знаний и мудрости). И тут имело место множество нарушений. Обратим внимание на поведение Английского банка в начале XIX в. В этой связи особый интерес представляет позиция классика буржуазной политической экономии Давида Рикардо (1772–1823). Возьмем одну сторону его воззрений, которую условно назовем «Банки и Нация». Рикардо был акционером Английского банка. Он решительно поднял голос протеста против его политики Тем самым он, противопоставив корыстные интересы банкиров, на стороне которых стояли «министры и военная партия», интересам большинства народа, парламентской оппозиции, то есть «партии мира» (К. Маркс).[251] Тогда как народ Англии испытывал тяготы положения, вызванного войной и общей сложнейшей экономической ситуацией, политика, проводимая частным банком, давала тому «невиданные барыши, причем доходы этой корпорации возрастали пропорционально росту тягот и трудностей всего общества». Рикардо предлагал лишить Английский банк права эмиссии банкнот, требуя передать эмиссионное дело в руки комиссаров, назначаемых парламентов и несменяемых. Рикардо предложил самому правительству взять в свои руки управление государственными финансами, тем самым освободив Английский банк от прибыльной миссии государственного казначея. Рикардо даже высказывал пожелание полностью ликвидировать частный банк, создав на его месте единый Национальный банк. Думая о людях, там работающих, он предлагал казне выкупить здания частного банка, а всех специалистов трудоустроить. Однако, что вызывало столь резкую реакцию великого экономиста? Дело в том, что уважаемые господа банкиры, пользуясь бесконтрольностью центральной власти, фактически расхищали общественные ресурсы (деньги). Рикардо почти открыто обвинил директора Английского банка в недобросовестности, если не в открытом жульничестве. Один из руководителей Банка Торнтон, скрыл от общественного мнения тот факт, что только на государственных вкладах Английский банк получил 382 тыс. фунтов стерлингов в год. Рикардо с возмущением пишет: «Не прискорбно ли видеть, что такая великая и богатая корпорация, как Английский банк, выказывает желание увеличить свои накопления при помощи незаконных барышей, вырванных из рук переобремененного народа?»[252] Вы спросите: «А не прискорбно ли видеть, что еще более богатые корпорации в лице банков иной страны (скажем, России) пиратски увеличивают свои накопления, вырывая из рук не то что переобремененного, а просто-напросто нищего народа последние гроши?!»  Сборщики податей. Все-таки надо быть более справедливым и честным. Английский капитал… порой проявлял немалую щедрость, когда дело касалось национальных интересов Англии, готовящейся стать промышленной и научной мастерской мира. Та накапливала ресурсы, включая всю мощь британского гения. Казалось, ну что английским министрам, парламенту и капиталу до каких-то там небесных высот, когда можно достигать земных благ и богатств, набивая свои карманы! Почему же Англия вырвалась вперед в споре с другими странами? Небывалому развитию промышленности и торговли между 1848-м и 1866 гг. способствовала умная финансовая и налоговая политика. Все финансы Британии тогда решительно и смело были брошены на развитие промышленности и инфраструктуры. Перевозка товаров и пассажиров благодаря транспорту стала осуществляться вчетверо быстрее и дешевле. Наблюдается бурный рост капиталовложений в сельское хозяйство с упором на крупное фермерство. С 1851-го по 1871 год общее число ферм с количеством земли ниже 40 га в Англии уменьшилось, а число ферм в 120 га и, в особенности, свыше 200 га значительно возросло. Английские капиталисты прекрасно понимали и важность внедрения новейших достижений техники. Выставка Королевского сельскохозяйственного общества, проходившая в 1853 г., представила 2 тысячи сельскохозяйственных орудий. Все шире стали применяться и искусственные удобрения. Уже между 1845–1859 гг. заметно возросла заработная плата сельскохозяйственных рабочих. Так должен действовать прогрессивный капитализм, а не чудовищная пародия на него, которую мы наблюдаем в России (нам чужд нынешний тип капитализма). Трансформируется и система образования страны. Меняется управление университетами. В Англии появляются инженерные институты (mechanics` institutes). Монополия старых вузов рухнула в 1826 г. с учреждением Лондонского университета. Хотя у того и не было вначале прав присуждать студентам научные степени, образование здесь оказалось более дешевым, практичным. Возник целый ряд институтов и колледжей (в Манчестере, Бристоле, Бирмингеме и т. д.), делавших упор на естественные и инженерные науки. Высшее образование в Великобритании становилось уделом более широкого круга людей. Торговля, наука, производство, изобретательство, свободные искусства требовали специальных знаний, многообразия умственных способностей. В 1782 г. в Лондоне публиковалось порядка 18 ежедневных газет, а «десятью годами позже там выходили уже сорок две» (Андерсон). Появился паровой печатный станок и тиражи возросли (1814).[253] В Великобритании больше тех, кто проводил «труды и дни» в школах, университетах, лабораториях, мастерских, на заводах и фермах. Их-то, тружеников Альбиона, мы и славим. Английский поэт и публицист Мэтью Арнолд (1822–1888), идеал которого Древняя Греция, в одном из своих сонетов, который называют «программным» («Спокойная работа»), писал: Урок, знакомый ветру и воде, Перевод В. Орла Английские школы и университеты воспитывали учеников в характерном для той эпохи имперско-колониальном духе. Как и чему здесь обучали? Перелистывать уставы и программы XVIII–XIX вв. мы не будем. Скажем лишь, что прошедший эту школу писатель и драматург Генри Филдинг (1707–1754), автор «Истории Тома Джонса, найденыша», пишет о тех годах с теплотой… Он изучал Овидия и Гомера, декламировал Цицерона и Демосфена, писал стихи на древнегреческом. Правда, математике и естественным наукам тут не обучали. Не было тогда и курсов по музыке или живописи. Воспитание носило спартанский оттенок. Однако к студентам жестких условий не предъявляли и от них не требовали обязательных занятий спортом. Сам писатель вспоминал о пребывании тут как о «живом роднике детства».[255] В романах английского сатирика предстают образы Англии, являя собой, как скажет Теккерей, «замечательные художественные памятники гения и искусства». В «Истории Тома Джонса» дан перечень тех, кого он призывает руководить пером и быть наставником в жизни. Филдинг пишет: «Прежде всего тебя, гений, дар небес, без чьей помощи тщетна борьба наша со стихийным течением вещей, – тебя, сеющего благородные семена, взращиваемые и развиваемые искусством. Возьми меня ласково за руку и проведи по всем закоулкам, по всему извилистому лабиринту природы. Посвяти меня в тайны, недоступные взору профанов. Научи меня – для тебя ведь это нетрудно – познавать людей лучше, чем они сами знают себя… Сорви тонкую личину мудрости с самомнения, изобилия – со скупости и славы – с честолюбия. Явись же, о вдохновитель Аристофана, Лукиана, Сервантеса, Рабле, Мольера, Шекспира, Свифта, Мариво, наполни страницы мои юмором, чтоб научить людей лишь беззлобно смеяться над чужими и уничиженно сокрушаться над собственными безрассудствами. А ты, почти неразлучный спутник истинного гения, Человеколюбие, ниспошли мне все теплые твои чувства… Руководи моим пером и ты, Ученость, – ведь без твоей помощи гению не создать ничего чистого, ничего верного. Тебе поклонялся я в ранней юности, в излюбленном твоем святилище, где прозрачные, тихо струящиеся воды Темзы омывают твои Итонские владения. С истинно спартанским мужеством приносил я в жертву кровь мою на березовый твой алтарь. Приди же и надели меня в изобилии из твоих несметных сокровищ, собранных в далекой древности».[256]  Обучение грамоте. Британская модель обучения в XVIII–XIX вв. несовершенна. Система образования оказалась вся пронизана классовыми предрассудками. У. Теккерей в «Книге снобов» (1847) указывал на наличие в середине XIX века разных возможностей в обучении для детей знати и бедняков. В частности, он отмечал: «Потому что этот юноша – лорд, университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет. Ему не нужно сдавать экзамен, потому что он лорд». Гораздо труднее и мучительнее доставалось высшее образование средним слоям населения Великобритании, не говоря уж о бедняках: «Несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются «стипендиатами», а в Оксфорде – «служителями» (весьма красивое и благородное название). Различие делается в одежде, ибо они бедны; по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с товарищами-студентами».[257] Эти уродливые черты в ряде случаев сохраняются по сей день. Впрочем, когда он сам учился в Кембридже, ведя жизнь «викторианского джентльмена», Теккерей не пожелал to bear the blame (англ. «принимать на себя ответственность») за «грехи» высшей школы Англии, а можно даже сказать, что и наслаждался всеми преимуществами богача и любимца элиты. Участвовал в веселых компаниях, писал стишки в студенческом альманахе под многообещающей вывеской «Сноб», время от времени вступал (правда, крайне неудачно) в единоборство с алгеброй, широко сорил деньгами и даже, как говорят, слыл весьма заядлым картежником. Нужно признать: жизнь будущего писателя в университете так и не сложилась. Понимая это, он завидовал тем, кто быстро находил себя в университете, превращая библиотеки в храмы. Там самым они могли самозабвенно служить своим «новым богам». Для него же заведенные тут порядки казались просто невыносимыми. Поэтому он так и рвался прочь из Кембриджа, где все ему казалось «странно мертвым».[258] Если «сливки общества» располагали прекрасными привилегированными школами (Итон, Харроу и тому подобные), то вот средние и бедные слои вынуждены были преимущественно довольствоваться скромным гимназическим типом училищ (grammar schools). Впрочем, и тут самые бедные, но проявившие определенные умственные способности и усидчивость, могли обучаться в учебно-воспитательных заведениях типа «Христова приюта», «Школы синих курток», основанной еще королем Эдуардом I в XVI веке. Такая школа описана в романе Ч. Лэма «Очерки Элии». Приют рассчитан на 400 учеников и имел филологическую направленность. Условия обучения были суровы, порой жестоки. Что поделаешь. «Business before pleasure» (англ. «Делу время, потехе час»). Однако тут были и свои радости. О некоторых сторонах школьной жизни Ч. Лэм писал: «Были у нас собственные классики, и мы не были им обязаны ни «высокомерной Греции, ни надменному Риму»: «Питер Уилкинс», «Приключения достопочтенного капитана Роберта Бойля», «Удачливый мальчик в синей куртке» и прочие вроде них. Или мы развивали в себе склонность к механике и к науке, сооружая из бумаги крошечные солнечные часы или сплетая те хитроумные сетки, которые называются «кошачьими люльками», или заставляя сухие горошины плясать на кончике оловянной трубки, или упражняясь в военном искусстве по правилам достославной игры «французы и англичане», или убивая время на сотню затей подобного рода, сочетая при этом полезное с приятным, так что души Руссо и Джона Локка умилялись бы при виде наших занятий».[259] «Умиление» просветителей, имей оно действительно место, вряд ли было бы искренним, если бы те ознакомились с истинным положением вещей. В начале XIX в. свыше половины английских детей не получали никакого образования, а около 20 процентов вообще неграмотны. Процесс обучения скучен до невозможности. У. Блейк описал атмосферу, царившую в школах: Но днем сидеть за книжкой в школе Перевод С. Маршака Мир детей Чарльза Диккенса (1812–1870) суров и безрадостен. С тех пор как он сам попал в частную школу с пышным названием «Академия Веллингтон-Хаус», где преподавание носило случайный, бессистемный характер, дисциплина держалась на садистской жестокости директора, а учителя были никудышными, у него выработалась стойкая ненависть к английской системе образования. Во многом этими настроениями и навеяны его знаменитые романы («Оливер Твист» и др.). Конечно, если вы прочтете его очерк «Наша школа» и воспоминания современников, то увидите, что молодому человеку повезло. Ему жилось неплохо в стенах этой викторианской школы… Как отмечает Э. Уилсон, автор одной из книг о Диккенсе, детям там давали кукольные представления, их обучали игре на скрипке, им даже разрешалось держать мышей, кроликов, птиц и пчел (в партах). Выходила и ученическая газета, в которой многие из них принимали участие.[261] Если вся атмосфера британского общества проникнута изрядной долей консерватизма, фарисейства и снобизма, то слепком времени не могли не быть и учебные заведения. Вот как описывал тот же Теккерей в «Ярмарке тщеславия» одно из таких почтенных заведений (школу «Уайтфрайерс»): «Первоначально она предназначалась для сыновей бедных и заслуженных духовных особ и мирян, но многие из знатных ее попечителей, благосклонность которых проявлялась в более широких размерах или, пожалуй, носила более капризный характер, выбирали и другого рода объекты для своей щедрости. Бесплатное образование и гарантия обеспеченного существования и верной карьеры в будущем были так заманчивы, что этим не гнушались и многие богатые люди. И не только родственники великих людей, но и сами великие люди посылали своих детей в эту школу. Прелаты посылали туда своих родственников или сыновей подчиненного им духовенства, а с другой стороны, некоторые высокопоставленные особы не считали ниже своего достоинства оказывать покровительство детям своих доверенных слуг; таким образом, мальчик, поступавший в это заведение, оказывался членом очень разношерстного общества. Хотя сам Родон Кроули за всю жизнь не изучил ни одной книги, кроме Календаря скачек, и хотя его воспоминания о школе связывались главным образом с порками, которые он получал в Итоне в ранней юности, однако он, подобно всем английским джентльменам, искренне уважал классическое образование и радовался при мысли, что его сын будет обеспечен, а может быть, даже станет ученым человеком».[262] Теккерей, как выражаются сами англичане, speaks by the book (англ. – «говорит на основании собственного опыта»). В английской системе образования были изъяны. И это не только odds and ends (разные мелочи). В ней царили суровые и антигуманные законы. Они действовали даже по отношению к тем, кто составлял интеллектуальную элиту. Пуритане, например, одно время предлагали вообще упразднить университеты. Затем Кромвель в революционной горячке изгнал из стен университетов сторонников короны (несмотря на все их научные заслуги). С приходом к власти Карла II реставраторы тотчас же сделали ответный ход: заменили почти всех членов колледжей, ранее назначенных старым парламентом и Кромвелем. «Акт униформности» (1662) подтверждал власть короля в университетах.  Дж. Уоттс. Голод в Ирландии. 1849–1850. При взгляде на английские порядки и в XIX в. нелегко было удержаться от оценок, встречающихся в романе британской писательницы Шарлотты Бронте… В романе «Учитель» (1847) у одного из англичан (некоего Хансдена) состоялся следующий разговор с девушкой: «– Англия – ваша родина? – спросила Фрэнсис. – Да. – И вы ее не любите? – Я был бы жалок, если б любил её! Маленькая, скверная, Богом проклятая нация, погрязшая в гадкой спеси и беспомощной нищете, прогнившая в своих пороках и, как червями, изъеденная предрассудками. – Всё это можно отнести почти к любой стране, везде есть пороки и предрассудки, и, думаю, в Англии их все же меньше, чем в других странах. – А вы поезжайте в Англию да убедитесь своими глазами. Съездите в Бирмингем да в Манчестер, побывайте в Лондоне – в квартале Сент-Джайлз – вы получите наглядное представление о нашем устройстве. Рассмотрите получше поступь нашей величественной аристократии – увидите, как шествует она по крови, мимоходом раздавливая сердца. Да загляните потом в лачуги английских бедняков, полюбуйтесь, как Голод застыл, припав к холодным черным камням очага, как Болезнь лежит на незастеленной постели, как Порок распутничает с Бедностью, хотя в действительности предпочитает как любовницу Роскошь, и герцогский дворец ему более по вкусу, нежели убогая лачуга с соломенной крышей… – Я думала не о пороках и нищете, существующих в Англии, я думала о том, что есть там лучшего – что называется национальным духом и характером, что взращивалось и передавалось из поколения в поколение. – Нет там этого «лучшего» – по крайней мере, того, о чем вы были бы способны судить; у вас ограниченное образование и слишком низкое положение, – потому вы совершенно не способны оценить ни успехов промышленности, ни прогресса в науках; что же касается Англии в историко-поэтическом свете – я не обижу вас, мадемуазель, если посмею предположить, что вы опирались на подобный сентиментальный вздор?»[263] А взгляните, чем Англия прославилась в Ирландии. Расстрелами да грабежами. Хотя ученые ирландцы гораздо раньше англичан (еще в VI веке) явились в разоренную Европу с чисто просветительскими целями. Да и в Ирландских сагах поэтическое название Ирландии звучит как «Западный Мир». Им принадлежит заслуга «воспитания и образования» неотесанных английских и европейских королей и рыцарей. Ими основаны известные монастыри (Люксейль и Санкт-Галлен), являвшиеся, по сути дела, главными культурными центрами Европы. В Ломбардии под покровительством королевы-католички Теоделины они создали аббатство Боббио, располагавшее впоследствии богатейшей античной библиотекой. Так вот, именно этот, культурнейший и благородный народ безжалостно растоптали англичане. На века пролегла между ними и ирландцами межа недоверия и неприязни. В Лондоне, в здании, где размещалось английское купечество, состоялась «лотерея». Разыгрывались участки земель в покоренной Ирландии. Деньги вступительного взноса за право участия в этой «игре» принимались только от англичан и шотландцев протестантского вероисповедания. Ирландцы же (католики) к «лотерее» не допускались.[264] О методах воздействия английских колонизаторов красноречиво говорит такой факт. В XVI веке в Ирландии, согласно статистике, насчитывалось 1,5 млн. ирландцев (до усмирения ее армией Кромвеля). После же высадки английской королевской армии в 1650 году и устроенной ею резни ирландцев в собственной стране осталось всего 600 тыс. человек. Две трети населения Ирландии было полностью уничтожено. Лорд-протектор издал «гуманный» приказ: правами английского гражданина награждаются лишь те ирландцы, что доставят «головы двух своих соотечественников или хотя бы одну голову католического священника». Вы скажете, что перед нами акт невиданного геноцида. Да, это так. Сервантес абсолютно прав, сказав: «Жестокость не может быть спутницей доблести». Ту же политику геноцида видим в просвещении. В страшных, тяжелейших условиях обучались дети изгнанных со своих земель ирландцев. Приходилось буквально по крохам и крупицам собирать знания. Странствующие учителя (а другие были вряд ли возможны при английском господстве) занимались с детьми бедняков «под изгородью или в полях». В это время дозорные охраняли их от английских шпионов. Жизнь учителя в Ирландии была в те времена горше хмеля. Видный ирландский историк Т. А. Джексон писал о страшной практике Британии тех лет: «В случае поимки таких «подпольных» учителей им угрожала виселица или ссылка на каторгу по обвинению в государственной измене, а в лучшем случае – порка за бродяжничество. Платой за их труд было место у огня, ночевка на сеновале; с ними делили обед, для них собирали между собой одежду и мелкие деньги – сколько удавалось сообща наскрести. В них видели последних уцелевших хранителей одного из живых источников древнегэльского социального уклада, и в любой хижине в любое время они могли рассчитывать на сердечный прием. Многие из них в самом деле были потомками целых династий летописцев, хранителей родословных, учителей, брегонов, бардов, рассказчиков легенд того или иного клана; и если живая струя гэльской культуры никогда не иссякла, то лишь благодаря странствующим учителям и тем, кто давал им приют. Вместе с приходскими священниками эти подпольные учителя наряду со странствующими поэтами и музыкантами поддерживали искру гэльского огня в среде беднейших землепашцев, не отличавшихся в глазах англичан от домашних животных».[265] Даже хваленая английская культура стремилась всячески принизить и оскорбить ирландца, его язык, традиции, его народ. Они поступали точно по методе вздорной и подлой леди Дэшфорт, героине романа М. Эджворт «Вдали отечества». Она старалась вредить ирландцам, где только было возможно, стремилась посеять в людях «презрение и отвращение к Ирландии и всему ирландскому», внушить к ней неприязнь или, по крайней мере, всячески унизить ирландцев в глазах английского общества. Даже в XIX в. ирландцам неоднократно приходилось испытать буквально на своей шкуре жестокость и алчность англичан… Вот что писали о жизни ирландцев в конце XVIII в.: «Ирландцы в состоянии экспортировать (зерно в 1789 г.) лишь потому, что подавляющее их большинство не потребляет хлеба вовсе. Из страны вывозят не избыток, а то, что везде в иных странах считалось бы необходимым. На трех четвертях сего острова народ довольствуется картофелем, а в северной части – кашей из овса, из коей они делают сухари, и похлебкой. Таким-то образом бедный, но привыкший к лишениям народ кормит нацию (Англию), каковая имеет куда более природных богатств, нежели он сам». А события последующих лет («великий голод» 1845–1850 годов) даже породили поговорку: «Провидение погубило картофель, а Англия создала голод». В 1847 г., когда сотни тысяч людей умирали с голоду, под охраной английских войск из Ирландии вывезли пищевых продуктов на сумму 17 млрд. фунтов стерлингов. И те полтора миллиона людей, погибших в течение этих лет, пишет историк, «умерли не от голода, а были убиты арендной платой и прибылями предпринимателей».[266] Правительства англосаксов представляют безжалостную, тупую и позорную силу. Хотя когда-то говорят, у англосаксов существовал институт, получивший у историков название «уитенагемоты» (от древнеанглийского – witena gemot), то есть собрания мудрых. Все это в прошлом. Так что огромное число бедняков в Ирландии всегда было готово дружно (в один голос) подхватить знаменитую песню Р. Бернса, получившую название «Честная бедность», где высмеивается английская знать, её верхушка – «бревно» (да у кого их нет – «бревен-то»!?): Кто честной бедности своей Перевод С. Маршака Несчастные ирландцы массами устремлялись в Канаду и Америку. И оттуда посылали уже проклятия «доброй Старой Англии». Население Ирландии уменьшилось с 8170 тыс. в 1841 г. до 4700 тыс. в 1891-м, и за тот же период посевная площадь зерна там снизилась с 1,2 млн. до 600 тыс. гектара. Небольшие земельные участки были жесточайшим образом очищены от мелких фермеров, а на их основе (sic!) созданы крупные капиталистические хозяйства (а вовсе не наоборот, как стараются проделать варвары плутократии в ельцинской России).[268] Внушительный счет могла бы предъявить англичанам и свободолюбивая Шотландия. В конце XIII века англичане, обескровив эту красивейшую горную страну, сделали ее своим вассалом, отняв право жить по законам предков. Лишь мужественный и непоколебимый дух народа, возглавляемого Уильямом Уолесом, позволил тогда разбить интервентов и выдворить их из страны. Писатель Т. Смоллет (1721–1771) бичевал всю беззастенчивость и подлость английских королей и знати, не раз вторгавшихся в Шотландию с карательными экспедициями. Его даже прозвали «исследователем темных душ». «Темная душа» английского завоевателя предстает со страниц многих его романов, а также исторических и поэтических трудов («Слезы Шотландии», 1746). Будучи шотландцем по происхождению, Смоллет терпеть не мог жестоких и безжалостных англичан, что поставили под запрет национальные обычаи и культуру великого народа. В одном из его романов устами героя он говорит, что Англия – «худшая страна во всем мире для пребывания в ней достойного человека».[269] Не стану утомлять читателей перечнем пороков англичан. Они в конце концов есть у всех. Но каковы уроки морали и нравственности, проповедуемые тут? Ведь, с давних времен известно: «Qui proficit in litteris, sed deficit in moribus, plus deficit quam proficit» (лат. «Кто преуспевает в учености, но лишен нравственности, более теряет, чем приобретает»). Какие же «уроки нравственности и морали» сумели преподать английским юношам почтеннейшие отцы семейств? Английская система воспитания явила миру не лучшие черты, подтверждая справедливость высказывания лорда Шефтсбери: «Самый изобретательный способ поглупеть – это следуя системе». Описывая взгляды правящей элиты Великобритании XVIII в., американские историки Чарльз и Мэри Бирд отмечали наличие в английском обществе варварского уголовного кодекса, ограниченной и снобистской университетской системы. К негативным сторонам британской жизни относили жестко навязанную государством религию, лицемерие презрение власть имущих к людям труда, запрет на серьезное и всестороннее образование широких народных масс».[270]  Роберт Бернс. Чему научает сына аристократ граф Честерфилд (1694–1773), бесспорно «муж редких дарований» (его полное имя – Филип Дормер Стенхоп)? Сам батюшка-граф получил по тем временам превосходное образование (в Кембридже), читал и переводил с одного языка на другой (английский, французский, латынь). К сожалению, учеба сделала из него педанта, просвещенного и карьерно-суетного. Подводя итоги своего пребывания в университете, он писал: «Когда я хотел быть красноречивым, я цитировал Горация, когда я намерен был шутить, я пытался повторять Марциала, когда я хотел казаться светским человеком, я подражал Овидию. Я был убежден, что только древние обладали здравым смыслом и что в их произведениях заключалось все то, что могло бы быть необходимым, полезным и приятным для человека». Поклонение древним, конечно, грехом не назовешь. Знаменательно (для понимания психологии британца) выглядят уроки светского воспитания и чиновной мудрости. Вот уж где торжество двуликого Януса! Почтенный муж, не стесняясь и не терзаясь угрызениями совести, подаёт отпрыску (в «Письмах к сыну») уроки высшего лицемерия и карьеризма, говоря: «Помнится, когда я учился в Кембридже, педанты этого затхлого учебного заведения приучили меня свысока относиться к литературе, все презирать и над всем смеяться. Больше всего мне хотелось что-то доказывать и с чем-то не соглашаться. Но достаточно мне было даже бегло ознакомиться со светом, как я увидел, что все это никуда не годится, и сразу же резко изменил свое поведение: я стал скрывать свои знания; я рукоплескал, не одобряя в душе, и чаще всего уступал, не будучи убежден, что это именно то, что я должен сделать…» А вот еще ряд откровенных советов, вероятно, еще более полезных для лавирования в коридорах власти (всех времен): «В светской жизни манеры человека должны быть гибкими, так же как в жизни политической гибкими должны быть его таланты. Часто надо бывает уступить, для того чтобы достичь своей цели, унизиться – для того чтобы возвыситься; надо, подобно апостолу Павлу, стать всем для всех, чтобы завоевать расположение некоторых… Живя в свете, надо иногда обладать переменчивостью хамелеона и даже развивать в себе эти качества несколько больше и несколько раньше пустить их в ход, потому что тебе придется в какой-то степени принимать окраску мужчины или женщины, которые тебе нужны или с которыми ты хочешь завязать близкие отношения».[271] С. Джонсон высказался в отношении писем Честерфилда крайне резко: «Они учат морали шлюхи и манерам учителя танцев». Надо ли удивляться, видя, как лидеры Англии легко сочетают эту мораль с преступными наклонностями и лицемерной готовностью быть провозвестниками устоев мира! Элите Британии присущи пороки (как и «элите» России). Места в стране покупались. Голоса членов парламента приобретались в обмен на пенсии. Шеридан отмечал, что на эти цели транжирятся «такие громадные суммы, на которые можно было бы обеспечить средствами к жизни всех трудящихся бедняков». Открыто продаются дворянские звания. Премьер У. Питт-Младший ухитрился пожаловать звание пэра 140 претендентам. Это была новая «плебейская аристократия», куда попадали «новые богачи», безвестные сквайры, хваткие дельцы, скотопромышленники. Глава правительства «вылавливал» их в коридорах банкирских домов, вытаскивал из недр бухгалтерий.[272] Когда же к иным героям обращали упрек в бессовестности и продажности, чиновники отвечали тяжким вздохом, да словами небезызвестного мистера Шенди, героя романа Лоренса Стерна. Тот не без ехидства говорил в таких случаях: «Вы кричите, что мы погибший, конченый народ. – Почему? – спрашивал он, пользуясь соритом, или силлогизмом Зенона и Хрисиппа, хотя и не зная, что он им принадлежал. – Почему? Почему мы погибший народ? – Потому, что мы продажны. – В чем же причина, милостивый государь, того, что мы продажны? – В том, что мы нуждаемся, – не наша воля, а наша бедность соглашается брать взятки. – А отчего же, – продолжал он, – мы нуждаемся? – От пренебрежения, – отвечал он, – к нашим пенсам и полупенсовикам. Наши банковые билеты, сэр, наши гинеи, – даже наши шиллинги сами себя берегут».[273] Бедность – не порок! Но только, не в Англии и России! Сколько же иронии и одновременно скрытой апологии в этих словах Стерна (точно так же наша «демократия» оправдывает правление коррупционеров). Вот тогда-то государственный корабль Британии начал давать крен и течь. Известно высказывание лорда Честерфилда: «Позаботься о пенсе, а уж фунт позаботится о себе сам». Жаль, почтенный лорд не одарил нас притчей: «Всякий фунт, не попавший в карман чиновника у власти, потерян для человечества». Не менее критично к системе власти в Англии относился упомянутый Д. Рикардо. Он явно не был в восторге от своего парламента (как от нижней, так и от верхней палаты). Экономист требовал переизбирать депутатов чаще, ибо это давало бы возможность народу «обеспечить постоянное внимание к интересам народа». Сколько же можно терпеть в Палате общин столь некомпетентных людей: «Но неужели мы никогда не будем иметь хорошей палаты общин из-за того, что ее никогда не было раньше? Народные массы владеют теперь настолько большим количеством знаний, чем когда-либо прежде, что имеют право на лучшее представительство в парламенте, чем в прежние времена». В душе он понимал все несовершенство Британской системы, представлявшей собой ящик с тройным дном. Народу не позволяют заглянуть внутрь. Ему показывают фокус с займом (траншем), что тут же по мановению банкира, министра, премьера, вдруг, исчезает. И поминай как звали! Честному человеку путь наверх закрыт (в министры, парламентарии и т. п.). Рикардо прямо говорит, со ссылкой на премьера Англии (1823): «Питт, в то время, когда он был другом парламентской реформы, сказал, что при такой палате общин для честного человека невозможно быть министром. Он придерживается такого же мнения. Он не говорит, что министры не хотят действовать честно, но они обязаны искать совета у людей, враждебных интересам народа, и принимать меры, противоречащие интересам народа. Каковы бы ни были их личные симпатии, они не могут поступать иначе, ибо чувствуют, что благодаря особенной конституции этой палаты они были бы вышвырнуты в одну неделю, если бы осмелились действовать честно».[274] Что же касается состояния физического здоровья тогдашнего светского общества, об этом можно наглядно судить по сценке из книги английского писателя О. Шервина… Книга эта посвящена писателю Шеридану, автору знаменитой «Школы злословия». В Англии те годы называли не иначе как «хмельной эпохой»… Дело в том, что британцы пьянствовали почти все поголовно – и стар и млад. Причем, чем выше был сан и должность, тем чаще ударялись в запой. Королевское семейство и высшая знать так просто спивались (хотя король был скорее исключением из правил). Карикатуры тех лет изображают наследных принцев, министров, премьеров, депутатов, хлещущих спиртные напитки как минеральную воду в какой-нибудь Сахаре. Умный пил, стараясь еще более оживить свое воображение и речь, ловелас пил, желая увлечь даму, дурак же в силу природной тупости и ограниченности. «Отец английской поэзии» Джеффри Чосер, сын виноторговца (1340–1400), знавший нравы и порядки британской глубинки, оставил в назидание потомкам шарж, которым остряки-англичане разбавляют порцию виски: Кто пьет вино, тот стал на путь разврата. Крепко зашибал в молодости полководец Веллингтон, победитель Наполеона. Герцог Норфолкский, упившись в усмерть, валялся на улице, так что прохожие приняли его за мертвеца. Шеридан, хотя и «боролся» с зеленым змием, но, откровенно говоря, без особого успеха. Вскоре пара бутылок крепкого портвейна стали для него «легкой разминкой». Не без успеха выступали на этом ристалище парламентарии. Спикер ни в чем не уступал своим друзьям по партии. Часто его видели в палате общин за баррикадой из кружек с крепчайшим портером. Ясное дело, что и глава государства (главнокомандующий) никак не мог в столь серьезнейшем «сражении» дать слабину. Это значило – пасть в глазах друзей по партии и «их дому». На фронтонах английских правительственных резиденций, парламентов, министерств, банков, мэрий давно уже пора выгравировать девиз, некогда украшавший шекспировский театр «Глобус»: «Totus mundus agit histrionem» (лат. «Весь мир играет комедию»). Хотя в отношении нынешних властей Британии, возможно, несколько уместнее иное выражение – «ломать комедию». Английская газета «Морнинг кроникл», не пожалев красок, расписала и славные подвиги Питта-Младшего. С банкета, устроенного Кентерберийским муниципалитетом, он шел к карете, шатаясь «подобно его собственным законопроектам». В те развеселые времена в Англии у политиков в ходу шутливая реприза: Куда наш спикер скрылся? От политиков не отставали отцы церкви, пустившись в развеселую жизнь (в 1802 г. им было дозволено не бывать в приходах постоянно). Из 10 тысяч приходов англиканской церкви половина не имела постоянного священника. От былого пуританизма святых отцов остались лишь смутные воспоминания. Ну чем не достойный пример для нашей «демократии», стремящейся во всем уподобиться Европе! Почтенные парламентарии, как и их оппоненты наверху, монархические особы и премьеры, дружно облевывали помпезные троны, резиденции, царские палаты, парламентские скамьи (но боже упаси, не свято чтимые законы страны, ни-ни)… Так что нет оснований приукрашивать нравы британского общества. Б. Шоу в адрес членов парламента сказал: «Алкоголь – очень важная штука.… Благодаря ему парламентарии занимаются в одиннадцать вечера тем, чем ни один нормальный человек не станет заниматься и в одиннадцать утра».  Уильям Хогарт. Улица Пива. Гравюра 1751 г. Однажды немецкий писатель Г. Бёлль сказал в отношении ирландцев: «Ежегодно через каждую ирландскую глотку протекает маленькое озеро чая».[276] Вряд ли будет преувеличением сказать в отношении англичан то, что ежегодно через каждую английскую глотку протекает нечто вроде «маленького озерца виски», не считая целого моря пива. Став империей, Великобритания получила возможность завозить в страну и всякого рода колониальные деликатесы и товары. Англичане пристрастились к кофе. Джонатан Свифт шутил: «Многие по глупости принимают шум лондонской кофейни за глас народный». Впрочем, пора перенестись из дворцов, парламентов, университетов в сельскую местность. Там протекала подлинная жизнь народа (с ее грузом проблем). Обратимся к роману Гарди «Мэр Кэстербриджа. История человека с сильным характером», как раз и описывающему эту жизнь. В романе дана история возвышения и падения мэра одного из английских городков. Факт перехода батрака и вязальщика сена Майкла Хенчарда в мэры сам по себе знаменателен. О его морали говорит то, что будущий мэр попав на деревенскую ярмарку и поев каши с ромом, захмелев от варева, решает продать свою жену: «А за пять гиней я продам ее любому, кто согласен заплатить мне и хорошо обращаться с ней. И он получит ее на веки вечные, а обо мне никогда и не услышит! Но за меньшую сумму – не пойдет! Так вот: пять гиней – и она ваша!» С типично английским цинизмом он, еще не мэр, уступает ее моряку за небольшую сумму. Минуло время… И вот мы в Кэстербридже, куда забрела его бывшая жена с уже выросшей дочкой (муженек продал её вместе с дитем). Оказалось, муж успел выбиться в мэры, разбогатев неясно каким способом. «Честная торговля не приносит барыша – в нынешние времена, богатеют только хитрецы да обманщики!» – говорит один из персонажей. А как же живет народ при этом мэре? Спросив, где в городе находится булочная (чтобы поесть), героиня получает ответ: «В Кэстербридже теперь на хороший хлеб так же трудно рассчитывать, как на манну небесную, – ответила одна из них, указав им дорогу. – Они могут трубить в трубы, бить в барабаны да задавать пиры, – она махнула рукой в сторону улицы, в глубине которой можно было разглядеть духовой оркестр, расположившийся перед освещенным домом, – а нам, хочешь не хочешь, приходится мириться с тем, что в городе не сыщешь пропеченного хлеба. Теперь в Кэстербридже хорошего хлеба меньше, чем хорошего пива». Далее видим мэра, занявшего высокое общественное положение. «Столп города!» Вот он сидит за столом, упитанный, во фраке и манишке, которую украшают драгоценные камни и тяжелая золотая цепь. К удивлению бывшей жены, в его хрустальные бокалы никто не наливает ни вина, ни водки… Оказывается, он дал обет на Евангелии и не пьет, являясь членом Общества трезвости. Образец святости! Поначалу мэру во всем сопутствует успех. К любой выгодной и крупной сделке он «прикладывает руку». Конец истории, пожалуй, знаменателен. Наступает время выборов… Мэр вынужден вступить в жесткое предвыборное соперничество. А так как на селе все зависит от урожая, он идет к вещуну, предсказателю погоды (по-нашему, к самому что ни на есть маститому астрологу-политологу). Этот жулик, нимало не смущаясь (а до того у него уже побывало пятеро фермеров из разных мест), уверенно предсказывает мэру, что «вторая половина августа будет дождливой и бурной». Он говорит: «Осень в Англии будет напоминать Апокалипсис. Хотите, я начерчу вам кривую погоды?» Всезнайка оказался провидцем, хотя и надул мэра. Все планы о возвращении во власть, грядущем триумфе оказались построены на песке. В результате, как говорится, «смертельного коммерческого боя» тот погиб. Мэр разоряется и умирает, одинокий и горемычный, в Эгдонской степи… Т. Гарди включил эту вещь в серию, названную им «Романы характеров и среды».[277]  Питт Младший. И все же налицо отличие английского «правительства всех талантов» от стран, где наверху заняты лишь собственной карьерой и обогащением. У британцев есть чувство родины. Глава правительства Великобритании У. Питте был неподкупен и руководствовался национальными интересами. Воздадим должное У. Питту-Старшему (1708–1778), что проявил себя в делах управления с самой лучшей стороны, будучи сначала министром иностранных дел, а затем и премьер-министром Великобритании. При его правлении страна одержала победу в Семилетней войне (1756–1763) против Франции, главенствуя в колониальной политике и торговле. У. Питт делал ставку на патриотизм англичан. В критические моменты, пишут историки, «его рука, голос и глас были вездесущими». Такого политика, естественно, поддерживала Палата Общин, хотя он и не имел своей партии. В стране его почтительно называли «великим коммонером». Дело его продолжил У. Питт-Младший (1759–1806). Символичны последние слова У. Питта-Младшего, сказанные им уже на смертном ложе в 1806 году: «О, моя родина – как же я покину мою родину?!» Иные же правители, видимо, будут покидать сей бренный мир с жалкой и подлой мыслишкой: «О, мои капиталы – сумел ли я достаточно ловко и быстро ограбить «мой любимый народ» и унизить свое отечество!?» Невольно хочется позавидовать Британии, что имела когда-то таких великих премьеров как Питт-Старший и Питт-Младший. Именно У. Питт-Младший восстановил равновесие английских финансов, нарушенное войной в Америке. Доходы государства в 1791 г. достигли 16750 тыс. фунтов, на 500 тыс. фунтов выше средневекового дохода за предыдущие четыре года. Он делает все, чтобы уменьшить государственный долг, понимая, что это цепи на руках и ногах нации. При нем ресурсы бюджета возрастают. Наблюдается постоянное сокращение некоторых налогов, обременявших бедные классы. Стоит особо обратить внимание на то, в чем он видит причины растущего процветания страны. Он говорит: «Если, рассмотрев статьи доходов, мы перейдем к более непосредственному изучению ресурсов нашего процветания, мы обнаружим их в соответствующем росте наших мануфактур и торговли… Экспорт изделий английских мануфактур становится все более значительным и решающим критерием торгового преуспеяния».[278] Конечно, У. Питт-Младший – «восторженный последователь Адама Смита», но это и прекрасно. В итоге, как мы знаем, Франция, связанная по рукам и ногам монархическими путами, свалилась в политическую революцию, а Британия вошла в экономических подъем и промышленную революцию. Как жаль, что в России в конце XX века власть попала не в руки деловых и серьезных людей (промышленников, ученых, изобретателей), а оказалась служанкой у прохвостов и демагогов. Как видим, у английской правящей верхушки были и другие сильные стороны. Она предпочитала залезать в долги, но берегла «жизненную основу нации» (армии коалиции против Наполеона стоили бешеных денег, но сохраняли жизнь англичан). С трепетом старой няньки, оберегающей обожаемое чадо, тут сохраняли и лелеяли интеллектуальную и профессиональную элиту. Свой вклад в становление английской системы образования вносят многие гуманисты… С 1785 г. здесь действовало Sunday School Society (Общество воскресных школ). В школах этой организации обучалось 2 млн. человек (1851). Существовали и религиозные общества, где обучение шло по ланкастерской системе. В конце XVIII в. возникло обучение детей с физическими недостатками. Открылись первые школы для слепых в Ливерпуле и Лондоне. В середине XIX в. возникли вечерние школы. Согласно переписи 1851 г. в Англии и Уэльсе насчитывалось 1545 таких школ с 40 тыс. слушателями. В них обучались преимущественно представители низших и средних классов (ремесленники, клерки, продавцы). Большинство населения к 1880 г. имело лишь 2–3-классное образование. Христианские социалисты учредили Рабочий колледж в Лондоне (с Ф. Д. Морисом в качестве принципиала). Среди добровольных учителей наиболее известны имена Дж. Рескина, Д. Россети, Л. Стефена, Ф. Харрисона и других. В 1874 г. возник колледж для работающих женщин. Их усилия поддержаны образовательными сообществами Кембриджа и Оксфорда. Другое дело, если обратить взор на состояние образования и культуры трудящихся масс. Число просветительских учреждений для этой категории невелико. Конечно, есть ряд дневных школ, в принципе, доступных рабочему классу, но, как правило, плохо посещаемых. Учителей лишены элементарных знаний. Обязательное школьное обучение отсутствует. Cистемы государственного начального образования, то ее практически не существует вплоть до 1870 года. Англия в этом звене обучения заметно отстает от других европейских стран. Из бюджета правительства (в 55 млн. фунтов стерлингов) на народное просвещение выделяется ничтожная сумма (всего 40 тыс. фунтов стерлингов). Жизнь бедняков безумно трудна. Во второй половине XIX в. половина детей из бедных семей умирала, так и не дожив до 5-летнего возраста. В то же время уровень политической грамотности рабочих Англии вырос: «Итак, мы видим, что сделали буржуазия и государство для воспитания и просвещения рабочего класса. К счастью, самые условия жизни этого класса таковы, что они дают ему своего рода практическое образование, которое не только заменяет весь школьный хлам, но и обезвреживает связанные с ним вздорные религиозные представления и даже ставит рабочих во главе общенационального движения Англии. Нужда учит молиться и – что гораздо важнее – мыслить и действовать. Английский рабочий, который почти не умеет читать и еще меньше писать, все же прекрасно знает, в чем заключаются его собственные интересы и интересы всей нации; он знает также, в чем заключаются специальные интересы буржуазии и чего он может от этой буржуазии ожидать. Пусть он не умеет писать, зато он умеет говорить и говорить публично; пусть он не знает арифметики, зато он достаточно разбирается в политико-экономических понятиях, чтобы видеть насквозь ратующего за отмену хлебных пошлин буржуа и опровергнуть его; пусть для него остаются совершенно неясными, несмотря на все старания попов, вопросы царства небесного, зато тем яснее для него вопросы земные, политические и социальные» (Ф. Энгельс).[279] Борьба народа за свои права дала результат. Войны, что вела Британия, требовали умелых солдат и моряков. Мы видим тут немало интересных, «эпических фигур». Одной из них был знаменитый Джон Черчилль, герцог Мальборо (1650–1722), одержавший ряд громких побед. Он не потерпел ни одного серьезного поражения. Это был талантливый полководец, человек хладнокровный, проницательный дипломат. В сложной игре, которую во все времена вынуждены вести политики и военные, от них порой требуется не только личная храбрость, но и умение переиграть противника. Бывает, что к месту сказанное слово, улыбка, уважение, даже лесть могут оказать большее воздействие, чем операции целых армий. В этом Мальборо был неподражаем и, как пишет Е. Черняк, умел льстить бездарным союзным генералам, уламывать комиссаров голландских Генеральных штатов, ловко обхаживать тщеславных германских князей. При этом он даже не стеснялся приписывать их увядшим матронам «прелести Венеры, а их не видевшим поле боя мужьям – таланты Александра Македонского». Английский историк Маколеу говорил, что Джон Черчилль принадлежал к числу деятелей, считавших верность убеждениям признаком тупоумия, честность – вздором, а патриотизм – пустым звуком. Мальборо «превосходил в этом отношении всех политиков своего времени». Так сказать «венцом» его коварства стала выдача плана тайной экспедиции, подготовленной Вильгельмом против Бреста, тому, кому он изменил еще раньше (Якову II). В результате эта экспедиция кончилась полным провалом, и более тысячи английских солдат сложили свои головы на берегу Франции. Так Мальборо сотворил «свой Дюнкерк». Поэтому упреки в его адрес Свифта, Поупа, Теккерея, Маколея имеют под собой почву. Буржуазия сделала из него героя, ибо он любил деньги (приобрел на 10 тыс. фунтов стерлингов акции только что основанного Английского банка. Известная поговорка XVIII в., касающаяся британских войск гласит: «это армия львов, предводительствуемых ослами». Однако эта армия умела и умеет мужественно и отважно сражаться, когда это необходимо.[280] Что же касается «ослов» во главе, они есть везде, во всех слоях общества, кланах, профессиональных стратах и группах. Ведь даже Наполеон при нападении турецких войск на его армию в Египте однажды воскликнул: «Ослов и ученых в центр – и защищать по периферии всячески». История великолепного Горацио Нельсона (1758–1805) «спасителя нации», героя Абукира и Трафальгара, отвечает духу той героической и прагматической эпохи. Происходил из знатной семьи (в его роду премьер-министры, известные моряки). С ранних лет он мечтал о море. Хотя отец его, Эдмунд Нельсон, имел честь учиться в Итоне и Кембридже, сын проявил полное равнодушие к наукам. Зато выделялся особой дерзостью. Большое влияние на его судьбу оказал брат матери, капитан М. Саклинг, прославивший победами над французами в Вест-Индии. После смерти матери Нельсон обратился к дяде с просьбой помочь устроить его морскую карьеру (в 12-то лет!). С типично английским юмором дядя ответил отцу так: «Чем провинился бедный Горацио, что именно ему, самому хрупкому из всех, придется нести морскую службу? Но пусть приезжает. Может, в первом же бою пушечное ядро снесет ему голову и избавит от всех забот». 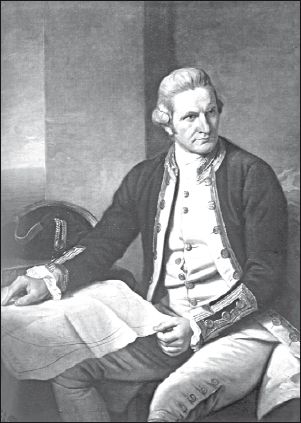 Джеймс Кук. В Англии моряки начинали нести службу рано… Многие были вынуждены оставлять учебу. Возможно, из морских офицеров не выходили люди особой учености, но дело свое они делали исправно. «Морская жизнь требует натур восприимчивых, гибких, и слишком большой запас учености при начале карьеры может иногда сделаться скорее обременительным, нежели полезным, потому что в ней нужно очень многому учиться из собственного или чужого опыта». Среди них был мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779), сын батрака-поденщика. Нельсон не был силен в знаниях. Не соблюдал правил грамматики, писал с ошибками. Но стиль его писем выразителен и энергичен. Один из его биографов так характеризует его «культурный багаж»: «…Нельсон мало чем интересовался, кроме моря. Он не был начитан, он проявлял очень мало интереса к политике и совершенно не интересовался искусством… В начальной школе Нориджа он получил начатки классического образования… И все же ни один человек никогда не писал лучших писем… Никто никогда не был так откровенен на бумаге, и никогда не было написано так много писем таким естественным стилем, свободным от фальшивых комментариев…»[281] Слабая грамотность и равнодушие к науке не помешали ему стать адмиралом, национальным героем. Вовсе не обязательно быть отличником, чтобы храбро служить Отечеству! Юноша сразу проявил себя как волевой и смелый моряк. Во время экспедиции за Полярный круг он дерзко пошел на белого медведя (ему было 14 лет). Затем он перенес сильнейший приступ лихорадки, который чуть не отправил его на тот свет (в Индии). Одно время его посещали сомнения. Удастся ли карьера? Он вспоминал: «Сначала меня донимало чувство, что я ничего не добьюсь в своей профессии. Голова шла кругом от тех трудностей, которые мне придется преодолевать, интерес к службе почти пропал. Я не видел способа достижения своей цели. После долгих мрачных раздумий и даже желания выброситься за борт во мне вдруг зажглось пламя патриотизма: я представил себе, что мне покровительствует сам король и вся страна. «Ну что ж, – воскликнул я, – я стану героем, и Провидение поможет мне преодолеть любые опасности!» Оставим описание военных подвигов флотоводца военным историкам. В морском деле можно запросто запутаться (в мире пушек, кливеров, галсов). Расскажем историю романтичной любви Горацио к Эмме Гамильтон, женщине, чья красота порабощала мужчин. Лорд Гамильтон, сочетавшийся впоследствии с ней браком, познакомился с 19-летней Эммой вскоре после смерти жены (1784). Эмма пользовалась шумной славой, выступая едва ли не главным действующим лицом «Храма здоровья», где заправлял врач-самозванец Д. Грэхем, лечивший от бесплодия и импотенции. Как происходило славное действо? Меж стеклянными столбами и магнитами на звездном ложе вольно восседали едва прикрытые одеждой молодые «жрицы», среди которых титул «Богини здоровья, красоты и мудрости» носила прелестная Эмма. Говорят, ее облик и возбуждающе откровенные красноречивые движения оказывали совершенно ошеломляющее воздействие на пуритан. Британцы, любя женщин и выпивку (понятные нам слабости), порой были готовы проявлять ненужный пуританизм там, где не требуется. К примеру, хотя Англия приютила великого Генделя, нашедшего тут свою славу (он «поставлял» оперы Георгу I, придворным композитором которого был), отношение к музыкальному искусству в XVIII в. оставалось сложным. Дж. Казанова писал так о царивших в Лондоне нравах: «Это (парк Св. Джеймса) было единственное место, где разрешалось музицировать, так как парк находился под покровительством королевского дома. В других местах строжайше запрещалось давать концерты. По городу сновали шпионы, задачей которых было выискивание источников «музыкальных шумов», доносившихся из салонов. Если у них возникало малейшее подозрение, они прятались вблизи дома и при первой возможности проникали внутрь, чтобы арестовать непослушных христиан, позволивших себе воскресное музицирование». Однако посещение борделей не встречало возражений у властей или со стороны записных моралистов (власти и моралисты сами там бывали). Итак, толпы возбужденных старых и юных развратников заполоняли собой «Храм». Среди них было немало морячков. Эмма развлекала гостей, танцуя на столе в обнаженном виде… Вскоре она стала содержанкой Ч. Гренвилла, с которым и прожила четыре года. В конце концов, тот уступил ее дядюшке, лорду Гамильтону, при условии, что тот сделает его наследником. В итоге стареющий дипломат женился-таки на девушке (невесте было 26 лет, ему – 71 год). Для людей, обладающих элементарным благонравием, такой поступок был бы чреват немалыми осложнениями. Даже Казанова заметил по поводу этого брака с явным сожалением: «Он (Гамильтон) был умным человеком, но кончил тем, что женился на молодой женщине, которая сумела его околдовать. Такая судьба часто ждет интеллектуала в старости. Женитьба – это всегда ошибка, а когда умственные и физические способности человека идут на убыль – это уже катастрофа». Чем меньше сил, тем громче зов искушения (и бес соблазна!). Однако не будем святее папы – чрезмерными блюстителями нравственности.… Представим себе, что мог чувствовать опытный дипломат и старый «морской волк», увидев это чудо красы неземной! Добавим, что силу её обаяния испытали на себе Гете, писатель-романист Х. Уолпол, король Фердинанд, художник Ромни, да и многие другие. Что же касается мужа, искренне любившего Эмму, тот в шутку даже говорил, что Неаполь (где он был послом) – город, куда можно завлечь перспективой переспать с женой английского посла. Да, пожалуй, британец скорее готов уступить жену, чем самую малую крупицу счёта в банке. Нельсон, бороздивший моря и океаны, сражавшийся против французов везде, где только можно, как-то оказался в Неаполе. К тому времени он уже был женат на Фанни Нисбет. Его друзья-моряки не одобряли женитьбы, говоря: «Когда такой офицер вступает в брак, это потеря для всей нации». В яростных морских битвах с испанцами и французами адмирал, наряду с рукой, лишился и глаза. Но это не помешало ему обратить единственное пылающее страстью око на Эмму. Их встреча произошла в Неаполе (1798). Нельсону тогда было 40 лет. Он в зените славы. В восторге от оказанного приема он пишет своей жене о леди Гамильтон («Это одна из самых лучших женщин в мире»). Отношения адмирала и леди Гамильтон долгое время были скорее чисто платоническими, что свидетельствует о романтическом характере их чувств (хотя оба и не были новичками в любви). Наконец, о долгожданный и сладостный миг, они перешли тонкую грань платонической любви и стали возлюбленными. Это была любовь, принесшая Нельсону двойню от божественной Эммы (выжила лишь дочь Горация). В письме к любимой он говорил: «Ты знаешь, дорогая Эмма, нет в мире ничего такого, что я не отдал бы за возможность совместной жизни и ради того чтобы наше дорогое дитя было с нами». В Англии они прекрасно ладили в поместье сэра Уильяма в Мертоне. В ходе Трафальгарского сражения Нельсон был смертельно ранен. Последними его словами стала просьба: «Помните, я оставляю леди Гамильтон и мою дочь Горацию на попечение моей страны». Что же Британия? Она, не единожды превозносившая героя на словах, воздвигшая ему памятник, тотчас же забыла о предсмертной просьбе героя. Такова суть Британской империи, как вообще почти всякой империи. У них нет сердца. 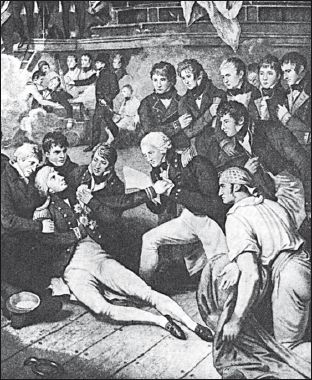 Раненный в сражении при Трафальгаре Нельсон на палубе «Виктори». Слава участника 124 сражений, победителя при Абукире, перечеркнувшего планы Бонапарта захвата Индии и превратившего Средиземное море почти что в «английское озеро», героя Трафальгара, до сих пор живет в сердцах англичан. Вблизи испанского мыса Трафальгар (1805), английский флот под командованием Нельсона нанес сокрушительное поражение объединенным флотам Франции и Испании. Нельсон в парадном мундире, словно предчувствуя роковой для него итог битвы Перед битвой он передал всем офицерам и матросам сигнал: «Англия верит, что каждый исполнит свой долг». Началась битва, продолжавшаяся более трех часов. Победа англичан была полной и сокрушительной, но славный адмирал Нельсон пал от пули, перебившей ему позвоночник. Итог битвы таков: отныне Англия властвовала на море, и все планы вторжения Наполеона на остров были окончательно перечеркнуты.[282] Великий Нельсон как воин и гражданин куда значительнее, чем Веллингтон. Это обстоятельство признавал и Байрон в своем «Дневнике»: «Нельсон был героем, а тот, другой – всего лишь капралом, разделившим с пруссаками и испанцами удачу, которой он не заслуживал. Он даже – но я так ненавижу этого дурака, что лучше умолкну… Негодяй Веллингтон – любимое детище Фортуны, но ей не удастся прилизать его так, чтобы получилось нечто приличное; если он проживет дольше, его разобьют – это несомненно. Никогда еще Победа не проливалась на столь бесплодную почву, как эта навозная куча тирании, где вызревают одни лишь гадючьи яйца».[283] Как видим, для создания могучей и громадной империи, каковой и стали Британская и Российская империи, надо немало энергии, мужества, отваги, предприимчивости. Британцы это понимали – и следовали этим курсом. Поэтому они никому не позволяли разрушать памятников империи (как писал Байрон: «Ты топчешь прах империи – смотри!»), поныне сохраняя память о деяниях тех лет. Наиболее колоритной и яркой фигурой конца XIX в. стал Сесил Родс (1853–1902). Слава его когда-то была столь велика, что его имя было присвоено двум странам (Южной и Северной Родезии). Пресса называла его «строителем империи», «африканским Наполеоном» и даже «отцом Британской империи». Обратимся к книге А. Давидсона об этом оригинальном «образчике» системы. При описании этой личности обычно используется два цвета. Один из них белый-белый. В таких картинах он предстает в образе великого героя, патриота, гения, чуть ли ни архангела (Твен так и скажет, что для одной части мира он был «архангелом с крыльями»). Другие предпочитали видеть в нем лишь выжигу, циничного дельца, авантюриста, почти что «дьявола с рогами». Однако те и другие отдавали должное его исключительной энергии, решимости, уменью сделать «при помощи денег все, что только можно сделать за деньги». История превращения сына простого викария (отнюдь не аристократа) в премьер-министра, миллионера, создателя известной алмазной компании «Де Бирс» интересна и поучительна. Родители Родса дали жизнь двенадцати сыновьям и дочерям (двое из них умерли еще в детстве). Сесил Родс не отличался крепким здоровьем (страдал чахоткой, болезнью сердца). Образование юноши ограничилось местной гимназией. В школе он увлекался историей и географией, неплохо знал Библию, зачитывался Гомером и Плутархом, Аристотелем и Платоном. В поздние годы он не расставался и с «Мыслями» римского императора Марка Аврелия. У отца денег на привилегированные Итон и Харроу не было. Это глубоко уязвляло юношу. Как бы там ни было, а этот «империалист» до конца дней своих относился к системе образования с глубочайшим пиететом. В статье из российского журнала «Нива» (1902) о нем пишут: «Все свое колоссальное состояние в 150 миллионов рублей он завещал на английские школы и университеты, или, как он выразился, на «поднятие уровня умственного развития Британской империи». Вот с чем пожелал Родс перед смертью связать свое имя, и в светлом ореоле этого неслыханного пожертвования на истинно добрые дела должны померкнуть все черные тени его прошлого».[284] А «черные тени прошлого», конечно же, были, и в избытке. Родс направился в Африку, надеясь обрести там славу, власть и богатство… Смеем думать, что эти три начала и являлись теми «моторами», что возносили к вершинам известности многих героев, представленных в наших книгах. Есть еще, разумеется, очаровательные женщины. Но их влияние на личность (как стимул творчества и величия) чаще встречаем у поэтов, нежели у политиков и предпринимателей. Кто только не направлялся тогда в Америку и Африку. Молодежь тем и прекрасна, что жаждет покорить и завоевать весь мир. Она стремится совершить нечто великое, невиданное. Отвечая на вопрос «Каков ваш девиз?», 13-летний Сесил ответил: «Совершить или умереть!» В Африку он направился по той простой причине, что, якобы, не мог сидеть без дела в 17 лет. Следует добавить, что на юге Африки тогда же обосновался один из его братьев. Первое путешествие чем-то напоминает первую любовь к женщине… Оно, как правило, западает в юные сердца навсегда. Боюсь показаться вульгарным, но тогдашнее морское путешествие Сесила Родса (в окружении конкистадоров, джентльменов удачи и авантюристов) никак не отнесешь к идеальным образцам педагогического опыта. Позже, уже в старости, он сам отмечал, что с этого плавания «началось мое воспитание; моими учителями были игроки, авантюристы и женщины свободных нравов». Они составляли большинство пассажиров. Шлюп вошел в порт Дурбан английской колонии Наталь, населенной зулусами. Что представляла собой тогда Африка в сознании европейцев? Одни считали ее местом, где «умирают» (так посчитал виконт де Бражелон, которого Дюма решил отправить на далекий континент). Иные же увидели в Южной Африке «тихий и счастливый уголок» (как заявит Гончаров с борта фрегата «Паллады»). Тут бурно развертывалась алмазная лихорадка. Пропустим историю подъема Сесиля Родса к вершинам богатства, власти и могущества. Он находил нужных людей, умело используя деньги. А затем уж деньги стали делать деньги. Ему будет сопутствовать удача. Удача немаловажный фактор для достижения успеха. Удача и воля. Чего-то не хватило его брату (тот погиб в результате пожара и взрыва бочонка виски). Иные гибли проще: в результате «винного пожара», сжигавшего их как бы изнутри. За редких женщин шла ожесточенная битва. Но чаще, конечно, гибли за золото, серебро и драгоценные камни. Ведь это и являлось главной целью многих из тех, кто устремлялся в Африку в поисках наживы. Родс дерзко и целеустремленно шел к намеченной им цели. Вскоре он стал богачом, главой Капской колонии, основателем известной компании «Де Бирс», королем алмазов и золота… Эта сторона его деятельности скорее может заинтересовать менеджера и управленца, нежели историка и философа. Нам важнее понять его идеологию и философию. Нация без философии – ничто. Если даже ей не хватает денег, оружия, техники, если ее одолевают долги или политические негодяи, это дело поправимое, ничего. (Примерно так говорил О. Бисмарк, вращая на пальце кольцо с русским словом «НИЧЕГО». После расспросов, он, помедлив, сказал, имея в виду русский народ: «Люди, которые ухитряются жить в таких условиях, при этом считая, что их жизнь «еще ничего!», поистине великие и непобедимые»). То, другое и третье можно изменить, добыть, восполнить. Глупых или подлых политиков можно в конце концов убрать (со всех их постов). К счастью, и они смертны… Но народ, лишенный идеи и здравой философии – песок. Его унесет неумолимый ветер истории. У Сесиля Родса была такая Великая Идея: Великобритания нуждается в «строителях империи». Родс не верил ни продажным обюрократившимся политикам, ни парламенту страны, называя его «собранием людей, которые посвятили свою жизнь накоплению денег». Он видел, куда идет буржуазная система125 лет тому назад. Она все менее способна концентрировать силы и ресурсы. Родс создал документ, названный им «Символ веры» 2 июня 1877 г… В нем он признает, что главным стимулом его жизни и деятельности является не богатство, не счастливая семья, не дети, но «дело служения родине». Можно не соглашаться с некоторыми выводами, методами, целями С. Родса. Но он ясно видел свой долг в создании условий для захвата как можно большего количества земель и включения их в Империю: «Почему бы нам не основать тайное общество с одной только целью – расширить пределы Британской империи, поставить весь нецивилизованный мир под британское управление, возвратить в нее Соединенные Штаты и объединить англосаксов в единой империи… Давайте создадим своеобразное общество, церковь для расширения Британской империи». По сути дела, речь шла о создании «пакс Британика». Позже эту же идею подхватят американцы, воплотив ее в реализуемом ныне плане «пакс Американа». 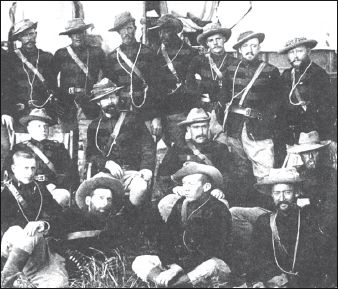 Пионеры Сесила Родса. Оставим геополитическую сторону проблемы. Создание всемирной империи – давняя мечта покорителей мира. Важно и значимо требование нации создать особый сверхэлитный отряд британцев, который полностью посвятил бы себя служению своему отечеству («может быть, одного из каждой тысячи, чьи помыслы и чувства соответствуют этой цели»). Таких людей – внедрять в школы, университеты, органы управления. Тренировать, тщательно учить, готовить, подвергая жестким испытаниям – а затем поставить на службу Родине. Иные назвали документ «ребяческим». Я бы обозначил оный как хартию укрепления Отечества (не путать с «Отечеством» хамелеонов). Речь шла о создании ордена высочайших профессионалов. В имени Родса было «что-то магическое». Киплинг называл его «послушником мечты». Шпенглер в «Закате Европы» увидел в Родсе знамение грядущего и поставил его в схеме истории «посредине между Наполеоном и людьми насилия ближайшего столетия».[285] Мы же назовем его просто – «романтиком Империи». На земном шаре становилось все теснее. Весь мир оказывался местом жестоких схваток за довольно ограниченный массив благоприятных и ценных земель. Тут разыгрывались порой кровавые трагедии, достойные пера гениального Шекспира. Жизнь требовала идеологии, оправдывавшей процесс захвата земель. Эту задачу выполнил Томас Мальтус (1766–1834), экономист и священник, создатель учения о народонаселении. Похоже, он не случайно появился на свет в Англии. Островная страна всегда испытывала определенные трудности в смысле создания условий для более или менее сносной жизни своих обитателей. Недостаток места и хорошей земли для сельскохозяйственных угодий, дикие нравы ее королей и аристократии, жестокие войны и религиозные распри – все это вынуждало англичан всерьез думать о проблемах жизненного пространства и населения. Томас Мальтус родился в семье образованной.… Его отец учился в Королевском колледже в Оксфорде, который, правда, оставил в 1747 г., не получив ни диплома, ни степени. Он слыл поклонником философии XVIII века, пробовал себя на литературном поприще, писал статьи, был лично знаком с Юмом и Руссо (последний сделал его своим душеприказчиком). Мать Томаса, вероятно, рано умерла. В доме царила атмосфера полной свободы в духе laissez faire. Отец отдал воспитание сына в руки Ричарда Грэвса, автора «Духовного Дон Кихота» (сатиры против английских теологов). Затем юноша попал к мистеру Уэкфильду (Варрингтонская академия). Тот часто схватывался с Т. Пейном (автором «Века разума» и «Прав человека»). В общении с учеником он давал волю дискуссиям и спорам, любя повторять: «Величайшая услуга, которую может принести воспитатель молодому человеку, это научить его пользоваться своими собственными силами и вести к знанию постепенно, так, чтобы тот видел путь, которым он идет, и наслаждался сознанием своих способностей и своих успехов. Иначе могут выйти только куклы и полузнайки». Мальтус учился в иезуитской коллегии в Кембридже, обнаружив немалые способности (пристрастие к языкам, истории, литературе, математике). В 1797 г. он получил степень магистра, стал адъюнкт-профессором в коллегии. Суть взглядов Мальтуса в следующем. Человек – существо ненасытное и алчное. Чем лучше условия его бытия, тем сильнее в нем половой инстинкт, те мощнее – стимул к размножению. Нищета, преступления, войны беды сдерживают рост населения. Не будь их, массы сметут все, увлекут страны в бездну перенаселения. Нищета и бедность – необходимые клапаны. Эти споры легли в основу мальтусовского «Опыта о законе народонаселения», увидевшего свет в 1798 году.[286] Время, когда появилась на свет книга (напечатана анонимно), было «грозовым». Во Франции бушевали революционные страсти. В Англии разразился страшный неурожай (1795). Народ голодал, и даже в Лондоне толпы рабочих останавливали карету короля с кличем: «Хлеба, дайте нам хлеба!» Правительство судорожно ищет выход из тупика. Промышленная революция пока еще не давала тех плодов, которых все от нее ожидали. Власти стараются найти любую лазейку, чтобы хотя бы как-то оправдать эту преступную и страшную реальность. И тут появляется Мальтус, утешая правящие элиты: все естественно, никто из вас не виноват, дело, оказывается, лишь в безудержном половом инстинкте масс. Если бы Господь решил вдруг одним мановением перста наполнить реки молоком, столы бедняков бесплатным хлебом, а кладовые знати отборным червонным золотом, то и тогда власть и буржуазия не возликовали бы так, как при появлении теории Мальтуса. Когда все настойчивее народ требует вернуть ему то, что им принадлежит ему по праву (свобода, капитал, собственность, права человека), а властям нечего и возразить, ибо идейно они были безоружны, вдруг появляется «научная теория» (во всей ее наглости и подлости), оправдывая гнет, нищету, эксплуатацию, бедствия низов. Для плутократов и эксплуататоров она явилась «манифестом антикоммунизма». Князь П. А. Кропоткин (1842–1921), думаю, не без оснований заметил в «Этике» (1922), что немногие книги имели такое вредное влияние на ход и развитие экономической мысли, как «Опыт об основах народонаселения» Т. Мальтуса. Возражая радикально-прогрессивному английскому мыслителю У. Годвину, тот утверждал, что равенство невозможно, а бедность большинства вызвана, якобы, вовсе не пороками буржуазного общественного строя, не чудовищными преступлениями и грабежом народа со стороны банкиров, президентов, знати, элит, а исключительно естественными биологическими причинами. Философия меньшинства облачена в форму «естественного закона». Какой великолепный подарок плутократам! Кропоткин пишет: «Он говорил, что народонаселение увеличивается слишком быстро, что новым пришельцам нет места за общей трапезой и что этот закон не может быть изменен никакими преобразованиями общественного строя. Таким образом он дал богатым классам нечто вроде научного возражения против идеи равенства; а известно, что, хотя всякое владычество основано на силе, сила сама начинает колебаться, если более не поддерживается твердой верой в собственную правоту. Что же касается бедных классов, которые всегда чувствуют влияние идей, преобладающих в данное время среди зажиточных классов, то учение Мальтуса лишило их надежды на улучшение и поселило в них недоверие к обещаниям социальных реформаторов. По сие время многие самые смелые реформаторы не верят, чтобы было возможно удовлетворить возможности всех… Наука до сих пор держится учения Мальтуса, и политическая экономия основывает свои рассуждения на предпосылке о невозможности быстрого увеличения производства – невозможности, следовательно, удовлетворить потребности всех.… Мало того: даже в биологии (тесно связанной теперь с социологией) теория изменчивости видов нашла неожиданную поддержку в том, что Дарвин и Уоллес связали свою теорию с основной идеей Мальтуса, утверждая, что природных средств пропитания не хватает при быстром размножении животных и растений. Словом, теория Мальтуса, выражая в полунаучной форме тайные пожелания богатых классов, сделалась основанием целой системы практической философии, которой…проникнуты умы образованных сословий, и воздействовала (как бывает с практической философией) также на теоретическую философию нашего столетия».[287]  Труд детей на производстве. Впрочем, эта сторона учения (при всей ее злободневности и актуальности) кажется нам не единственной. Наибольший интерес представляют другие обобщения. Так, он говорит о том, что все живые существа на Земле склонны размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи. На это же обстоятельство указал доктор Франклин, отмечая, что пределом росту растений является их способность получить питание из почвы. Так же и с людьми… Если бы на Земле не было других обитателей, «достаточно было бы одного народа, например, английского, чтобы в несколько веков заселить ее». Человек подчиняется тем же законам, что животные и растения. Природа бережлива и скупа. Она не может нести на себе безмерно тяжкого груза человеческой «биомассы». Но если растения и животные не думают о пределах роста, и природа просто лишает их средств к существованию, то с людьми – сложнее. Не встреть размножение населения препятствий, оно удваивалось бы каждые 25 лет. Понятно, что такие темпы должны были бы привести катастрофе. Мальтус высказывает сомнения в отношении способности почв бесконечно обеспечивать людей более высокими урожаями и питанием. Что же делать? Остается уповать на достижения цивилизации, хотя тут есть свои пределы. Понимая, что вольно или невольно он возрождает тезис Гоббса «Человек человеку волк», а это попросту говоря означает, что надо «перегрызть горло» сопернику, он заклинал, устрашившись «логического вывода»: «ни на одну минуту нельзя допустить в голову мысль об уничтожении и истреблении большей части жителей Азии и Африки». Но слова словами, а жизнь жизнью (с ее суровыми безжалостными законами). И тут у него вырывается убийственный вердикт в отношении иных «неполноценных рас». Поэтому Он говорит о том, что в Америке, где население будет несомненно расти, эта часть нового населения неминуемо должна будет оттеснить коренных жителей в глубь страны, пока наконец «раса их не исчезнет совершенно». Если бы Мальтус жил сегодня, он наверняка бы заявил, что «золотой миллиард» должен убрать с поверхности Земли все остальные расы. Мальтус ничуть не стесняясь заявляет: «Цивилизовать же различные племена татар и негров, и руководить их трудом, без сомнения, представляется делом долгим и трудным, успех которого, к тому же, изменчив и сомнителен».[288] Так что татарам России (и г-ну Шаймиеву) нужно очень крепко подумать над тем, с кем и как его народ пойдет в будущее (учитывая опыт решения проблем в Косово «цивилизаторами» из НАТО, равно как и «светлый путь» Чечни Дудаева). Англичане на словах провозглашали: «Где кончаются законы, там начинается тирания» (Питт). Но при взгляде на Англию видишь повсеместные их нарушения. Новые порядки шли на смену старым. Патерналистский стиль хозяйствования сменялся капиталистическим. В статье «Моральная экономия» низших слоев английского населения в XVIII в.» Э. Томпсон решительно спорил с теми, кто обвинял бедняков в их неспособности «встроиться в рынок». У народа, вопреки клевете знати и их клевретов, есть мораль и своя теория справедливости. Восстания и бунты народа – это не слепая реакция на повышение цен, безработицу, голод. Простые люди понимают «ход истории». Они готовы даже терпеть и страдать, но только в случае, если их представления о положении в стране соотносятся с поступками властей предержащих. Иначе говоря, они ставят перед элитой вопрос: «Что законно, а что незаконно из тех мер и шагов, что были предприняты властью». Томпсон рассмотрел «прямые акции» толпы (в 1740, 1756, 1766, 1795, 1800 гг.), в которых участвовали угольщики, ткачи, рабочие оловянных рудников, чулочники и др. В действиях восставших заметна строгая дисциплина, устойчивая модель поведения. Никаких краж, дележки зерна и муки, никакого ограбления амбаров (в голодные годы!) не было и в помине. Но был призыв к установлению твердых цен. Простые люди требовали от власти вернуться к прошлым законам, восстановить справедливость. В высшей степени знаменательный факт. «Элиты» ряда стран лезут из кожи вон, чтобы доказать обществу, что у восставшей толпы превалируют инстинкты грабежа и разбоя. И только когда выясняется, отмечает С. В. Оболенская, что одних лишь экономических требований масс недостаточно для просветления голов знати, те решают действовать. После того как во Франции разразилась революция, подметные письма и листовки появились и в Британии. В 1800 году в г. Ромсбери на дереве кто-то вывесил листовку, содержащую откровенный призыв к народу: «Долой правительство, купающееся в роскоши, светское и церковное, или же вы умрете с голоду. Вы наворовали себе хлеба, мяса и сыра… и забираете тысячи жизней для участия в ваших войнах. Пусть Бурбоны сами решают свои дела, дайте нам, британцам, заняться своими. Долой вашу конституцию. Провозгласите республику, иначе и вам, и вашим детям суждено голодать. Господи, помоги беднягам и долой Георга III!» Позже мотивы «моральной экономии бедноты» подхвачены и некоторыми социалистами, последователями Р. Оуэна.[289] В слове «революция» слышен шум народной вольницы, рокот яростного народного гнева, грозящего перерасти в рев штурмующих «дворцы» толп. В нем, как писал социолог М. Ласки (США), слились «космический огонь и кровь человеческой доли» (тяжкой и кровавой народной доли). Чем вызван такой поворот? Рост неправедных богатств в мире обнажил колоссальную безнравственность и эгоизм властвующих элит. А власть в их руках, хваленое «разделение властей» – чистая фикция. Короли, парламенты, банкиры, как правило, «играют вместе», в одной команде, выполняя откровенно (или скрытно) реакционную и антинародную роль. Тогда и возникает необходимость вмешательства экстрапарламентарной силы – улиц, масс, Трудового народа. Чтобы произошел качественный сдвиг, должен заговорить во весь голос Его Величество Парламент Улиц! В чем-то радикалы правы: в борьбе с такой властью умеренность в принципе преступна. Хотя парламент может стать выразителем воли народа.[290] Один из характерных «продуктов» английской системы – знаменитый Уинстон Черчилль (1874–1965). Потомок герцога Мальборо (Джона Черчилля – первого герцога Мальборо) родился в раздевалке во время гуляний и развесёлого бала. Видимо, оттого он приобрел привычку работать и думать, расхаживая раздетым по кабинету, поглощая в солидных дозах коньяк и виски. Думаю, что над его жизнью всегда висела в виде дамоклова меча судьба его экстравагантного отца – Р. Черчилля. В Англии он занимал посты министра финансов и министра по делам Индии. Побывал сэр Рендолф и в Африке, где встречался с уже упомянутым С. Родсом, составив себе там состояние. Отец У. Черчилля кончил плохо. Последствием сифилиса станут полный паралич и смерть. Отец Уинстона был аристократом, но по материнской линии в его роду потомки семейства пирата Фрэнсиса Дрейка. Так что характерец у Уинстона Черчилля был тот ещё. Когда его отправили учиться в привилегированную закрытую школу Хэрроу, «дите» на письменном экзамене по латыни сумело за пару часов лишь поставить единицу и рядом жирную черную кляксу. Но деньги и родовитость решали очень многое. Глава школы Вэлдон готов был принять кого угодно, лишь бы Харроу отвалили жирный кусок. Так вот буржуазия и аристократы пестуют своих избранников и любимцев. Впрочем, то обстоятельство, что Черчилль, как сообщал историк, «был самым последним учеником последнего класса школы», не помешала ему стать одним из лучших премьеров Англии.  Уинстон Черчилль во время англо-бурской войны. Слева – бурское объявление о награде в 25 фунтов стерлингов тому, кто поймает бежавшего из плена Черчилля. Его отличала превосходная память. Он декламировал наизусть целые сцены из Шекспира. И даже заслужил премию за то, что прочел без единой ошибки 1200 строк из книги Маколея о Древнем Риме. Однако становилось ясно, что юриста из него не выйдет. В университет дорога была закрыта. Его решают направить на военную стезю. Черчилль и тут ухитрился дважды провалиться на вступительных экзаменах (в военное училище Сэндхерст). Тогда его направляют в школу капитана Джеймса, который, по словам самого Черчилля, мог даже круглого идиота подготовить для конкурса в училище. С большим трудом он с третьей попытки туда попадает. О чем мечтает в конце XIX в. этот честолюбивый британец? О колониальных войнах и расправах над покоренными народами. «К счастью, однако, – писал он, – были еще дикари и варварские народы. Были зулусы и афганцы, а также дервиши в Судане. Некоторые из них могут, оказавшись в подходящем настроении, однажды «устроить представление». Может произойти даже восстание или бунт в Индии».[291] Черчилль – столь же важная достопримечательность Великобритании, как Вестминстер или Британский музей. По роли в истории его вполне можно сравнить с Питтом или, на худой конец, с Ричардом III. Черчилль считал, что ему гораздо ближе эпоха Людовика XIV или Генриха VIII, и что он был создан для викторианской эпохи. Это не так. Перед нами человек британской империи, империалист, служившей ей верой и правдой. Он, подобно Сталину, пытался удерживать в равновесии систему, содержа в полнейшем порядке механизм империи. Как сказал о нем английский историк Р. Джеймс, в лице Черчилля мы увидели «одного из наиболее удивительных людей нового времени; и, если Британской империи было суждено погибнуть, справедливо то, что на её закате блеснул такой блик славы».[292] Почему же стала возможна подобная метаморфоза? Во многом благодаря отцу, лорду Рендолфу, и его матери, мудрой и толковой женщине, которая была вовсе не в восторге от перспективы увидеть в сыне бравого гусара. Вскоре место солдатиков на его столе заняли умные, серьезные книги – «История Англии» Маколея, «Утерянный рай» Милтона, «Упадок и падение Римской империи» Гиббона, «Европейская мораль» Леки, «Политическая экономия» Г. Фосетти и др. После смерти отца мать стала его самым верным другом, повлияв на духовное развитие сына (до самой смерти Черчилль хранил на письменном столе бронзовый слепок её руки). В ней соединились американский прагматизм и английская основательность. Её дом был первым домом в Лондоне с электрическим освещением. Ради карьеры любимого сына мать пожертвовала возможностью стать богатейшей женщиной мира (к вдове сватался владелец самого большого состояния в тогдашней Америки – У. Астор). В своих письмах к сыну в Индию, где тот проходил службу, Дженни упорно советовала: «Я надеюсь, ты найдешь время для чтения. Подумай, ты пожалеешь о потерянном времени, когда погрузишься в мир политики, и ощутишь недостаток знаний». Черчилль понял, что провести жизнь наедине с конским навозом – не лучшая перспектива для своенравного, хотя и безусловно очень одаренного юноши. Он мечтал об университете, надеясь, что ему удастся «взнуздать английский язык» (как это сделал оратор XIX в. Э. Берк). В нем тогда же зарождается упорная страсть – «иметь хотя бы приблизительное представление о многих сферах мысли». Правилом жизни для Черчилля стало прочитывать ежедневно 50 страниц Маколея и 25 страниц Гиббона. Молодой лейтенант проявляет похвальное желание узнать в деталях историю Англии за 100 лет. Список книг для чтения заметно расширился (Шопенгауэр, Дарвин, Аристотель, Сен-Симон). «После чтения, – сообщает Уинстон матери, – я размышляю и, наконец, пишу. Я надеюсь, что подобной практикой создам совокупность логически и последовательно связанных точек зрения, которые помогут в образовании логического и последовательного ума… Маколей, Гиббон, Платон и прочие должны оттренировать мускулы и дать умственному мечу способности проявить себя максимально эффективным образом… Я читаю 3 или 4 книги сразу».[293] Так вот совершалось обучение и воспитание одной из самых ярких фигур XX в. Интенсивный интеллектуальный и умственный тренинг стал едва ли не общим правилом для многих ведущих политиков Британской империи. С помощью книг и наук они развивали и совершенствовали свой ум, стараясь повысить разрешающую способность своего мозга. Однако только этим дело не ограничивалось. Нередко в число их увлечений входило и занятие тем или иным искусством (то, что нынче обычно называют «хобби»). Черчилль в поздние годы увлекся живописью (ему было тогда за сорок). История столь неожиданно вспыхнувшей страсти такова… После того, как в 1915 г. он, будучи первым лордом Адмиралтейства, по сути дела, провалил Дарданелльскую операцию (желая получить все лавры, он бросил флот в бой без поддержки сухопутных сил, в результате чего почти половина эскадры была потеряна). В качестве наказания его срочно убрали с поста военно-морского министра. По своей военной бездарности с английской политической элитой могут соперничать лишь янки. Это стало самым страшным ударом для самолюбивого и крайне амбициозного Черчилля. Его жена Клементина даже заявила: «Я думала, он умрет от горя». Трудно сказать, что же более всего помогло ему в трудные минуты (семья, искусство или алкоголь). В отношении виски и армянского коньяка, а он очень любил попивать их в зрелые годы, дефилируя голым в домашнем кругу, Черчилль говаривал: «Учтите: алкоголь больше обязан мне, чем я – ему». Как бы там ни было, он решил уединитья с семьей в загородном поместье в Суррее. Там и явилась (словно «во спасение») муза живописи. Одиноко бродя по саду, он увидел акварельные наброски его свояченицы и дерзнул взяться за кисть. Его наставником в живописи стал сосед-художник Дж. Лэйври. В политике вдруг пробудился талант. Позднее Лэйври так говорил о способностях своего необычного ученика: «Если бы Уинстон карьере государственного деятеля предпочел живопись, уверен, он стал бы великим мастером кисти». Занятие политикой приносит человеку мало удовольствий (если не считать таковыми почёт, деньги, известность, прочую дребедень), тогда как искусство почти всегда благодарно. В случае с Уинстоном Черчиллем живопись помогла ему выстоять в годы тяжких испытаний. В 1921 г. умерла его мать, а затем и любимая трехлетняя дочь Мэриголд. В середине 20-х годов его картина получила первый приз на престижной выставке художников-любителей в Лондоне (работы оценивались анонимно). Полотно Черчилля даже хотели снять с выставки, сочтя профессиональным. Всего сохранилось 500 с лишним его картин. О том глубоком удовлетворении, что давало ему занятие живописью, говорит следующее признание. «Счастливы художники, – отмечал Черчилль в книге «Живопись как развлечение», – они никогда не останутся в одиночестве. Свет и цвет, умиротворенность и надежда сопровождают их до конца или почти до конца дней».[294] Было бы лучше и безопаснее для народов, если бы иные лидеры ограничивали бы амбиции писанием картин, не касаясь государства, законов, реформ. Но нет: те, кто не в состоянии нарисовать карандашом, написать маслом самую простую фигуру или сцену, дерзают «писать» судьбы целых народов, изводя при этом не краски, а целые потоки живой крови. Пример Черчилля даже закоренелого пессимиста убедит в силе таланта. Он умудрился опровергнуть едва ли не все известные теории педагогики. Ведь на входе в образовательную систему в Британии не было никого, кто бы с таким постоянством ниспровергал все каноны и правила. И что же в итоге!? Человек, с трудом сдававший экзамены, проявлявший полное равнодушие к тестам и т. д., в конце концов стал выдающимся политиком, известным историком и писателем, автором пятидесяти шести книг, лауреатом Нобелевской премии по литературе, неплохим журналистом и художником. Если У. Черчилль был наиболее известным политиком Великобритании, то Т. Карлейля (1795–1881) можно назвать самым почитаемым писателем второй половины XIX в. Впоследствии его назовут «английским Руссо», «пророком, почитаемым всей Англией». Как происходило становление этого потомка английского каменотеса? Воспитание было жестким. Карлейль позже вспоминал: «Мы все были заключены в кольцо несгибаемого Авторитета». В детстве Томас был «тощим, длинным, нескладным существом». Его послали учиться в семинарию в Аннане. Возможно, именно там в юноше пробудилось смутное ощущение каких-то грядущих свершений. В неоконченной повести «Роман об Уоттоне Рейнфреде» он представляет Уоттона-школьника «героем и мудрецом, осчастливившим и удивившим мир». Не тогда ли в сознании у него стали откладываться «кирпичики» здания той будущей концепции, что получит впоследствии название «культа героев»?! В семинарии он научился читать по-латыни и по-французски. Проявляя жадность к учебе, он приобрел познания в геометрии, алгебре, арифметике. Затем поступил учиться в университет (отец шел на немалые материальные жертвы во имя сына). Карлейлю удалось выудить из хаоса университетской библиотеки «множество книг, о которых не знал даже сам библиотекарь». Он своими силами научился свободно читать «на всех европейских языках, на любые темы и по всем наукам» («Сартор Резуртус»). В 18 лет он всерьез подумывал о литературной славе. Окончив Эдинбургский университет он стал учителем математики. Работа не принесла ему удовлетворения. У поэта и писателя иные наклонности, чем у ученого и учителя. Поражает кругозор Карлейля. Как пишет Дж. Саймонс, его интересы простирались от Шекспира (который в Эдинбурге даже не упоминался и которого философ Юм считал талантливым варваром, лишенным вкуса и образованности) до таких книг, как «Трактат об электричестве» Франклина. Он знакомится с «Историей математики» Боссюэ, читает Ньютона, Цицерона, Вольтера, Байрона, Скотта. Книги вытеснили из его жизни женщин. Он признавал, говоря о себе и Ирвинге: «В основном мы оставались в роли зрителей… даже с образованными барышнями мы не завели знакомств, и это очень прискорбно». Впрочем, с ним не очень везло и женщинам. Жена его, госпожа Карлейль, в дни его триумфа, когда Томаса назначили ректором Эдинбургского университета, умерла прямо в карете, не успев принять участие в торжествах.[295] Что же всех так привлекало в Карлейле? Чем он мог очаровать столь разных людей, как Герцен и Толстой, Гете и Ницше, Диккенс и Рескин, Эмерсон и Уитмен? Проницательный и мудрый Гете еще в 1827 г. сказал, что перед Карлейлем, которого он оценил как автора «Жизни Шиллера», «открывается большое будущее, и сейчас даже трудно предвидеть, что он совершит и каково будет его воздействие в дальнейшем». Гете оценивал в его трудах прежде всего моральное начало. Карлейль поставил во главу деятельности творца и художника главное – «нравственное зерно».[296] Сегодня иные из могут задаться вопросом: «А не является ли Карлейль хладным светом далекой Луны или же еще более отдаленной планеты?» Люди быстро забывают вчерашних героев и звезд. У. Уитмен писал («Карлейль с американской точки зрения: «Людям будущего трудно будет объяснить себе, по одним книгам, личным симпатиям и антипатиям, почему этот мыслитель обрел такую власть над нашей эпохой, каким образом он придал свой особый колорит и нашим идеям, и нашему стилю мышления. Во всяком случае, я не берусь определить его влияние на меня. Но невозможно нарисовать хотя бы и неполной картины середины и конца девятнадцатого столетия без того, чтобы Томас Карлейль не занял в ней заметного места».[297] Это так. Однако триумф жизни стал плодом его собственных усилий. «Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого» Д. Каннинг. В Европе никому не удавалось вызвать любовь одновременно у немцев и англичан, у Гете и Энгельса. Никому не удавалось вызвать почтение сразу у двух соперничающих партий (у консерваторов и либералов). Он сменил на посту ректора Эдинбургского университета либерала Гладстона и нанес сокрушительное поражение в личном споре за этот же пост консерватору Дизраэли (657 голосами против 310). Оба стали затем премьер-министрами Великобритании. Вот где сокрыта духовная сила Англии: она ценит великого писателя и эссеиста выше премьер-министров! Поэт Сэмюэль Джонсон (1709–1784) был глубоко прав, сказав об отношении англичан к его личности: «Писатели – вот истинная слава нации». В его мятежной душе странным образом соединились романтик-идеалист, революционер и консерватор, истово верующий в некое Высшее Существо, которое могло бы быть Богом. Карлейль – бунтарь и еретик считал, что Французская революция величайшее и благотворное явление мировой истории. Гете был бы в ужасе от таких мыслей. Признав роль Гете в литературе, Карлейль и по духу и по темпераменту был иным. В его дневнике вы встретите глубокое сострадание к обездоленным, ненависть к британским партийцам (в независимости от того, виги они или тори), гневную реакцию на подавление революции 1830 г. и слова: «Долой дилетантизм и маккиавелизм, на их место – атеизм и санкюлотство!» Байрона он называл «высочайшим духом Европы» и, получив письмо о его смерти, сожалел о ней, как если бы «потерял Брата». 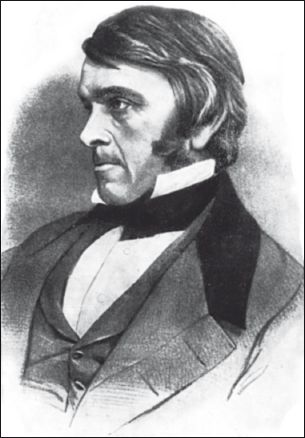 Томас Карлейль. Карлейль – пуританин с сердцем якобинца, с головой Кромвеля. Мысли и чувства в отношении эпохи он выразил в книге «Французская революция» (1836). Эту книгу встретили с сочувствием и теплотой очень многие (Диккенс, Теккерей, Саути, Эмерсон, Дж. С. Милль). Нам понятны слова Карлейля: социальные преобразования достигаются лишь революционным путем! Карлейль ушел далеко вперед по сравнению с иными современными «либералами» и «демократами». С присущей ему откровенностью и дерзостью он писал: «За всю историю Франции двадцать пять миллионов ее граждан, пожалуй, страдали меньше всего именно в тот период, который ими же назван Царством Террора». Карлейль заявит, что революция предначертана Богом. Я не знаю другого мыслителя (в Европе), кто бы увидел в Господе глашатая революции. Ведь до блоковских «Двенадцати» и до социалистической революции в России еще далеко: В белом венчике из роз Впереди — Нам не кажется странным, что Карлейль соединил Революцию с Личностью, с Героем, который обязан возглавить освобождение народов. Будучи настоящим и пламенным художником, он и образы революции рисует огненными мазками. Кажется, что его герои творят, сражаются в окружении молний. Карлейль пишет с пугающей глубиной и прозорливостью о событиях 1789–1894 гг.: «Это день крещения Демократии; хилое время родило ее, когда истекли назначенные месяцы… Отжившая система Общества, измученная трудами (ибо немало сделала, произведя тебя и все, чем ты владеешь и что знаешь) – и преступлениями, которые называются в ней славными победами, и распутством и сластолюбием, а более всего – слабоумием и дряхлостью, – должна теперь умереть; и так, в муках смерти и муках рождения, появится на свет новая. Что за труд, о Земля и Небо, – что за труд!.. и, если возможны тут пророчества, еще два века борьбы, начиная с сегодняшнего дня! Два столетия, не меньше; пока Демократия не пройдет стадию Лжекратии, пока не сгорит пораженный чумой Мир, не помолодеет, не зазеленеет снова».[298] Время Лжекратии, по его оценкам: 1989–1999 годы! В книге «Прошлое и настоящее» (1843) он развенчал образ Англии как, якобы, цитадели прогресса и демократии… В первой главе книги, носящей название «Мидас» (в греческой мифологии царь Фригии был известен своим богатством и непомерной алчностью, которая чуть не погубила) читаем: «Положение Англии… по справедливости считается одним из самых угрожающих и вообще самых необычных, какие когда-либо видел свет. Англия изобилует всякого рода богатствами, и все же Англия умирает от голода. В неизменном изобилии зеленеет и цветет земля Англии, волнуясь золотой нивой, густо усеянной мастерскими со всякого рода орудиями труда, с пятнадцатью миллионами рабочих, слывущих самыми сильными, искусными и усердными, каких когда-либо знала наша земля; эти люди находятся среди нас; работа, исполненная ими, плоды, созданные их руками, имеются тут в избытке, всюду в самом пышном изобилии…. Так для кого же это богатство, богатство Англии? Кому оно дает благословение, кого делает счастливее, красивее, умнее, лучше? Пока – никого. Наша преуспевающая промышленность до сих пор ни в чем не преуспела; среди пышного изобилия народ умирает с голоду; меж золотых стен и полных житниц никто не чувствует себя обеспеченным и удовлетворенным». Строки эти, словно письмена Валтасара, уже начертаны на стенах ряда других «псевдодемократических республик», что обрекли свои народы в на муки и нищету. Трудно читать спокойно (ныне, в России конца XX века!) полные скорби и гнева слова Томаса Карлейля (глава «Демократия» в его «Героях, почитание героев и героическое в истории»): «И все-таки я позволю себе думать, что никогда, с самого возникновения Общества, участь этих немых миллионов работников не была до того невыносима, как в дни, проходящие ныне перед нами. Не смерть, даже не голодная смерть делает человека несчастным; много людей умерло; все люди должны умереть, – последний уход каждого из нас совершается на Огненной Колеснице Страдания. Но жить несчастным неизвестно почему, тяжко трудиться и ничего не получать; быть одиноким, без друзей, с разбитым сердцем, опутанным всеобщим холодным Laissez faire – это значит медленно умирать в течение всей жизни, в оковах глухой, мертвой, Бесконечной Несправедливости, как бы в проклятом железном чреве Фаларисова быка! Вот что является невыносимым и всегда будет невыносимо для всех людей, которых создал Господь. Удивляться ли нам Французским Революциям, Чартизму, Трехдневным восстаниям? Наше время, если мы внимательно обсудим его, совершенно беспримерно».[299] Удивляться ли и нам грядущим восстаниям?! Итак, краткий очерк по Англии, что, по словам Герцена, «развила свою собственную народность, резко отделенную, как ее остров, от всех других народностей», близится к концу, оставляя у читателя, возможно, неудовлетворенность и недосказанность. Не все удалось поведать в этом рассказе. Чтобы узнать и полюбить лучшую Англию, надо ознакомиться с её письменной, устной, научной историями. Нужно исходить, изъездить вдоль и поперек равнины, парки, улицы, площади, музеи. Свои судьбы не только у народов и личностей, но и у городов. Большая часть правды о Великобритании – не в ее сражениях, и даже не только в трудах ее величайших писателей, философов, ученых, творениях ее изобретателей и инженеров, но и в обычных домах. Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость», а иностранцы подмечают: «Англичане строят так, словно жить вечно, а веселятся, будто умрут завтра». Это же справедливо в отношении шотландцев и ирландцев… По словам одного ученого, «…сердцем Дублина были частные дома». Во второй половине XVIII века в Великобритании возникла строительная лихорадка. Бурный экономический рост страны вызвал небывалый приток населения в города. Возводятся дома разных размеров и различных уровней комфортности. Методы проектирования были простыми. Возводился дом-монолит и окаймлял общую для всех площадь-сквер. Экономичность методов возведения давала возможность крупному подрядчику за год строить 600 домов! Эта схема работала по всей Британии. Речь идет о домах для среднего класса. Жилища эти скоро вытеснят старые дворянские усадьбы европейского типа. К примеру, герцог Морей вынужден был снести его роскошную виллу и переселиться в одну из секций монументального дома, где обитали, как мы бы сказали, обычные представители среднего класса. (В России же, напротив, норовят «из грязи, да в князи», вчерашний парий старается переплюнуть Букингемский дворец – и это в XXI в.). В Ирландии возобладали традиции частного дома в Ирландии (свою роль сыграли «ирландский патриотизм с антибританской окраской и приверженность к французской культуре»). Средний англичанин сумел стать основой нации и общества. Он показал богачам и аристократам как их, так и свое собственное место в обществе. Вот что пишут, сравнивая два типа «домашней цивилизации»: «Что касается социальной стратификации городов Великобритании с ее значительно развитым средним сословием (за исключением Ирландии), то здесь определенность границ в системе расселения была уже утрачена и классовое обособление, столь четкое в России, не могло быть достигнуто. При явном стремлении английской аристократии и высшего слоя буржуазии обособиться путем создания «островных» ансамблей особняков… это удавалось лишь отчасти. Как свидетельствует история лондонского Вест-Энда, уже на граничивших с этими ансамблями фешенебельных улицах общество оказывалось смешанным. Так, на улицах вокруг Гросвенор-сквер усадьбы знати чередовались с домами ремесленников и торговцев, составлявших там до 56 % населения. Для Лондона и ряда крупных английских городов, особенно курортных, закономерностью стал… приток в район аристократической «новостройки» сперва рабочих всех строительных специальностей и отделочников, затем мебельщиков и далее торговцев и представителей разного рода профессий, обслуживавших многообразные потребности быта привилегированных слоев общества. В итоге эти районы оказывались заселенными преимущественно представителями среднего класса с вкраплениями «оазисов» знати».[300] В этом – одна из особенностей психологии бритта. И все же не забывайте города Великобритании стали средоточием немалых богатств и внушительного достатка, которое свезено в них за многие века колониальных грабежей и господства над значительной частью мира. Едва ли не каждый дом в Англии – это своего рода лавка древностей и наглядный пример успеха захватнических походов этой «самой гуманной и демократичной из стран мира». А чтоб читатель не увидел в авторе этакого зловредного человечка, только и жаждущего вытащить очередной «скелет из шкафа», приведу отрывок из рассказа английского писателя Ивлина Во «Дом англичанина». В нем дается описание дома полковника Ходжа, человека хотя не денежного, но живо участвовавшего в делах Британского легиона. Еще больший интерес представляет оценка благосостояния простых жителей округи, чья жизнь самым тесным образом связана была с судьбой и доходами империи. Автор говорит: «Иностранцы, изумленные ценами в лондонских ресторанах и великолепием более доступных им герцогских дворцов, часто поражались богатству Англии. Однако о том, как она богата на самом деле, им никто никогда не рассказывал. А как раз в таких-то деревушках, как Мачмэлкок, и впитываются вновь в родную почву огромные богатства, что стекаются в Англию со всей империи. У здешних жителей был свой памятник павшим воинам и свой клуб. Когда в стропилах здешней церкви завелся жук-точильщик, они не постеснялись расходами, чтобы его уничтожить; у здешних бойскаутов была походная палатка и серебряные горны; сестра милосердия разъезжала по округе в собственной машине; на рождество для детей устраивались бесконечные елки и праздники и всем арендаторам корзинами присылали всякие яства; если кто-нибудь из местных жителей заболевал, его с избытком снабжали портвейном, и бульоном, и виноградом, и билетами на поездку к морю; по вечерам мужчины возвращались с работы, нагруженные покупками, и круглый год у них в теплицах не переводились овощи».[301] В основе их благосостояния лежали, конечно, и труды праведные, но все же едва ли ни под каждым камнем Британии – череп одной из бесчисленных жертв Империи.  Уильям Хогарт. Карьера шлюхи. Ее приезд в Лондон. Гравюра. 1731 г. Пару слов о старом Лондоне, возникшем после завоевания римлянами Британских островов (в 43 г. н. э.). Названием он обязан древним жителям (в переводе с кельтского Llyn-Din – «крепость на озере»). Впервые упоминание некоего Лондиниума встречаем у римского историка Тацита. Город создали римляне по примеру своих городов в I в. н. э. на площади всего в 2,5 кв. км., выстроив мост, форум, храм, базилику, дома патрициев, следы коих давно исчезли. Что осталось от тех времён? «Лондонский камень», столб, аналогичный «Золотому столбу», стоявшему на знаменитом римском форуме. В результате скрещивания дорог всемирной истории между цивилизациями и возникают культурные родства. Судьба Британской империи оказалась связана некими внутренними узами с Римской империей. Как вы помните, после ухода римлян сюда вторглись германские племена в V в. н. э. После изгнания викингов англичане были побеждены норманнами. Вильгельм «Завоеватель» короновал себя в только что выстроенном Вестминстерском аббатстве (1066). Английский язык (смесь германского, скандинавского, норманнского языков) стал важным культурным посредником в Европе и в мире, хотя вплоть до XV в. знать говорила по-французски. Как вольный и богатый город, пользующийся немалыми привилегиями, City of London сложился где-то к XII в. В XI веке Вильгельмом «Завоевателем» возведен знаменитый Тауэр и Вестминстерское аббатство. В XVI в. строятся Королевская биржа, лондонские театры, Грэшэм-колледж, первый английский университет. Пожар 1666 г. нанес Лондону страшный ущерб (больший, чем пожар Рима при императоре Нероне). Сгорело 13,2 тысячи домов. Перед этим чума унесла жизнь 100 тысяч жителей. За восстановление столицы лондонцы взялись миром. Среди шестерки архитекторов выделялся Кристофер Рен (1622–1723), видный ученый-физик, астроном, математик, один из основателей Королевского общества, ставший в 1680 г. его президентом (возвел ряд построек для Оксфорда и Кембриджа). Рен – римский Рем в архитектуре! При новом планировании Сити им взята за образец знаменитая Пьяцца дель Пополо в Риме. Прах создателя Лондона покоится в соборе Св. Павла. Надгробная надпись лаконична: «Читатель, если ты ищешь его памятник, оглянись вокруг себя!» Лондон за полтора века превратился из скромного поселения (в 1509 г. при восшествии на престол Генриха VIII было всего 50 тыс. жителей) в быстро растущую метрополию (в 1660 г. в момент воцарения Карла II число жителей приближалось к полумиллиону). Как оценивать столь бурный прогресс? Здесь две стороны медали. Рост и развитие британской столицы шло за счет остальных городов и регионов. А. Поллард напрямую связывал деспотизм Тюдоров с властью Лондона над всею остальной страной. Это действительно была «могучая рука и надежный инструмент», с помощью которой власть управляла страной. Здесь концентрировались капиталы. Сила Лондона – не только в деньгах или в политической власти. Важна роль культурных классов, ударной силы Ренессанса (купцы, адвокаты, судьи, чиновники двора, священники, педагоги, военные, ремесленники).  Собор в Уэльсе. Лондон стал средоточием власти в стране. Хроникер XV в. писал, что лондонский мэр является «следующей за королем фигурой во всех отношениях» (в смысле его власти и статуса). И это не преувеличение. С прерогативой и мнением лондонцев королям всегда приходилось считаться. Лорд-мэр тюдоровско-стюартовского Лондона в случае смерти монарха воспринимался как наивысший сановник королевства. Лондон был самоуправляющимся городом со своими законами, полицией, судами, армией и даже системой социального обеспечения.[302] Однако не следует думать, что блага и привилегии доставались всем поровну. Отнюдь нет. Управление столицей было сосредоточено в руках нескольких «наиболее зажиточных и опытных граждан». Это были, разумеется, только состоятельные люди. В XV в. именно так понимали демократию. На выборное собрание знать предпочитали приглашать скрытно и тихо, а те уж выбирали мэра и олдерменов. Вот как описывает процесс один из источников: «Ввиду того, что с давних времен на выборы мэров и шерифов стекалась к зданию муниципалитета огромная толпа народа, и так как народных сборищ следует бояться, как это мудро засвидетельствовано в 26-й главе Экклезиаста, ибо при этом может подняться ропот и шум, мэр и олдермены за несколько дней до дня выборов имели обычай сходиться и обсуждать, каким образом провести эти выборы, чтобы избежать волнения и народного ропота».[303] Роль Лондона как экономического центра Великобритании. По созданию национального рынка оценил Д. Дефо в его «Торговце» («Tradesman»). К 1700 г. город насчитывал уже примерно 550 тыс. жителей, что составляло 10 процентов всего английского населения. Он затмил все столицы стран Запада. Мы говорим «Англия» – подразумеваем «Лондон», говорим «Лондон» – подразумеваем «Англия». Он, по словам Ф. Броделя, «выстроил и сориентировал Англию от А до Я». Далее он же пишет: «Все английское экономическое пространство подчинялось царственной власти Лондона. Политическая централизация, мощь английской монархии, продвинувшееся сосредоточение торговой жизни – все работало на величие столицы. Но величие это само по себе было организатором пространства, над которым оно доминировало и в котором оно создавало многообразные административные и рыночные связи. Н. Грас считает, что Лондон на доброе столетие опережал Париж в том, что касалось организации его сферы снабжения. Его превосходство было тем большим, что Лондон был еще и весьма активным портом (обеспечивавшим самое малое четыре пятых внешней торговли Англии), оставаясь в то же время вершиной английской жизни, ни в чем не уступавшей Парижу, ибо он являлся громадной паразитической машиной роскоши, расточительства, а также при всем прочем и культурного творчества. Наконец, и это главное, квазимонополия на экспорт и импорт, какой Лондон пользовался очень рано, обеспечивала ему контроль над всеми видами производства на острове и над всеми формами перераспределения: для различных английских регионов столица была центральной сортировочной станцией. Все туда прибывало, все оттуда уходило вновь, то ли на внутренний рынок, то ли за пределы страны».[304] Оценка видным историком роли британской столицы в судьбах Англии возможно заставит читателя отнестись чуть снисходительнее к другой столице, где также налицо то, что, как выше было сказано, является «громадной паразитической машиной роскоши и расточительства». Подобно Парижу, Риму, Москве, Петербургу, Лондон есть также город-музей. Здесь масса знаменитых построек и мест: Лондонский мост и основная достопримечательность столицы Тауэр, ныне населенный скорее воронами (по легенде, устои Британии незыблемы, пока вороны не покинут его), Мэншн-хауз, с коллекцией английского серебра XVIII–XIX, уступающей, по мнению некоторых, только русской коллекции в Кремле, «Египетским» залом, в котором представлены скульптурные статуи на различные сюжеты английской литературы (от Чосера до Байрона), Вестминстер-холл, с именем которого связаны многие события английской истории (XI в.), Вестминстерское аббатство, где вот уже 900 лет у алтаря проходят коронации и бракосочетания членов королевской семьи, где находятся усыпальницы Генриха VII, Елизаветы Тюдор, Марии Стюарт, покоится прах Ньютона, Дарвина, Диккенса, Шеридана, Спенсера, Теннисона и находится знаменитый «уголок поэтов» – Poet`s Corner (Шекспира, Милтона, Бернса). Сюда отнесем и Лондонский парламент, что расположен во дворце Вестминстера (недавно было отмечено его 730-летие) и тому подобные «реликвии». В Великобритании в настоящее время 450 тысяч памятников, охраняемых а рамках «Английского наследия». В ряде строений Уайтхолла проступает строгая, классическая, изысканная простота, присущая лучшим европейским сооружениям. Дом, известный как Banqueting House (1619), украшен фреской Рубенса. Создан Банкетинг-хауз английским архитектором И. Джонсом. Прямо перед ним казнили Карла I. Главной королевской резиденцией стал Букингемский дворец, овеянный многочисленными слухами и легендами (1837). Перед дворцом высится величественный монумент королевы Виктории. Она окружена аллегорическими фигурами, каждая из которых символизирует Победу, Мужество, Правду, Справедливость, Науку, Искусство, Хозяйство. Сюда и направляются любопытные туристы и зеваки поглядеть на колоритную смену караулов. А неподалеку, на набережной Темзы, расположился самый древний символ Лондона – 21-метровый обелиск под названием «игла Клеопатры». Ее в 1798 г. предложили Британии за победу, одержанную в ходе битвы у Нила. Лишь через 90 лет этот обелиск занял почетное место в центральной части города. По-своему интересна и Fleet Street, где примерно 500 лет тому назад были созданы первые типографии и где доктор Джонсон составил первый словарь английского языка. И все-таки самым знаменательным памятником Лондона является Тауэр. Тут в «кровавой» башне (Bloody Tower) казнили принцев, аристократов, королев. Неподалеку казнён и великий Томас Мор. Тут же сокровища королевской короны (Crown Juwels). Смерть и сокровища всегда рядом… Вход в Тауэр лежит через «ворота предателей». Политики со страхом вступают под своды самой известной тюрьмы мира.[305] Светлое и радостное зрелище представляют многочисленные пейзажные парки и сады (Сент-Джеймсский, Грин-парк, Риджентс-парк, сад в Кью и др.). Когда на территории Гайд-парка открыли Первую всемирную выставку (1851), вызвавшую всеобщее внимание, англичане увенчали ее знаменитым «Хрустальным дворцом». Он был подобен оранжерее (построил его садовник Дж. Пэкстон). Позднее Корбюзье скажет об этом предвестнике современной архитектуры: «Я не мог оторвать глаз от этой торжествующей гармонии». Поэтому нам понятны слова англичан, обращенных к граду: «Устать от Лондона значит устать от жизни».[306] Лондонцы непременно скажут, что их город ни разу в истории не был захвачен или разграблен, как это случалось с Римом, Антверпеном, Парижем и Москвой. Они приведут фразу Генриха VIII о том, что истинное назначение Англии – «это империя». Другие скажут, что камнем, на котором стоит город, является вера Христова. Р. Джонсон так воспел столицу: Пусть будет долгой жизнь твоя… Восторг от посещения британской столицы не раз испытали на себе писатели, художники и ученые. Вот что писал о столице Англии итальянский скульптор Канова: «Вот я и в Лондоне, мой дорогой, мой лучший друг! В этой чудесной столице прекраснейшие улицы, прекраснейшие площади, красивейшие мосты, повсюду чистота и, что более всего поражает, – заметное благосостояние народа».[307] Есть правда и в словах английского премьера Дизраэли, сказавшего, что «Лондон – не город. Это нация».  Фасад Британского музея. Лепту в прогресс культуры в Англии внесли не только мыслители, писатели, школы, университеты, не только книги, парламенты, но и Британский музей. Возможно, это – лучшее творение английского гения и государства, говоря словами теоретика культуры Я. Буркхардта, музей является выдающимся «произведением искусства». Хотя иные называют музеи «выставочными залами реликтов цивилизации», без них невозможна эволюция культуры. Британский музей – историческая и культурная жемчужина в короне Британской империи. Как и многие иные прославленные музеи и галереи мира, он вырос из частных коллекций. Его основателем стал врач и натуралист Х. Слоун (1660–1753), преемник Исаака Ньютона на посту президента Королевского общества (Академии наук). Будучи медиком и биологом, он имел обширную медицинскую практику в Лондоне. Его страстью стало коллекционирование. Получив в наследство от друга (У. Куртена) ценное собрание растений и минералов вместе с книгами, гравюрами и медалями, он на протяжении всей жизни неустанно дополнял оное. Коллекция разрослась, насчитывая к концу его жизни более 200 тысяч экспонатов (в их числе 40 тысяч книг и свыше 4 тысяч рукописей). Свои сокровища Слоун завещал государству. Так положено начало рождению музея. Парламент принял специальный акт (1753), согласно которому это богатство объединено с давними коллекциями антиквара и библиофила Р. Коттона (1571–1631), друга Ф. Бэкона, Б. Джонсона и Р. Харли (1661–1724), лорда Оксфордского, имевшего богатейшую библиотеку. Вскоре дворянский особняк Монтегю-хаус, получивший наименование «Британский музей», принял первых посетителей (1759). Затем Георг II подарил музею свою Старую королевскую библиотеку, собираемую на протяжении двух веков английскими монархами. В 1823 г. Георг III отдает в Британский музей свою изумительную библиотеку (84 тысячи томов). Уже в 20-е годы XIX в. выяснилось, что «новое вино не вмещается в старой бутылке». Тогда-то и будет построено новое здание (1823–1847), фронтон которого украшен мраморными фигурами скульптора Р. Уэстмакотта, ученика Кановы. Внутри музея возведен круглый Читальный зал, купол которого уступал только величайшему в мире куполу древнеримского Пантеона. Это – словно «porta antiqua» (лат. «врата античности»), распахнутые в будущее. Коллекция музея пополняется. Благодаря замечательным открытиям О. Лэйярда и О. Рассама (в Ниневии) музей получил лучшую в мире коллекцию ассирийской скульптуры. Перечислять его богатства можно бесконечно. Среди постоянных читателей библиотеки Британского музея – философ Юм, историки Гиббон, Карлейль и Маколей, писатели Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей и Шоу, который завещал библиотеке треть своего огромного состояния. В. И. Ленин, регулярно работавший тут, говорил, что в Европе нет лучшего места для работы, нежели библиотека Британского музея со всеми ее фондами и прекрасным справочным отделом, с великолепно налаженной техникой обслуживания читателей… Древние верно говорили: «Habent sua fata libelli» (лат. «Книги имеют свою судьбу»). Видимо, свои великие, как славные, так и трагические судьбы, и у библиотек.[308] Истинная слава Британии (Glory of Empire) – не в золотых слитках и акциях британских банков, а в сокровищах мысли и искусства ее библиотек и музеев. Лондон – прекрасен. Хотя есть в нем и некая мрачность и тяжеловесность. Ощущается, что одно время бритты были придавлены «римским сапогом». Их «имперский стиль» порой кажется замешанным на густом лондонском тумане и кровосмешениях. Мрачна и кровава ранняя английская история. Это делает нынешнюю столицу Британии иногда похожей то на покрытого пылью вояку-центуриона, то, в особо мрачные дни – на Джека Потрошителя. Многое зависит от того, с кем и с чем столкнетесь в «Вавилоне цивилизации». Если повезет и окажетесь на светлой стороне имперской столицы, Лондон представится земным раем. Если – нет, не исключено, что мнение ваше ничем не будет отличаться от мнения одной из героинь романа Т. Смоллета «Приключения Перигрина Пикля», которая с горечью признавала: «Лондон, по ее словам, был приютом беззакония, где честный доверчивый человек ежедневно рисковал пасть жертвой мошенничества; где невинность подвергалась постоянным соблазнам, а злоба и клевета вечно преследовали добродетель; где всем правили каприз и порок, а достоинства встречали полное пренебрежение и презрение».[309] У Великобритании немало достоинств… Англия давала уроки политической свободы сначала Франции, а уже потом через посредство Франции – остальной Европе. Г. Бокль пишет: «Они были свидетелями, как политические и религиозные вопросы величайшей важности разбирались со смелостью, неизвестной в какой-либо другой стране Европы. Они были свидетелями, как диссиденты и церковники, виги и тори разбирали самые опасные теории и относились к ним безгранично свободно. Они были свидетелями публичных прений по предметам, о которых во Франции никто не отважился бы спорить; они были свидетелями, как государственные тайны и тайны веры были разоблачаемы и резко выставляемы перед взорами народа. А что особенно должно было поразить французов того времени, – это то, что они не только нашли прессу, обладавшую известной степенью свободы, но увидели еще, что в самих стенах парламента производились совершенно безнаказанно нападения на распоряжения короны; что избранные ею слуги постоянно подвергались порицаниям, и – что казалось страннее всего – что даже распределение ее доходов подвергалось деятельному контролю».[310] Французский писатель В. Гюго, воскликнет в 1855 г.: «Англия – великая и благородная нация, в которой пульсируют все животворные силы прогресса, она понимает, что свобода – это свет».[311] Историки Франции О. Тьерри и Ф. Гизо считали Англию «предшественницей и эталоном для Франции». Гегель в «Философии истории» отвел Британии роль чудо-генератора, мотора индустриально-торговой машины (1837): «Материальное существование Англии основано на торговле и промышленности, и англичане взяли на себя великую задачу быть миссионерами цивилизации во всем мире; свойственный им торговый дух побуждает их исследовать все моря и все земли, завязывать сношения с варварскими народами, возбуждать у них потребности, вызывать развитие промышленности и прежде всего создавать у них условия, необходимые для сношений, а именно отказ от насилий, уважение к собственности и гостеприимство».[312] В последних случаях Гегель, конечно, перегнул палку. Русские относятся к шотландцам и ирландцам с большим почтением (чувства к англичанам у нас смешанные). Владимир Мономах был женат на дочери английского короля Гарольда II, во времена Ивана Грозного и королевы Елизаветы I Тюдор наши страны обменялись посольствами, а Петр I пригласил в Россию преподавать в Навигацкую школу профессора Абердинского университета Эндрю Фарварсона, математика и астронома, автора ряда учебников. Граждане туманного Альбиона нередко служили в рядах русской армии, были архитекторами, врачами и т. д. Шотландец Александр Лесли был послан царем на Запад с целью подбора в армию России знающих и умелых офицеров, а «бессмертный» Несбит Уиллоуби стал моряком-волонтером в рядах русской армии 1812 года. В Шотландию лежал путь и многих деятелей науки и российского просвещения. «Отец русской юриспруденции» С. Е. Десницкий (1740–1789), видный социолог и экономист, профессор Московского университета учился в университете в Глазго. Там же он, вместе со своим коллегой, И. А. Третьяковым, слушал лекции Адама Смита и других ученых. Он поддерживал дружеские отношения с изобретателем паровой машины Дж. Уаттом (и даже предлагал пригласить его в Россию). Сотрудничество наших культур и наук было довольно плодотворным. Десницкий перевел труды английского законоведа У. Блэкстона и специалиста по сельскому хозяйству Т. Боудена.[313] Британия XVIII–XIX вв. представляет собой величественное зрелище, не менее внушительное, чем египетские пирамиды или соборы в Кремле. Английский язык распространялся по миру. Его стараются изучить корифеи науки, литературы, политики (Бюффон, Бриссо, Гельвеций, Монтескье, Вольтер, Руссо, Мирабо, Морелли, Рейналь, Лафайет, Монгольфье, Марат). В Лондон устремляются англоманы, как если бы там была Мекка и Медина. Все увлечены светилами английской науки и литературы (Локком, Ньютоном, Бэконом, Мандевилем, Шекспиром). Адамом Смитом зачитываются как во Франции, так и в России. В моде Байрон и английский сплин. Пушкинский Евгений Онегин «читал Адама Смита и был глубокий эконом». В Москве открывается «Английский клуб», где иная провинциальная дама, на миг отвлекшись от шляпок и модисток, «толкует Сея и Бентама». Однако же в англичанах было и немало такого, что вызывало (и вызывает) у народов известную настороженность и опасения. Сюда можно отнести их любовь к закулисной игре, политическую беспринципность, коварство, в результате чего в политический обиход вошла фраза о «коварном Альбионе». Англичане, как и американцы, обожают устроить дело так, чтобы кто-то другой для них «таскал каштаны из огня». В том же XVIII в. Англия, по известному выражению, использовала европейские государства как «хорошую пехоту» ради достижения своих политэкономических целей.[314] Эти же привычки она переносит и в ХХI век. Столь же ненасытны их финансовые аппетиты… Лондонская биржа не случайно является главным средоточием денежных потоков. Известно, из англичан не выжмешь даже и шиллинга (если сами они не получат за него фунт). Историкам хорошо известен факт, когда благородный король Англии Эдуард III отказался платить по векселям… В результате столь коварного (и явно не джентльменского шага) его главные кредиторы, банкирские дома Барди и Перуцци во Флоренции, потерпели полный крах. Это грандиозное банкротство не только вошло во все учебники, но и породило финансовый термин «банкрот» (от выражения «banka rotta», т. е. «разбитая скамья»). Если в старину менялу уличали в обмане, то тут же переворачивали и ломали его скамью и стол на рынке.[315] Всё это натолкнуло на интересную мысль… А если в России или где-либо правительство уличит иных «менял» (дельцов, воров, спекулянтов) в крупном жульничестве, то не целесообразно ли и им ответить адекватно?! Кроме того, и распрекрасная демократическая Англия не всегда жаловала гениев. Говорят, факты – довольно упрямая вещь. Вспомним, как из страны фактически был изгнан великий Байрон. В жуткой нищете влачил тут свое существование Р. Бернс. Окончивший колледж в Итоне, затем поступивший в Оксфорд П. Шелли был исключен оттуда якобы за проповедь атеизма. Где же истинная «свобода мнений»? В 1737 г. в Англии был принят «Закон о лицензиях», по сути дела направленный против острых комедий Филдинга. Фарисеями отринут О. Уайльд, угодивший в английскую тюрьму. Трагично сложилась и судьба У. Блейка, погребенного в безымянной яме для нищих. Уайльд даже написал: «Байрон ужасно растрачивал себя, воюя с глупостью, посредственностью и филистерством англичан».  Уильям Блейк. Сцена Страшного суда. Три обвинителя. Гравюра на дереве. А вспомним жизнь премьера Дизраэли, графа Биконсфильда (1804–1881). Он был потомком еврейской семьи, бежавшей в XV в. из Испании от инквизиции (в Венецию). Евреи были изгнаны из Англии еще раньше, чем из Испании и Португалии. Впрочем, показательно, что дед и тезка будущего лорда, the wandering jew (англ. здесь: «бродячий еврей»), при Георге II уже смог стать подданным Англии, хотя и без гражданских прав (1748). Отец Бенджамина слыл учеником Руссо. Юноше все же повезло, ибо отец стал известным писателем, открыв сыну путь наверх. Пришлось отказаться от пут иудейства. «Для сыновей особенно, если они не будут крещены, многие карьеры будут закрыты, так как евреи, как, впрочем, и католики, были лишены гражданских прав», – пишет А. Моруа.[316] В школе же юноше не раз приходилось отстаивать право свободно мыслить с помощью кулаков, а в жизни – уже с помощью денег и связей. Сам Дизраэли не заблуждался в вопросах тайной политики масонов. Выступая перед англичанами, лидер консервативной партии Англии и премьер-министр Великобритании говорил: «Миром управляют совсем не те, кого считают правителями люди, не знающие, что творится за кулисами… Существует политическая сила, редко упоминаемая, я имею в виду тайные общества. Невозможно скрыть, а потому и бесполезно отрицать, что значительная часть Европы покрыта сетью этих тайных обществ подобно тому, как поверхность земного шара покрыта сейчас сетью железных дорог. Они… стремятся к уничтожению всех церковных установлений». Дизраэли, зная своих сородичей, говорил, что этой тайной силой являются иудеи. Он даже предупреждал, что готовящаяся в Европе «мощная революция развивается полностью под еврейским руководством» (Иоанн. «Самодержавие духа»).[317] Всем известно властолюбие, самомнение британцев, полагающих, что Бог создал Британию, чтобы посредством ее управлять всем миром. В британце гордыни больше, чем в любом представителе известных и отмеченных славой и величием наций. Иные из Британских энциклопедий ограничивают круг познаний событиями и именами «западного мира». Так, в «Кingfisher History Encyclopedia» (Лондон, 1995) есть обширные сведения о Наполеоне и, разумеется, о побеждавших его героях Британии (Нельсоне и Веллингтоне), но имена великих русских полководцев Суворова и Кутузова не упомянуты. Правда, утверждают, что английские офицеры и высшие чины империи поднимали тост за Суворова (в эпоху его блистательных побед) сразу же после тоста за английского короля. Об этой особенности британцев (стараться упорно не замечать чужих успехов и талантов, равно как и признаков упадка собственной страны) упоминал еще Э. Гиббон в «Истории упадка и крушения Римской империи». Его формулировка «конца империи» стала «классикой»: «Судьба города, который мало-помалу разросся в империю, так необычайна, что останавливает на себе внимание философа. Но упадок Рима был естественным и неизбежным последствием чрезмерного величия. Среди благоденствия зрел принцип упадка; причины разрушения размножались вместе с расширявшимся объемом завоеваний, и лишь только время или случайность устранили искусственные подпорки, громадное здание развалилось от своей собственной тяжести. История его падения проста и понятна, и вместо того чтобы задаваться вопросом, почему Римская империя распалась, мы должны бы были удивляться тому, что она существовала так долго».[318] Её к месту и не к месту приводят бездарные и невежественные «апостолы» «конца русской империи». Хотя Гиббон указывал на наличие параллели между двумя (Римской и Британской) империями. «Из всех наших страстей и наклонностей жажда власти есть высокомерная и самая вредная для общества, так как она внушает человеческой гордыне желание подчинить других своей воле», – писал он. Его намек имеет вполне определенный адресат: «Утрата добродетели, силы и мудрости римской аристократии явились причиной падения Рима, – и пусть британский правящий класс помнит об этом…» Предостережения историка не помогли. Сегодня мы видим крах мифа о демократичности и свободолюбии англичан. Упрекая соотечественников в близорукости, Гиббон недалеко ушел от них. В одной из ранних работ историка («Очерках мировой истории»), охватывающей хронологический период с V по XV века, всего один раз упоминается Россия (в связи с принятием христианства). Другие славянские страны не упоминаются вовсе. У нас его «Очерки» были изданы (1805 г.). Публикации «Очерков» Гиббона продолжали славную традицию М. В. Ломоносова и Н. И. Новикова – издавать важнейшие труды европейских просветителей.[319] Да и историк Н. Карамзин в «Письмах русского путешественника» отмечал заслуги английских историков и романистов: «одна земля произвела лучших Романистов и лучших Историков. Ричардсон и Фильдинг выучили Французов и Немцев писать романы как историю жизни, а Робертсон, Юм, Гиббон вливали в Историю привлекательность любопытнейшего романа, умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидида и Тацита ничто не может сравняться с Историческим Триумвиратом Британии». Но еще более поразила русского историка общая картина благосостояния и жизненной активности, открывшаяся перед ним в Лондоне (1790 г.). Он писал: «Какое многолюдство! Какая деятельность! И притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой».[320] Англичане до начала XX в. как будто и вовсе не замечали существование русских гигантов. Об отношении англичан к А. П. Чехову писал в мемуарах У. С. Моэм: «В Англии же его по-прежнему почти не знают. Когда в 1904 г. Чехов умер, русские уже считали его лучшим писателем своего поколения, а Энциклопедия Британника (во II издании, которое вышло в 1911 г.), нашла для него только такие слова: «Но А. Чехов продемонстрировал большой талант новеллиста». Довольно кислая похвала. Только когда миссис Гарнет издала избранную часть огромного литературного наследия Чехова в 13 томиках, им заинтересовалась английская читающая публика. С той поры престиж русской литературы в целом и Чехова в частности у нас очень вырос».[321] Затем интерес к его творчеству в Англии рос столь стремительно, что скоро Чехов стал тут «своим» писателем. На представлении «Дяди Вани» Б. Шоу сделал театральному критику Г. Мэссингему («Нейшн») необычное признание: «Когда я слушаю пьесу Чехова, мне хочется порвать мои собственные» (1914). А профессор ряда британских и американских университетов У. Джерхарди, автор шеститомной «Истории английской драмы» заявил: «Чехов… был на голову выше всех шоу и ибсенов». Известный драматург Дж. Пристли затем скажет: «Чехов больше, чем любой другой современный драматург, имеет влияние на серьезный театр в Англии.… Своим магическим даром Чехов освободил современную драматургию от цепей старых условностей». Сам же Чехов считал: «мне кажется, для английской публики я представляю так мало интереса, что решительно все равно, буду ли я напечатан в английском журнале или нет» (1900).[322] XIX век во многих отношениях может быть назван историками «английским золотым веком», как ранее все говорили о «золотом веке» её литературы. В викторианскую эпоху англичане добились наибольших успехов и в деле укрепления могущества империи. Этому в немалой степени способствовала и сама королева Виктория (1819–1901). И хотя королева не обладала каким-то исключительным набором талантов или умственных достоинств, у нее было нечто, что позволяло ей быть неплохой правительницей. С детства ее готовили к исполнению должным образом службы на престоле (и она была, так сказать, подготовлена «быть хорошей королевой»). На плечи этой женщины легли серьезнейшие государственные проблемы. Империя разрасталась, промышленный подъем требовал создания механизмов по удержанию в узде рабочего класса, страну сотрясали социальные конфликты. Все это она должна была регулировать железной рукой. Первая «железная леди» империи… К счастью, в ее деятельности ей помогали мужчины. Сначала это был дядя Леопольд, руководивший ее действиями до 1831 г. (когда он стал бельгийским королем), затем свое плечо подставил супруг Альберт Саксен-Кобург-Готский, ставший «ходячей энциклопедией для Виктории по любому вопросу». В поздний период важное место занял в ее окружении слуга Дж. Браун (он любил, как говорят, крепко заложить за воротник, напиваясь почти до бесчувствия, однако благодаря ему королева вступала «в спиритуалистическую связь» со своим мужем). При всем уважении к английской культуре, не станем вводить в заблуждение, уверяя: всё, что хорошо для Англии, в обязательном порядке должно быть хорошо и для России. Хотя бы даже в жилах британских королей и Романовых текла родственная кровь. В ближайшем окружении русского царя было немало тех, кто благоволил к Англии. Жена Николая II Александра Федоровна восхищалась Англией, так как долгое время жила там. Постоянно бывал в Англии и великий князь Михаил Михайлович. Николай II, хорошо владевший английским, немецким и французским, был в тесном родстве с англичанами и немцами. Короли и цари – это ведь ещё не народ… Не говоря уже о том, что русские цари – давным-давно забытый звук, известно и иное: близкое родство монарших ветвей России и Великобритании не помешало Британии предать «дом Романовых», когда после низложения зашла речь о возможности его эмиграции. В ответ на запрос, нет ли возможности принять семейство низложенных Романовых в Англии, правительство Керенского получило недвусмысленный ответ, гласящий, что до окончания войны въезд бывшего монарха и семьи «в пределы Британской империи невозможен».[323] Самые полезные и спасительные для России вещи не приветствовались элитой и короной Британии. Королева Виктория придерживалась антирусских позиций в политике. С присущим англичанам лицемерием она пишет после убийства Александра II, что казни в России необходимы, но было бы куда лучше, если бы они были тайными, а не публичными (23 апреля 1881 г.). Вот вам и вся суть английской демократии и либерализма! Виктория не верила в Россию, была в отношении её настроена апокалиптически, заявив 100 лет тому назад: «Состояние России настолько плохое, настолько прогнившее, что в любой момент может случиться что-то страшное».[324] Если не открыто, то тайно Англия всегда работала и работает на уничтожение или ослабление России! Поэтому «демократия», являющаяся для них, возможно, и «привлекательной особой», для России в английском стиле, не подходит (разве что в крайне ограниченных и строго фиксированных дозах и рамках). Это справедливо как в отношении политики, так и в отношении и экономики. Напомню слова Н. Я. Данилевского: «Что невозможна общая теория устройства гражданских и политических обществ – это осознано давно, и мало уже таких доктринеров, которые бы думали, что, например, английское государственное устройство есть некий идеал, которого все должны стремиться достигнуть, что между государствами (или вообще обществами) есть, так сказать, только различие возрастное, а не качественное. Но один уголок общественных наук упрямо сохраняет это доктринерство, именно политическая экономия. Она думает, что всякое господствующее в ней учение есть общее для всех царств и народов… Политическая экономия утверждает, что так называемая свободная торговля, которая есть выгоднейшая форма мены для Англии, где эта наука изучала торговые и промышленные явления, должна непременно применяться и к Америке, и к России. По-моему, это то же самое, как бы утверждать, что дышать можно только жабрами или только легкими, невзирая на то, живет ли животное в воде, или на суше».[325] Данилевский повторял: начала цивилизации одного культурно-исторического типа нельзя передать народам иного типа. Кроме того, на чужой карете ведь далеко не уедешь! Британия к концу XIX в. находилась в зените славы и могущества. Киплинг скажет в стихотворении «Сассекс»: «Господь нам эту землю дал, чтоб всю ее любить». Однако имперской земли становилось все меньше. И уж недалек был кошмарный для старины Джона Буля час. Империя скоро развалится, как карточный домик. Это вызовет у англичан ностальгию, которая русским, понятна более, чем кому-либо еще (хотя между Британской и Российской империей огромная разница. В первом случае уместно привести слова Шекспира: «Иногда мы и в самой потере находим утешение, а иногда и само приобретение горько оплакиваем». Фарисеев древности должен был бы охватить жгучий стыд при виде столь совершенного творения, как английская «демократия». Ее защитники отпарируют фразой Уинстона Черчилля (уж не знаю, сколь она удачна): «На самом деле демократия – наихудшая форма правления – если не учитывать того факта, что все другие формы, которыми пользуются люди, еще хуже». Впрочем, говоря об английских порядках, вспомним фразу и Эдмунда Берка: «Идеальная демократия – самая постыдная вещь на земле». Возможно, оттого меня не покидает ощущение, что и английский тип – тип, обреченный если не на вырождение, то по крайней мере на отдохновение от той важной исторической роли, что была им когда-то сыграна в мировой истории. История внесет еще в бочку английского «меду» не одну «ложку дегтя». У британцев есть не только недостатки, пороки, но и достоинства (тяга к бизнесу, науке и культуре, смелость, мужество, упорство, верность традициям и т. д.). Англичане являются нацией скрытной, не очень общительной. Но у них не грех поучиться чувству собственного достоинства, тому, что они всегда и везде на первое место ставят свой собственный народ и его интересы. Об этой их особенности в свое время упоминал немецкий философ И. Кант: «Для своих земляков англичанин создает огромные благотворительные учреждения, которых нет ни у одного народа. – Но чужестранец, которого судьба забросила на английскую почву и который попал в большую нужду, всегда может умереть на навозной куче, так как он не англичанин, т. е. не человек».[326] У нас все иначе. Если кто-либо попал в беду, и у окружающих есть хоть малая возможность накормить, обогреть, приютить или просто выразить сочувствие словом, теплом человеческим, русский не преминет это сделать. Даже порой отдаст последнюю рубашку. К числу таких людей можно было отнести Г. Успенского. Люди, близко знавшие его как в молодые, так и в зрелые годы, вспоминали: «Часто… приходил Глеб домой в одних обрывках рубахи, изорвав ее всю на перевязки какому-нибудь больному нищему», или же случай, имевший с ним место в последние годы: «Снял с себя все до нитки и отдал замерзающему бродяге, вместе с последним рублем, который был у него в кармане».[327] Впрочем, нам и тут не стоит особо «выставляться» перед англичанами. У нас бродягу-забулдыгу приютят и накормят (дело ясное: «божий человек»), а вот огромный талант, который величие, славу и богатство России множит, норовят «замордовать», затоптать или, на худой конец, забыть на веки вечные. Его боятся пуще смерти. Как тут не вспомнить классическую историю с лесковским Левшой. Умелец, «подковавший блоху», был направлен в Британию (как удивительный мастер). Казацкий атаман Платов его перекрестил и, как водится, «мудро напутствовал»: «Не пей мало, не пей много, а пей средственно»… Тульский мастер, прибыв в Англию, вынужден был признать, что англичане сильны в науках (а «мы в науках не зашлись»). Однако же несмотря на все уговоры и предложения ему «большую образованность передать» (и даже с англичанкою повенчать), он от предложения остаться в Англии отказался. Левша заявил, что «мы… к своей родине привержены», да и «наша русская вера самая правильная». Одним словом, как уж они его не прельщали «на жисть энту заморскую», а все ж так и не прельстили. Обнаружив, что английские ружья не в пример русским будут (из-за неумелого у нас с ними обращения), Левша и стал рваться на родину («я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать»). Англичане, все же умеющие ценить любые таланты, с почетом его «напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетитором», и с Богом отправили в Россию. После того, как Левша вернулся (на корабле, опять же, не обошлось без жуткой пьянки), он тут же попал в больницу. Англичане своего, как водится, – в теплые постели, под надзор лекарей да аптекарей. Наши же мужики Левшу по привычке обчистили, оставив полуголым, и отправили умирать в приют для бездомных («в простонародную Обухвинскую больницу»). Напрасно бедняга тужился донести до государя императора «военную тайну» («Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся»). Бедный Левша умер от запоя и нашей обычной российской неурядицы. Страна как была, так и осталась с толстыми генералами, что сильны в воровстве, паркетных «битвах» и в «тушении пожаров», за что им раздают чины, ордена и премии… А наши неумелые «цари», спустя полтора века вновь (в какой уж раз) бездарно проиграли «очередную Крымскую кампанию» и фактически вновь отдали Севастополь… Так что доводи-не доводи слова истины «до нашего государя», вряд ли в Крыму, или еще где на какой-либо важной войне «совсем бы другой оборот был».[328] В британцах сочетались таланты и достоинства римлян, мудрость древних греков, сила и отвага викингов, ум и коварство друидов, безжалостность и жестокость гуннов. Как сказал о них Шатобриан: «Все англичане безумны по натуре или по повадке». Фарисейство и коварство англичан стали нарицательными среди всех народов. Обратимся к интереснейшей книге В. Ф. Иванова «Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней», где он характеризует следующим образом двойственно-лицемерную политику англичан… В то время как в других странах новые государственные деятели зачастую разрушали то, что было сделано их предшественниками, в английской политике каждый новый деятель независимо от своей партийности и личных симпатий продолжал неуклонно идти теми же путями и к той же цели, как и все его предшественники. Разрушая традиции в других землях, Англия бережет их у себя как зеницу ока, ибо это – ее главное богатство, результат многовекового опыта, их триумфов и неудач, побед и поражений. (Тут они, безусловно, молодцы и умницы!). Осмеивая внешние формы традиционного быта других народов, Англия с умилением держится за свои формы, за свои обычаи и за свои церемонии – как факторы, отмежевывающие ее от остальных рас и народов, и в этом она следует по стопам другого народа, который благодаря таким же причинам пронес сквозь тысячелетия свою национальность и сохранил ее живые силы до настоящих дней (Рауль де Ренне). «Вся внешняя политика Англии, – пишет Г. Бутми, – представляет ряд вопиющих нарушений международного права, что не мешает, однако, той же Англии в большинстве случаев являться авторитетной толковательницей означенного права. Войны ведутся англичанами исключительно разбойничьи – против своих и беззащитных, притом с неслыханным варварством и нарушением всяческих конвенций. Невзирая на это, голос Англии признается решающим в вопросах гуманности. «Владычица морей» вносит войну и смуту во всякую страну, с которой приходит в соприкосновение. Тем не менее английские советники высоко ценимы при иностранных дворах, а сверженные благодаря им монархи уходят кончать бесславный остаток дней в ту же самую Англию, которой они служили и которая погубила их. История показывает нам, что всякое государство, заключающее союз с Англией, тем самым неизбежно вступает и на путь своей погибели. Но вопреки здравому инстинкту народов их дипломаты и руководители периодической печати не перестают стремиться к такому отчаянному для себя договору с этим современным Карфагеном». Максим Горький прав, назвав английское лицемерие «наилучше организованным лицемерием». В отношении действий британской финансово-плутократической верхушки В.Ф. Иванов пишет: «Английские масоны в течение столетий проводили одну и ту же коварную политику. Проповедуя верность королю, они в чужих странах подготавливали и поддерживали революцию, дворцовые перевороты и даже цареубийства. Отстаивая для своего государства национальное единство, подвергая беспощадному удушению всякое проявление национальной самостоятельности индусов, буров, ирландцев и египтян, английские масоны в других странах культивировали сепаратизм, поддерживали национальные революции, толкали инородцев на отделение от центрального правительства, как, например, в России кавказцев, армян и т. д. Навязывая свободу и самое широкое демократическое устройство другим государствам, английские масоны-аристократы до мировой войны 1914 года фактически держали власть в своих руках, не допуская народные массы к управлению государством, держа их в бесправии и нищете… Провозглашая свободу краеугольным камнем всей своей национальной жизни, английские масоны-политики были неизменными проводниками узкого национализма и шовинизма… «Страна парламентаризма и свободы», Англия привлекала умы и сердца деятелей других стран, которые, увлекаемые миражем английской свободы, служили целям и видам английской политики и предавали интересы своих народов… За этот мираж политической свободы, благодаря глупости или доверчивости русских масонов, больше всего заплатила Россия. Русские масоны своим предательством национальных интересов укрепляли могущество Великобритании, которая всегда и неизменно добивалась для себя больших успехов, используя как орудие Россию».[329] У нас в настоящее время функцию масонов с успехом выполняют «демократы», щедро оплачиваемые Западом и Америкой. К сожалению, в СССР и России вот уже среди 2–3 поколений молодых людей (из рода тех привилегированных партийных, дипломатических, военных, научно-административных, литературно-журналистских, музыкально-артистических, базарно-торговых бонз, шоуменов) превалирует такая традиция воспитания и обучения, в основе которой смесь цинизма, лжи, полуправды, эгоизма. Итог их «философии» – сплошной «английский вздор», ибо в основе их примитивного мышления – «райский Запад». Может, господа почерпнули в противоречивой и сложной истории Запада то, что составляет его реальную силу (труд, упорство, профессионализм, ответственность или деловитость)?! Да ничего подобного! Эти «философы», подобно пресыщенному и избалованному дитяти, твердят лишь то, что им прикажет Запад. Народ имел глупость ввести во власть этих «митрофанушек». Как можно всерьез воспринимать идеи деятелей типа Гайдара, Козырева, Жириновского?! Однажды Пияшева глубокомысленно и важно изрекла: «Моя программа – апробированный историей и выдержавший проверку на дееспособность добротный «английский» путь к «благосостоянию народов» – путь классического либерализма».[330] Нет я, конечно, ее понимаю. Что и говорить: Англия – «великая страна». Там вон профессура даже попыталась, хотя и безуспешно, из цветочницы сделать самую «настоящую леди» (Б. Шоу, «Пигмалион»). Но превращать «продавцов цветов» в вице-премьеров и лидеров великого государства даже они еще не научились! Право слово, мистер Шенди (герой романа английского писателя Стерна) был прав, заметив: «Одна унция своего ума стоит больше тонны ума чужого». Велик соблазн отдаться Европе! 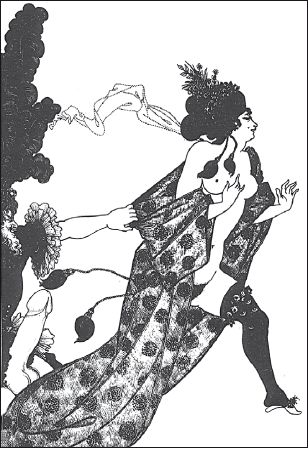 Обри Бердслей. Ценезиус, склоняющий Миррину к соитию. Сегодня ясно, к какой страшной трагедии привели народы России слепые и механические попытки этих вот господ следовать «добротным английским путем»… То, что имело ограниченный успех в Англии (не забудьте: после 1000 лет жестокого гнета, революций, войн, жутких грабежей), оказалось, вовсе не срабатывает у нас, в России. Почему? Наши реформаторы решили втиснуть РОССИЮ в прокрустово ложе копеечной Англии! Будучи вопиющими невеждами, они не смогли прочесть ни «Дневник писателя» Достоевского, ни Пушкина, ни Токвиля. Возможно, и задумались бы над последствиями. Отдавая должное «свободе личности», Токвиль был твердо убежден в том, что слепо копировать британские учреждения в любой иной стране нелепо или даже просто опасно (это равносильно тому, как если бы «приделывать голову свободы к телу раба»). В то же время, Токвиль верно заметил, что «в обеспечении свободы главную роль играет вековое воспитание народа, что одни конституционные учреждения по образцу английских еще недостаточны для этой цели».[331] Но к чему же свободной России голова раба! Отношение Пушкина к английским нравам и порядкам следует охарактеризовать как крайне сдержанное. Так, А. С. Пушкин в «Барышне-крестьянке» (1830) довольно едко высмеивал «настоящего русского барина» господина Муромского, который решил обустроить свое хозяйство на английский манер: «Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями, у дочери его мадам была англичанка. Поля свои он обрабатывал по английской методе. «Но на чужой манер хлеб русский не родится». Похоже, нынче решили пойти дальше классика в своих абсурдно-трагических устремлениях. У них уж не «Англия попала в Костромскую губернию», а напротив, всю Россию норовят подмять под Англию.[332] Писатель Ф. Достоевский говорил, в частности, и о том, что вся эта нелепая болтовня «об увенчании здания» России неким сооружением (будь то рынок, валюта и т. п.) носит характер откровенно «стадный и механически-успокоительный»: «И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно механически-успокоительные утешения всегда легки и приятны и чрезвычайно сподручны: «Нужна-де только европейская формула, и все как раз спасено; приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль талером». Главное, что приятно в этих механических успокоениях, – это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться подавно… Чего думать, чего голову ломать, еще заболит; взять готовое у чужих – и тотчас начнется музыка, согласный концерт – «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем». (авт. – Не так сидим!?) Ну, а что коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе бы пускать не надо… если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? То есть их бы и можно пустить и должно, потому что все ж они русские люди (а многие так и люди хорошие), если б только они, со всей землей, захотели смиренно, в ином общем великом деле, свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор, целых два столетия, были особо, а тут вдруг и соединятся! Это ведь не водевиль, это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека… с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном и лаптем, – чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже невольно…»[333] Высокомерие и алчность – давние болезни российской псевдоинтеллигенции и плутократии. Пример Великобритании особенно интересен тем, что англичане довели до совершенства индивидуалистско-буржуазный тип в истории человечества (тип хищника-дельца)… Всё безжалостное, цепкое, алчное, рациональное, хитрое, хваткое, чем как раз и отличаются люди этого склада, они возвели в наивысшую степень. Вместе с янки они создали уродца, устойчивый тип «сукиного сына», что ныне самовлюбленно пытается заправлять делами всей планеты. Думаю, они не обидятся на нашу прямоту, если, конечно, Вольтер не подвел нас, сказав в их адрес: «В то время был обычай в Альбионе по имени все вещи называть». Г. Честертон говорил: «Меня всегда до глубины души поражает странное свойство моих соотечественников: неоправданная самонадеянность в сочетании с ещё более неоправданной скромностью». Таковы парадоксы. Английский «здравый смысл» в ряде случаев не более, как однажды сказал О. Уайльд, чем «унаследованная глупость отцов». Здравый смысл англосаксов умещается на одной банковской банкноте. Делакруа прямо говорил: «Англичане так и говорят о человеке: он стоит столько-то. Это звучит приблизительно так же, как если бы они, говоря о бирже, спрашивали, как ее здоровье».[334] Сочетание высокого и низкого стилей здесь встречается чаще, чем семейное кровосмешение. В любом случае вы обязательно «попадете в точку», если, слегка потрафив британскому тщеславию, назовете Севастополь «английским Гибралтаром», Техас – одним из второстепенных графств Англии, а Косово – о. Мэн. Если же среди ваших отдаленных родственников найдется головорез-бритт, или же вы вдобавок ненароком упомянете, что джин с виски любимейший напиток великоросса, а бульдоги днем и ночью охраняют «наш Кремль», вас сочтут ещё и обладателем непревзойденного английского юмора, возможно, даже (кто знает) пожалуют званием «пэра». Писатель Дж. К. Джером безусловно имел право заметить в рассказе «О суете и тщеславии»: «Очень легко водить за нос наших хваленых стойких Джонов Булей, которые постоянно твердят: «Я ненавижу лесть, сэр» или «меня лестью никто не проведёт» – и так далее и тому подобное. Льстите им без удержу, уверяя, что они совершенно лишены тщеславия, и вы сможете сделать с ними все что захотите».[335] Учитывая, что Пушкин назвал Англию «отечеством карикатуры и пародии», и что Англия знавала лучшие времена, в обращении с ее сынами (будь то лютый пьяница, убийца, насильник или даже Блэр с Куком) следует добавлять – «Сэр»… 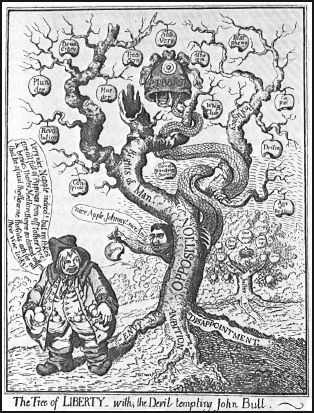 Дерево свободы и дьявол, соблазняющий Джона Булля. Английская сатирическая гравюра. Будем помнить и о той реальной силе, что правит Британией. Ее отношение к миру определено рядом позиций – воинственность, алчность и гегемонизм. Характеризуя их политику, один француз сказал в XVIII в.: «Англичане рассматривают свои притязания как права, права же своих соседей – как узурпацию».… Они норовят обчистить вас до нитки – да еще заставят заплатить пеню по суду, если вы, вдруг, осмелитесь возмущаться… Будем же держать «застегнутыми на все пуговицы» не только карманы, но и душу, веру русскую, язык и народные традиции. Особо важно «держать наш порох сухим», ибо у Альбиона – сердце ехидны, прожорливость удава и желудок кашалота. Жестокость и еще раз жестокость скрывается за внешне безупречными речами и манерами английской правящей верхушки. Мудрено ли, что англичане стоят у истоков всех заговоров и войн, которые развязывались на земном шаре за последнюю тысячу лет. Эта земля вспоена млеком злодейства. Все тот же историк Н. Карамзин, сказавший немало добрых слов в адрес Альбиона, писал: «Английская история богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более, нежели во всех других землях, погибло людей от внутренних мятежей. Здесь католики умерщвляли реформаторов, реформаторы – католиков, роялисты – республиканцев, республиканцы – роялистов; здесь была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! Какое исступление умов! Книга выпадает из рук. Кто полюбит англичан, читая их историю? Какие парламенты! Римский сенат во время Калигулы был не хуже их».[336] Это остервенение и жестокость, увы, перешли в XXI век. Англичане могут безжалостно лишить отечества целую нацию, но при этом же в Британии поспешат обустроить поистине царский «Дом собаки», под наблюдением королевской четы, где предусмотрены комнаты для реабилитации бездомных псов. Собаки дороже людей. Или же спалят дотла бомбардировками Дрезден или Белград, но принц Кентский даст пару фунтов на детский ожоговый центр где-нибудь в далекой России. А в сумме делается вид, что вроде бы они соблюли баланс. Англия пережила свой век… Черчилль как-то сказал: «британцы – единственный народ на свете, который любит, когда им говорят, что дела обстоят хуже некуда». Пора бы англичанам вспомнить это изречение последнего трубадура империи. Стойкую антипатию к ним испытывают немцы, французы, китайцы и др. То, что никто не любит англичан, вполне закономерно.… В книге немецкого историка, корифея антиковедения Э. Мейера «Англия. Ее государственное и политическое значение и война против Германии» (1915) Британия предстает перед взором читателя как «отсталая в культурном и государственном отношении нация, запоздавшая в своем развитии, далеко опереженная Германией и не имеющая никаких прав…» (М. И. Ростовцев).[337] Как бы мы не относились к британцам, нельзя опускаться до шаржированного представления. Вклад шотландцев, ирландцев, англичан в становление институтов европейской и мировой культур велик. Английский прозаик Дж. Фаулз заметил, что «значительные перемены в европейской культуре, которые произошли под влиянием богатого воображения бриттов (в первоначальном кельтском смысле слова), никогда, как я полагаю, не были должным образом оценены и признаны».[338] Все лучшее, умное, благородное, трудолюбивое вы скорее найдете у ирландцев, шотландцев и жителей Уэльса, нежели в самом Лондоне. Вспомним о роли шотландских университетов, о том, что многие мыслители и писатели Англии имели своей родиной горы и равнины Шотландии и Ирландии. В. Скотт признавал: «Наши каналы, наши железные дороги, все наши общественные стройки созданы руками ирландцев».[339] Хотя нельзя не признать, что и там порой встречаются выродки подобные нынешним кровавым Макбетам. Что же до совокупного вклада в копилку всемирного человеческого опыта, то, вопреки прозвучавшей острой, хотя и небезосновательной критике, он значителен: 1) ими впервые создана, опробована и запущена в ход вполне жизнеспособная и достаточно эффективная модель парламентско-филистерской республики; 2) Великобритания добилась того, что в этой стране созданы внешние условия для политического и религиозного плюрализма; 3) ею был создан и задействован колоссальный потенциал экономического, культурного, научно-технического, промышленного прогресса (титул «мастерская мира»); 4) Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс сумели вырастить целую плеяду выдающихся деятелей промышленности, науки, техники, литературы, культуры, искусств, политики; 5) была образована «Империя», представляющая собой не только инструмент колониального господства, закабаления и эксплуатации, но и, в известном смысле, обучения и воспитания народов; 6) возник и Сити – важный центр мирового экономического господства, через который пойдут самые мощные торгово-финансовые потоки; 7) англо-саксонский тип стал одним из самых энергичных, деятельных, умелых, знающих, но вместе с тем и беспощадно-алчных типов, использующих любую возможность для личного обогащения (Черчилль сказал: «Девиз британцев – бизнес несмотря ни на что!»); 8) Англию, эту Северную Иудею, лишь условно можно бы назвать «демократией», поскольку она правила народами, сохраняя у них иллюзию праведности при полнейшем банкротстве идей и подлости намерений (к примеру, англичанам понадобилось 300 лет для предоставления Шотландии прав на собственный парламент!); 9) искусство управлять, не вызывая потрясений, скорее миф, вспомнив пример многовекового конфликта в Ирландии; хотя нельзя отказать властной элите в умении управлять, ловко манипулировать общественным мнением внутри самой Англии (мудрый У. Гладстон часто любил повторять: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны»); 10) в то же время Англия – родина масонов, которые стали тут в действительности «приказчиками плутократии» (принцип нашел выражение и в известной поговорке: «Виноград не растет у нас, но мы пьем вино всех наций», хотя было бы куда правильнее и точнее сказать в отношении всей британской олигархии и правящей верхушки, что она пьет не столько вино, сколько кровь и соки всех наций мира); 11) стремясь к добрым отношениям с британцами, всегда следует держать ухо востро: быть твердыми, умными, настойчивыми, жесткими, преданными идее своего отечества, сообразительными, выдержанными, мудрыми, преследуя национальные интересы и выгоды России, а порой и цинично-ироничными, то есть иметь необходимый арсенал для обуздания «цивилизованных джентльменов», какими англичане и предстали перед миром, убивая беззащитных детей и жителей (в Югославии). Эпос английской истории, как и эпос Гомера, говоря словами Карлейля, казалось бы, просто обрывается. Однако у него, несомненно, будет дальнейшее продолжение. Ведь даже принимая в расчёт несомненный «гений английской расы», она существует не сама по себе в цивилизации, но во многом обязана своим прогрессом и достижениями другим народам Европы и мира. Если бы не патологическое себялюбие англичан и американцев, которое заставляет их с абсолютным презрением взирать на весь остальной мир, у них можно было бы даже кое-чему поучиться. Увы, сей недостаток делает их крайне опасными и совершенно непредсказуемыми детьми человечества. Видимо, У. Теккерей был прав, сказав: «Из всех пороков, унижающих личность человека, себялюбие самый гнусный и презренный». Подобно тому, как на почве Греции и Рима выросло новейшее человечество, так и история нового времени была бы неполной без культурного вклада французов, немцев и т. д. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
