|
||||
|
|
Александр Иванович Остерман-Толстой 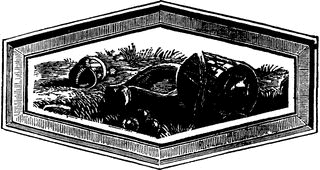 Большинству своих современников, множеству знакомых, друзей, а порой и самым близким людям он стал известен уже как граф Остерман-Толстой. И даже те, кто знал его в годы молодости, вспоминали, что уже тогда он был генералом. В своих мнениях о нем все сходились на том, что граф Александр Иванович Остерман-Толстой был баловнем судьбы. Казалось, что его генеральские эполеты сияли еще ярче в блеске его обаяния и воинской доблести. Был он не просто красавцем, стройным, высоким, с темно-русыми волосами и синими глазами, но «…важные, резкие черты отличали его смуглое значительное лицо, по которому можно было отгадать характер самостоятельный…». Самостоятельность характера объяснялась отчасти тем, что Остерман-Толстой был одним из самых богатых российских помещиков, который древностью происхождения мог поспорить с царской фамилией. Его благосостояние не зависело от жалованья, получаемого за службу, от милости или немилости императора, он служил без принуждения, из одного только чувства чести, считая это своим долгом перед Отечеством. «Даже среди знаменитых сверстников умел он себя выказать», — писал о нем один из современников. Родился Толстой в зимнем Петербурге в 1770 году и был единственным ребенком в семье видного екатерининского сановника Ивана Матвеевича Толстого, женившегося на Аграфене Ильиничне Бибиковой, происходившей из древнего татарского рода. Отец будущего героя Отечественной войны 1812 года имел чин генерал-поручика и был человеком образованным. Принадлежа к высшему кругу петербургской знати, семья Толстых была небогатой, что делало почти несбыточными мечты родителей о блестящей карьере любимого сына. Для того чтобы Толстой мог занять при дворе и в обществе место, подобающее его знатности, родительских средств явно не хватало. Это обстоятельство вызывало постоянное неудовольствие Ивана Матвеевича, который к тому же от природы был человеком суровым, угрюмым и желчным. В кругу семьи он без стеснения порицал порядки, царившие при дворе императрицы Екатерины II, считая их для себя невыносимыми. Он не скрывал своего раздражения прочив «новой» петербургской знати Меншиковых, Безбородко, Орловых, Разумовских, которая, уступая в родовитости, возвышалась и укрепляла свое положение за счет бесчисленных земельных и денежных пожалований. Сам Иван Матвеевич был беден, но горд. Подаяния он не принял бы даже из царских рук, твердо считая, что служить надобно бескорыстно. Он был прямодушен и честен, не умел льстить и старался привить свои моральные устои сыну, решив, что лучшее воспитание Александр получит в родительском доме. Очевидно, домашнее образование Толстого оказалось бы недостаточным, если бы он не был любознателен от природы и не пополнял бы свои знания ревностно и неустанно всю жизнь. «Я не стыжусь невольного невежества, но не хочу быть невольным невеждой», — говорил он впоследствии. У юного Толстого были особые склонности к иностранным языкам. Он знал их несколько, говорил по-французски так, что французы принимали его за соотечественника. Иван Матвеевич считал необходимым тщательное изучение латыни, очевидно, для того, чтобы сын, читая в подлинниках описания подвигов знаменитых мужей античности, проникался их возвышенным духом, благородством поступков и прямотой суждений. Однако в те времена самым удивительным было то, что Толстой в совершенстве говорил по-русски, в отличие от многих российских дворян, для которых сделался родным французский язык. Живой интерес всегда вызывали у него книги по военному искусству. Он с жадностью читал описания походов и войн всех времен, но страницы русской военной истории начиная с эпохи Петра I волновали его особенно. Отец часто вспоминал об участии в Семилетней войне и войне с Турцией 1768–1774 годов, он любил рассказывать домочадцам про свои «подвиги, лишения и страдания в ту пору, когда едва не выпало ему на долю умереть с голоду в молдавских степях». И, конечно же, Александр хотел стать военным. Препятствий его желанию не предвиделось, тем более что задолго до того, как он стал мечтать о военной службе, отец по традиции того времени записал своего четырехлетнего сына в лейб-гвардии Преображенский полк. С 1774 года полковой писарь аккуратно делал соответствующие записи в формулярном списке Александра Толстого: «Определен в службу 1774 года января 1; сержантом 1780 года января 1; прапорщиком 1784 года января 1…» Четырнадцати лет от роду Александр Иванович Толстой явился в полк, и для будущего знаменитого генерала началась действительная военная служба. Такое ее начало было обычным явлением для молодых людей, происходивших из дворянских семей, имевших влияние и связи в Петербурге. Родители записывали своих детей в гвардию, зная, что обеспечивают им не только стремительную военную, но и придворную карьеру. Зачисление в Преображенский полк было особенно почетным, так как это был один из старейших полков — родоначальников гвардии, образованных Петром I и участвовавших в войнах той эпохи. Но после смерти Петра I гвардейские полки редко участвовали в боях и походах, в основном принимая участие в дворцовых церемониях, празднествах, увеселениях, несли караульную службу в царских покоях. Служба в столичном гарнизоне, требовавшая к тому же значительных денежных расходов, мало соответствовала описаниям походной жизни, с детства увлекавшим воображение Толстого. Где много роскоши, считал он, там мало доблести. Юный преображенец карьере царедворца предпочитал военные опасности… 12 августа 1787 года Турция, надеясь взять реванш за прежние поражения, объявила России войну, а спустя два месяца Петербург с ликованием воспринял известие о блестящей победе русского оружия. 1 октября войска Суворова, входившие в состав Екатеринославской армии Г. А. Потемкина, наголову разгромили турецкий десант на Кинбурнской косе. В это время Екатерина II, желая возродить былую славу гвардейских полков, приказала сформировать из гвардейских войск батальон волонтеров (добровольцев) для отправки в Екатеринославскую армию. Прапорщик Толстой подал прошение о зачислении его в этот отряд. Впервые в боевых действиях юный Толстой, будучи уже подпоручиком, участвовал 7 сентября 1789 года на реке Сальче, где армия Н. В. Репнина, поразив неприятеля, преследовала его до города Измаила; 4 ноября он находился при взятии города Бендеры, где, окруженный русскими войсками, без боя сложил оружие 16-тысячный турецкий гарнизон. Это были первые шаги будущего военачальника на военном поприще. Но своим истинным боевым крещением он считал штурм крепости Измаил, который запомнился ему на всю жизнь. Осенью 1790 года русское командование стягивало силы к Измаилу, к этой самой могучей твердыне турецкого владычества в Причерноморье. Гарнизон Измаила без труда отразил разрозненные атаки русских войск, и они вынуждены были перейти к осаде, изнурительной не столько для осажденных, как для осаждавших, среди которых находился и подпоручик Александр Толстой. Осень стояла в тех краях сырая и дождливая. Укрываться от непогоды приходилось в ветхих палатках, износившаяся одежда согревала плохо. Подводы с продовольствием вязли в непроходимой грязи на дорогах. Из-за голода и холода в армии распространились болезни, уносившие ежедневно сотни людей. А вокруг на десятки верст расстилалась бесприютная серая степь, порывистый ветер рвал облака, несущиеся по небу. «Кроме степи, неба и неприятеля, нигде ничего не видно», — горько шутили офицеры. И подпоручик Толстой каждый день невольно смотрел в ту сторону, где сквозь осенний туман прорисовывались грозные валы Измаила. О силе этой крепости он знал не понаслышке. Еще 12 октября 1789 года он участвовал в неудачной для русских атаке Измаила, находясь в войсках Н. В. Репнина. А в ноябре 1790 года неутомимый подпоручик-волонтер уже служил на Черноморской гребной флотилии генерал-майора Иосифа де Рибаса, которая, пустившись по Дунаю, очистила его от турецких лодок. Войска де Рибаса овладели крепостями Тульчей, Исакчей и Килией. При взятии последней в числе отличившихся был и Толстой. 18 ноября гребная флотилия, войдя в Килийский рукав Дуная, появилась у самых стен Измаила. 20 ноября Толстой принимал участие в жестоком бою, во время которого была уничтожена турецкая флотилия, прикрывавшая крепость с юга… Измаил стоял непоколебленный. Осада продолжалась. И подпоручик Толстой вместе со всеми в армии столько же мало верил в ее успех, сколько и в возможность удачного штурма. Как вдруг 2 декабря в русский лагерь прибыл для принятия командования А. В. Суворов. Толстой видел, как разом оживились русские воины. «Быть штурму!» — говорила они друг другу с уверенностью. Юный офицер слышал, как его начальник генерал де Рибас, встретившись с полководцем, громко произнес: «Вы один, дорогой герой, стоите 100 тысяч человек!» И он сам, Александр Толстой, никогда прежде не служивший в войсках Суворова, воспрянул духом вместе с его старыми соратниками. Хотя чин подпоручика он получил не за участие в парадах и навыки поведения в бою пришли к нему не на маневрах, но опыт, боевой и нравственный, приобретенный именно под Измаилом, остался с ним на всю жизнь. Решившись на штурм крепости, старый полководец активно готовил к нему войска. Толстой видел, как Суворов лично выезжал с офицерами к самым стенам Измаила, чтобы каждый из них заранее изучил тот участок, где ему придется вести вверенные ему войска на приступ грозной твердыни. По приказу состарившегося в битвах военачальника, солдаты выстроили подобие измаильского вала со рвом, и Суворов лично учил их, как засыпать ров фашинами, ставить штурмовые лестницы, взбираться на вал и колоть штыком. У него хватало времени и сил следить за тем, как одеты и накормлены воины. По его распоряжению из-под Галаца были вызваны маркитанты с продовольствием. В военном деле для Суворова не было мелочей. Все старался предусмотреть полководец, сознававший, что ему вверены жизни тысяч людей, которые должны были вскоре по его приказу победить или умереть. С появлением Суворова в русском лагере в войсках появилась уверенность в победе. Эту уверенность испытывал и юный Толстой, проникаясь ею от своих более опытных соратников. Вечерами после учений он часто навещал генерал-майора Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, командира Бугского егерского корпуса. Михаил Илларионович был женат на сводной сестре матери Толстого, Екатерине Ильиничне Бибиковой, и всегда радушно принимал своего юного родственника, сменившего, как и он в свое время, привольную жизнь в Петербурге на военные лишения. Толстой всякий раз с невольным любопытством смотрел на генерала, за которым в то время уже прочно укоренилась слава опытного и мужественного военачальника, испытанного в боях с турками. Офицеры, с которыми подпоручик свел знакомство в лагере, передали ему отзыв Суворова о Кутузове: «Умен, умен; хитер, хитер, его и Рибас не обманет». В армии много говорили о необычных ранениях генерала. В турецких войнах неприятельская пуля настигала его дважды. В 1788 году до Толстого дошел слух, что Кутузов получил под Очаковом рану, всем казавшуюся тогда смертельной: пуля прошла сквозь голову почти в том же самом месте, где и пять лет назад в бою под Алуштой. Но вместо известия о смерти родственника Толстой вскоре узнал, что тот, оправившись от ранения, продолжает службу. И вот теперь под Измаилом подпоручик видел его живого и здорового, и лишь когда Михаил Илларионович поворачивался к собеседнику правой стороной лица, то сразу же становилось видно, как жестоко иссечено оно шрамами, а правый глаз, казалось, смотрел более тускло. Вообще же в облике военачальника, которого так отличал Суворов, Толстой находил мало воинственного: полная, приземистая фигура, мягкий и проницательный взгляд темных глаз, доброжелательность и приветливость в обхождении, неспешность в движениях — все это само собой сразу же наводило на мысль, что круг интересов Кутузова не замыкался на воинской службе. Он действительно был очень образован, чрезвычайно начитан, любознателен, изучил иностранные языки, путешествовал по Европе, слыл знатоком всех тонкостей придворного этикета, что не мешало ему находить общий язык с солдатами и быть любимым ими. Кроме того, М. И. Кутузов был превосходным рассказчиком, и Толстой мог часами слушать своего родственника, считая, что беседа с ним является не только приятным, но и полезным, поучительным времяпрепровождением. Однажды, когда разговор зашел о воинской службе, Кутузов произнес слова, которые врезались в память. «Знаешь ли ты, мой друг, что такое солдат? Ты еще молод. Я же получил чины, и ленты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо мне говорят: он настоящий русский солдат». Штурм Измаила был назначен на 11 декабря. Подпоручик Толстой находился в десантных войсках генерала де Рибаса, перед которыми стояла задача ворваться в крепость со стороны южного вала, образованного берегом реки. Высота берега достигала здесь 10–12 метров, местами он был довольно крутым. Турки заблаговременно укрепили этот участок сооружением 10 батарей. В три часа ночи, прорезая мглу, над русским лагерем взвилась ракета. Это был сигнал, по которому штурмовые колонны должны были подвинуться к Измаилу и не позднее чем через два часа занять исходные для атаки места в шестистах метрах от стен крепости. Чтобы успешно выполнить это движение гребной флотилии де Рибаса, предстояло преодолеть едва ли не самые большие трудности. Его войска двинулись по реке в сплошном тумане на судах, построенных в две линии. На одном из малых судов флотилии находился и Александр Толстой. Он не замечал ни пронизывающего ветра, ни холода, поднимавшегося от воды. До рассвета было еще очень далеко. Ночная тьма перемешалась с туманом, сквозь которые подпоручик, к своей досаде, ничего не мог различить. Со всех сторон его обступала тишина, едва нарушаемая всплесками весел. Когда тишина стала казаться всем бесконечной, ввысь, пылая, взвилась вторая ракета. Русские войска устремились на штурм. Они еще не достигли рва, как им навстречу ударила неприятельская артиллерия. Толстому показалось, что стены крепости разом вспыхнули. Под огнем турецких пушек суда флотилии разворачивались у берега, направляясь к нему на большой скорости. Гребцы налегали на весла изо всех сил. И вот, уже ступая по колено в ледяную воду, подпоручик Толстой соскочил с борта судна. Вокруг него на суше уже сосредоточивались группами войска десанта. Одним из первых ступил на неприятельский берег генерал-майор де Рибас. Отыскав его глазами, Толстой увидел, что лицо начальника выражало спокойствие и твердость. Де Рибас деловито распоряжался, требуя, чтобы воины не скапливались под огнем турецких батарей, представляя собою мишень, а поднималась по склону берега, выбирая более отлогие места. Выхватив шпагу, де Рибас сам повел их в атаку на неприятельские пушки, в которой принимал участие и подпоручик Толстой. …С наступлением рассвета вал полностью находился в руках у русских, и рукопашный бой невиданной жестокости, вскоре перешедший в яростную резню, закипел на улицах города. Неприятель сопротивлялся ожесточенно: султан обещал казнить весь гарнизон крепости в случае, если падет Измаил. Решительнее всех действовал один из опытных турецких военачальников Каплан-Гирей. Собрав вокруг себя значительные силы, он попытался пробиться с ними к реке сквозь войска де Рибаса. В кровопролитной схватке отряд Каплан-Гирея был уничтожен вместе с ним самим. Отбивая этот натиск, Толстой невольно вспомнил ученья перед штурмом. Тогда некоторые офицеры посмеивались между собой, глядя на то, с какой ретивостью Суворов лично обучал солдат штыковому бою. Сейчас же, увидев, как обезумевшие от ярости и отчаяния вражеские толпы любой ценой пытались вырваться из крепости, подпоручик понял, что те ученья не были чудачеством или блажью старого полководца. Русские воины уверенно и хладнокровно отражали бешеные удары изогнутых турецких клинков, и их штыки были для неприятеля неодолимой преградой. В сумерках гарнизон крепости прекратил сопротивление. Измаил пал. «Не было крепче крепости, ни отчаяннее обороны…» — сказал Суворов. Александр Толстой не хотел оставаться в городе, наполненном тысячами убитых, и решил возвратиться на ночлег в лагерь. Пережитые волнения, напряжение кровопролитного боя разом оставили его, и он шел между палатками, ничего не чувствуя, кроме усталости и удивления, что среди всего того, что он видел в этот день, он остался живым и невредимым. Неожиданно он услышал, как его окликнули, и повернувшись, увидел Михаила Илларионовича Кутузова. Несмотря на успех штурма, в котором войска Кутузова выказали замечательную стойкость, и назначение его самого комендантом крепости, вид у генерала был усталый и расстроенный. «Век не увижу такого дела, — заговорил Михаил Илларионович, и голос его звучал непривычно глухо. — Приехал домой как в пустыню… Кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо умирает. Ты жив, слава богу!» А когда они уже расставались, Кутузов попросил Александра: «Ты матушке своей отпиши, что племянницы ее муж бригадир Рибопьер Иван Степанович живот свой за Отечество положил…» Турция не могла оправиться от удара, нанесенного ей под Измаилом. Через полгода в Яссах был заключен выгодный для России мир. В 1792 году с батальоном гвардейцев-волонтеров возвратился в Петербург и поручик[2] Александр Толстой. Молодой офицер был милостиво принят императрицей Екатериной II. Северная столица радостно встречала победителей. В Преображенском полку, где продолжал служить Толстой, в то время немало было боевых офицеров. В походных условиях, подвергаясь одинаковым опасностям в сражениях, побеждая общего врага, все были равны и устремлены к единой цели. Но, попав в Петербурге в вихрь светских развлечений, гвардейские офицеры вновь зажили привольной жизнью, в которой первенствовали те, чье достоинство состояло в деньгах и протекциях. При том образе жизни, какой вели многие из его сослуживцев, Толстой постоянно ощущал недостаток своего собственного состояния, что затрудняло самолюбивому поручику общение с офицерами в полку. Он был сдержан и замкнут, участия в общих увеселениях не принимал, так как гордость мешала ему пользоваться расточительностью приятелей, а проживать в столице скудные родительские средства он не мог себе позволить. Вскоре, в 1793 году, Толстой подал прошение о переводе из гвардии в армейскую часть, получив в командование 2-й батальон в Бугском егерском корпусе, который был сформирован М. И. Кутузовым и брал с ним вместе Измаил. Несмотря на то, что Толстой оставил службу в гвардии, карьера его складывалась весьма удачно: он был переведен в армию с чином подполковника, что было в традициях того времени. Часто молодые люди из аристократических фамилий, достигнув чина поручика гвардии, переводились в армейские полки, где, будучи в чине полковника и даже генерала, не имели ни малейшего представления о трудностях боевой жизни. Причем некоторые из них сразу же выходили в отставку, получая затем всю жизнь пенсию. Были и такие, кто добивался назначения в армейский полк, чтобы поправить свое состояние за счет казенных средств. Александр Толстой использовал преимущества, полученные от службы в гвардии, для иных целей: он желал честно служить Отечеству, а не числиться на государственной службе. Вдали от столичного гарнизона, придворной суеты он вновь ощутил себя солдатом, воином, и это было то состояние духа, к которому он всегда стремился. В Бугском егерском корпусе бывший поручик гвардии прослужил три года. За это время он свыкся с бытом армейского офицера и, поглощенный заботами своего батальона, стал постигать духовный мир русских солдат, сделавшийся ему доступным и понятным, чего никогда не случилось бы, если бы он продолжал службу в столице. Для его будущего имело значение и то, что боевой опыт, который он начал приобретать во время русско-турецкой войны, пополнялся в дни мира службой в егерском корпусе, так как егеря, самый передовой вид пехоты, были наглядным воплощением суворовского афоризма «всяк воин свой маневр понимает». Александр Толстой в юности систематических военных знаний не получил, тонкости своего ремесла он постигал на практике. Но, пожалуй, в те годы это было лучшим способом получения военного образования. Не учебниками, писанными кабинетными стратегами и тактиками, а победами великого Суворова утверждалась теория передового военного искусства, ниспровергавшая изжившие себя западноевропейские образцы, которые в то время в основном и изучались в военных учебных заведениях. И где, как не в войсках знаменитого полководца, можно было освоить его «науку побеждать»? В 1796 году в жизни юного подполковника произошли перемены, столь неожиданные, что, случись они прежде, и у Толстого не было бы необходимости оставлять службу в гвардии и служить в армейских егерях. И судьба его могла сложиться совсем иначе. В тот год, приехав в Петербург, он познакомился со своими бездетными родственниками графами И. А. и Ф. А. Остерманами, родными братьями его умершей бабки, славившимися почетом при дворе, богатством и твердым характером. «Своеобычливым» братьям понравился внешностью и сходством нравов их молодой родственник, и они, посовещавшись, «избрали преемником их фамилии старшаго, по покойной родной сестре, своего внука подполковника и кавалера Александра Толстова…» и просили высочайшего соизволения, «чтоб оный внук мог уже при жизни их именоваться графом Остерманом и употреблять фамильный их герб». 27 октября 1796 года Екатерина II за десять дней до своей смерти написала на поданном ей прошении: «Быть посему». Так в один день подполковник Толстой, известный лишь узкому кругу своих сослуживцев, стал графом Александром Ивановичем Остерманом-Толстым, наследником трех обширных земельных майоратов в Петербургской, Московской и Могилевской губерниях, крупнейшим помещиком и завиднейшим женихом в России, оказавшись на самом верху аристократического общества. Перемену в своем положении он ощутил сразу же: отныне он был в центре внимания, как будто в нем разом обнаружились скрытые до той поры достоинства. Первые сановники Петербурга приглашали его на званые обеды, ужины, балы, где ловили каждое сказанное им слово. Его военные заслуги, казалось, сделались заметнее, через несколько дней он стал уже полковником. Те, кто прежде был с ним едва знаком и почти не замечал, теперь кланялись ему издалека. Родственники же решили, что настал наконец благоприятный момент для устройства личной жизни 26-летнего графа. Ему подыскали достойную невесту, родовитую и с огромным приданым княжну Елизавету Алексеевну Голицыну, фрейлину императорского двора, о которой один из современников писал, что она «была миниатюрное, довольно интересное, от природы неглупое и доброе существо». В 1799 году А. И. Остерман-Толстой женился на княжне Голицыной, испытывая к ней чувство глубокого уважения, не имевшего, однако, ничего общего с любовью. Получение наследства и выгодная женитьба внешне изменили образ его жизни, но прежним оставался его внутренний мир, он не мог отказаться от моральных ценностей, которые уже приобрел до того, как в его жизни произошли непредвиденные события. Сердце его не окаменело от роскоши и тщеславия. Он не мог не чувствовать, что перемена в отношении к нему была связана с приобретением богатства и графского титула. От природы впечатлительный, Александр Иванович Остерман-Толстой с этого времени начал обнаруживать черты нервозности, эмоциональной неустойчивости. При встрече с людьми он как будто постоянно задавался вопросом, кого в нем видят: человека с его намерениями и поступками или же «сиятельного графа»? В зависимости от того, какой ответ он сам находил на свой вопрос, он был надменным и презрительным с одними, доступным и доброжелательным с другими. Поглощенный изменениями в собственной жизни, новоявленный граф Остерман, очевидно, не сразу оценил перемены в стране, вызванные смертью Екатерины II и восшествием на престол ее сына Павла I. Более опытные и искушенные соотечественники сразу же почувствовали в этом событии грядущие бедствия России, коснувшиеся в первую очередь армии. Не случайно знаменитый фельдмаршал Румянцев, услыхав о внезапном приезде фельдъегеря из Петербурга, горестно сказал: «Знаю, что это значит!» При чтении послания Павла I, извещавшего о смерти императрицы, полководца хватил удар, от которого он вскоре скончался. Смерть одного «из стаи славных екатерининских орлов» на пороге нового царствования была символичной… Последнее тридцатилетие XVIII века было наполнено громом побед русской армии. «Российский меч во всех концах вселенной блещет…» — с восторгом писал Державин. Но в России существовал человек, которого победы россиян едва ли не раздражали, у которого единственным кумиром был полководец Фридрих II, не раз битый русскими войсками. Большим несчастьем для Отечества являлось то, что человек этот был не кто иной, как русский император Павел I. С первых же дней своего царствования он стремился подогнать русские войска под устаревшие прусские образцы, и с 1796 года в армии за основу обучения был принят с некоторыми изменениями прусский устав 1760 года, отразивший уровень развития европейского военного искусства 50-летней давности. В числе лиц, обязанных руководствоваться предписаниями «нового» устава, был и А. И. Остерман-Толстой. Читая этот документ, он невольно думал о том, что для императора и его гатчинских сподвижников опыт побед русских войск за минувшее тридцатилетие как будто и не существовал, как будто чья-то невидимая рука хотела злобно перечеркнуть славное боевое России и его, Остермана, прошлое. Это были злоба и мстительность людей, которым не удавалось проявить себя в военную пору, потому что их нравственные качества были низкими, а военное мастерство — ничтожным. Их путь лежал в Гатчинские войска Павла I, где вахт-парад считался настоящим сражением, а за военное искусство принималась «наука складывания плаща, ибо не далее простирались их сведения» в этом вопросе. Слепое повиновение воле императора и тупую страсть к маршированию на плацу эти люди отождествляли со службой Отечеству. Не зная тягот войны, они не знали и истинной цены русскому солдату, относились к нему с бессмысленной жестокостью. Остерман-Толстой с болью узнавал от прежних сослуживцев по Преображенскому полку, как во время учений любимец Павла генерал Аракчеев, добиваясь образцовой выправки солдат, не стеснялся бить их палкой, рвал усы у старых гренадер, назвал перед строем заслуженных полков их овеянные славой знамена екатерининскими юбками. Остерман-Толстой понимал, что выговорить такие слова мог человек, не проливавший кровь под этими знаменами. 1 февраля 1798 года Остермана неожиданно назначили шефом Шлиссельбургского мушкетерского полка с производством на 27-м году жизни в чин генерал-майора. В этом случае значение имели не личные заслуги, а убеждение Павла I в том, что шеф полка должен быть непременно в чине генерала. И сам Александр Иванович чувствовал, что это было мнимое благополучие. Он не умел служить за страх, а за совесть. Для армии павловского времени он был человеком неудобным. В один из дней этого беспокойного царствования он явился по вызову во дворец, где услышал то, чего давно ожидал. Один из приближенных Павла I объявил господам генералам, штаб- и обер-офицерам, что государь император, хотя знает, как многие из вас ознаменовали себя отличными услугами, однако же службою вашею весьма недоволен и приказал мне вам сказать, что за малейшую ошибку по службе в строю каждый из вас будет разжалован вечно в рядовые солдаты. Тот, кто с честью служил, с честью службу может оставить, словом, государь изволил сказать: «Ищите себе место». 18 апреля 1798 года Остерман-Толстой был «переименован в действительные статские советники для определения к статским делам». Такой поворот событий его не особенно огорчил. Он был еще очень молод и верил, что у него все впереди. Кроме того, он чувствовал, что не одинок в постигшей его участи. С ноября 1796 по март 1801 года его судьбу разделили 2156 офицеров, 333 генерала и 7 фельдмаршалов, среди которых находился и Суворов, ставший в те годы символом отечественных боевых традиций, знаменем всех, кто был противником «опруссачивания» русской армии. «Русские прусских всегда бивали, что же тут перенять?» — говорил старый полководец, и его слова эхом разносились по России. И, сам того не желая, Павел I добился, что тысячи людей невольно осознали свое идейное братство, преданность суворовской школе военного искусства, которая сформировала их не только боевые, но и человеческие качества, среди которых на первом месте был патриотизм. В одном строю с теми, кто оказался выше павловских «нововведений», находился и А. И. Остерман-Толстой. Император Александр I, вступивший на престол в результате дворцового переворота, устранившего Павла I, разрешил возвратиться на военную службу всем, кто вынужден был ее оставить в годы предыдущего царствования. И 27 марта 1801 года в формулярном списке А. И. Остермана-Толстого появилась запись: «Принят генерал-майором с состоянием по армии». Он не получил определенного назначения в связи с отсутствием вакантной должности, ожидание которой затянулось на несколько лет, поэтому в 1805 году он находился без особой команды при десантном корпусе П. А. Толстого, действовавшем в Шведской Померании. В Стральзунде Остерману было вверено командование авангардом корпуса, но поход продолжался недолго. 7 декабря из Австрии, с главного театра боевых действий, пришло известие о сокрушительном поражении русских и австрийцев под Аустерлицем. После минувшего тридцатилетия побед России во всех войнах эта новость сразила всех наповал. Остерман-Толстой возвращался в Петербург с горестью в сердце и нетерпением узнать о подробностях несчастья, постигшего русскую армию, так как все сведения, доходившие до него за границей, были неясными и смутными. В северной столице «официальным» виновником неудачи под Аустерлицем считали его ближайшего родственника М. И. Кутузова, но вполголоса осуждали Александра I. «Воспитанный под барабаном» в царствование своего отца, так же, как он, поглощенный парадной стороной военной службы, русский император самонадеянно вообразил себя весьма сведущим в полководческом искусстве. Явившись в армию, он фактически отстранил от командования М. И. Кутузова, против воли которого было дано Аустерлицкое сражение, где для русских воинов наступило время расплачиваться кровью за невежество гатчинских служак и австрийского гофкригсрата. Правила «Воинского артикула» 1796 года, в течение пяти лет вбиваемые палками в головы русских солдат, развалились, как карточный домик, под натиском наполеоновских войск. Теперь уже многим из тех, кто сделал военную карьеру при Павле I, приходилось искать себе места на штатской службе или отправляться на покой. Для дальнейшего противоборства с победившим соперником в армии оставались лишь те, кто надеялся на свое мужество и боевой опыт. Осенью 1806 года русская армия в составе двух корпусов Беннигсена и Буксгевдена выступила на помощь Пруссии, наконец решившейся объявить войну Наполеону. А. И. Остерман-Толстой, будучи уже в чине генерал-лейтенанта, был назначен начальником 2-й пехотной дивизии в корпусе Беннигсена. В Польше русские войска получили известие о том, что от союзной армии, гордившейся традициями Фридриха Великого, остались лишь жалкие обломки. В Пултуске русских генералов, в их числе был и Остерман-Толстой, встретил король Пруссии, просивший со слезами на глазах защиты от «корсиканского чудовища», которое, покончив с пруссаками, уже двигалось навстречу русским войскам, угрожая отрезать их от собственной границы. По этому поводу правительственный манифест от 18 ноября гласил: «Меч, извлеченный честью на защиту союзников России… с большею справедливостью должен обратиться в оборону собственной безопасности Отечеству». 7 декабря Остерман принял командование над авангардом корпуса Беннигсена и должен был первым встретить французов у Чарнова. Прибыв в назначенное место, его 5-тысячный отряд оказался лицом к лицу со всем корпусом маршала Даву, уже прочно закрепившимся на противоположном берегу рек Нарева и Вкры, сливавшихся у Чарнова. В ответ на донесение о многочисленности неприятеля Остерман-Толстой получил приказ препятствовать его переправе через реку, пока русские войска не успеют собраться у города Пултуска. Авангард Остермана превратился в арьергард, жертвовавший собой для спасения армии. В ожидании боя, следя за действиями французов на другом берегу, Остерман-Толстой скрывал от своих подчиненных тревожные мысли, давно не дававшие ему покоя. Несмотря на чин генерал-лейтенанта и назначение начальником дивизии, он заново готовился принять боевое крещение после пятнадцатилетнего перерыва со времени своего последнего участия в бою под Мачиной в то время, как рядом с ним и под его командованием находились люди, которые первыми врывались в ворота Праги, топили шведские суда при Роченсальме, вместе с Суворовым воевали в Италии и Швейцарии, поражали французов под Кремсом и Шенграбеном. Недостатка в личном мужестве он не испытывал, но сумеет ли он распоряжаться своими более опытными соратниками, имея дело с таким противником, как наполеоновская армия? Не сомневаются ли его подчиненные в своем начальнике при виде его генеральского мундира без орденов, знаков воинской доблести? Не осуждают ли за то, что его боевой путь был таким ровным? И ему самому казалось странным, что его, с детства мечтавшего о подвигах на поле чести, будто бы сама судьба уводила в сторону от них. Четверо суток стояли войска Остермана у Чарнова в ожидании боя. Утром 11 декабря они оделись в парадную форму, готовясь к встрече с фельдмаршалом Каменским, обещавшим приехать в арьергард. Тем временем на правом берегу появились главные силы неприятеля во главе с самим Наполеоном. Русские воины не подозревали, что французский император в тот же день подарил маршалу Даву честь разбить их маленький отряд и уже поздравил маршала с победой. Скрывая начавшиеся передвижения, французы весь день жгли сырую солому, отчего на реке стояла завеса густого дыма, при виде которой Остерман насторожился. Беспокойное ожидание не оставляло его и с наступлением вечерних сумерек. Когда же справа за рекой неожиданно загорелось село Помихово, он сразу догадался, что это был сигнал к атаке. Внезапность ночного нападения противнику не удалась. Когда неприятельская артиллерия открыла огонь, русские войска уже давно стояли в боевом порядке, а Остерман на лошади разъезжал между ними с сосредоточенным видом, мысленно спрашивая себя: правильно ли он занял позицию и откуда неприятель поведет первую атаку, так как в кромешной мгле разглядеть что-либо было почти невозможно. Услыхав со стороны реки крики и шум рукопашной схватки, Остерман понял, что егеря, рассыпанные в прибрежных кустах перед фронтом, уже вступили в бой с многочисленным неприятелем. Он велел приказать им отходить под прикрытие русских батарей, стоявших на высотах. Когда колонны французов сделались различимыми в темноте, они были сначала остановлены картечью, а затем отброшены энергичным штыковым ударом. После двух отбитых атак неприятель усилил натиск. «На протяжении двух верст кипел батальный огонь пехоты, как барабанная дробь, — писал очевидец, — огоньки ружейных выстрелов сверкали в ночном мраке мириадами искр… Гром орудий ревел без умолку; ядра и пули с визгом резали ночной воздух. Смерть невидимо носилась на всем пространстве боя и каждую минуту поглощала новые жертвы». Французы ломились с фронта, одновременно пытаясь охватить войска Остермана с флангов, но все их усилия разбивались о гранитную стойкость русских войск и умелые распоряжения их начальника. Остерман-Толстой не раз водил в атаку батальоны Павловского гренадерского полка. Если прежде, тая беспокойные мысли, он придавал своему лицу бесстрастное и надменное выражение, то теперь он не мог сдержать оживления при виде успешных действий его отряда. Полученное от пленных известие о присутствии у Чарнова самого Наполеона с главными силами, его не только не сразило, но обрадовало: в течение десяти часов наполеоновские войска были бессильны сломить сопротивление русского арьергарда. Остерман-Толстой так же, как и его подчиненные, окрыленный успехом, чувствовал небывалый прилив сил и желание продолжать бой. Однако здравый смысл подсказывал ему, что до рассвета его отряд, задержавший на сутки противника, должен покинуть поле боя, избежав в ночи преследования. В донесении от 17 декабря Остерман писал: «…Неприятель почувствовал, что, невзирая на превосходство сил своих, нет средств нас истребить, отошел в деревню и начал бомбами и брандскугелями нас тревожить, а я, не имея надобности держаться, пошел в Насельск и более не был преследуем». Сами же французы так оценили действия русского арьергарда: «Граф Остерман маневрировал как настоящий военный, а Войско его сражалось с великим мужеством и твердостию». Через три дня в сражении у Пултуска Остерману было вверено командование левым крылом русской армии. Исход боя решили его войска. Голодные, измученные, в рваной одежде, проваливаясь по колено в грязь со снегом, они подоспели навстречу корпусу маршала Ланна, прорвавшему фронт, и, преградив ему дорогу, сами перешли в наступление. Первым пошел в контратаку, закричав «ура!», Остерман-Толстой… Конечно, военачальник, устремлявшийся в бой чуть ли не с каждым полком, входившим в его дивизию, был явлением необычным. Остерманом руководило не только молодчество и «живость характера», отличаемая современниками. Он стремился утвердиться в армии, где в течение долгих лет был лишен возможности проявить себя и, дослужившись до чина генерал-лейтенанта, был почти неизвестен войскам, привыкшим к именам Багратиона, Милорадовича, Дохтурова, Платова… Не подвергнув себя опасностям, которые преодолевали, продвигаясь по службе, его «знаменитые сверстники», он не считал себя вправе требовать от подчиненных того, чего не испытал сам. Опасаясь прозвища «паркетного генерала», пользующегося милостями судьбы, он шел в бой как рядовой воин, тем самым давая понять, что звание солдата он ставит выше богатства и графского титула. Его мужество, благородство и честность в конце концов привлекли к нему сердца его подчиненных, которым он и сам платил искренней привязанностью. Остерман не жалел своих средств, чтобы прокормить солдат, голодавших всю кампанию 1806–1807 годов. Не размышляя, он отдал свою дорожную коляску смертельно раненному под Пултуском полковнику Давыдовскому, увидев его лежащего на снегу, и отправил в ней в Россию. Безразличный к мнениям высшего света, Остерман радовался, услышав, как солдаты стали называть его между собою «наш граф». «Своего графа» они дважды спасали от неминуемого плена, когда, потеряв осторожность по причине «врожденной запальчивости» и недостатка зрения, он вырывался в атаках далеко вперед. По воспоминаниям Ф. Н. Глинки, в сражениях Остерман носил очки, но, обманутый зрением, нередко «заезжал в линию стрелков французских, хозяйничая у неприятеля как дома». Когда в Прейсиш-Эйлауском побоище, вновь командуя левым крылом, генерал оказался в окружении неприятеля, его отбили гренадеры Павловского полка. Портрет их командира полковника Мазовского украшал кабинет Остермана, который, показывая его всем посетителям, говорил: «Вот мой благодетель: он спас мою честь в сражении под Прейсиш-Эйлау». Во второй раз беда стряслась с ним в бою у Гутштадта 24 мая 1807 года. В схватке с французами, происходившей посреди долины, усыпанной яркими весенними цветами. Остерман. бывший, как всегда, в самой гуще боя, был тяжело ранен в правую ногу. К нему устремились неприятельские солдаты, у которых его вновь отбили павловские гренадеры. После этой раны Александр Иванович вынужден был покинуть армию, как он сам рассчитывал, на короткий срок. Но вскоре война закончилась. Мир, заключенный с Наполеоном в Тильзите, Остерман-Толстой воспринял так же, как его воспринимала почти вся русская армия, по понятиям которой ничего не могло быть позорнее. А. И. Остерман-Толстой, теперь уже пользующийся «блестящей репутацией военачальника», украшенный орденами св. Анны I степени и св. Георгия III степени, полученного им за бой у Чарнова, возвратился в Петербург, где он не считал нужным скрывать свое личное убеждение, что русские должны побеждать или умирать со славою. Его позиция в этом вопросе была настолько последовательной, что французский посланник А. Коленкур, снабжавший Наполеона сведениями о настроениях в русском обществе, назвал графа Остермана-Толстого «главой военной оппозиции», который, несмотря на указания русского императора, не посещал с визитами французского посланника, соответственно не принимая его у себя дома. Волеизъявления царя было недостаточно, чтобы заставить не умевшего и не хотевшего притворяться Остермана сменить неприязнь на показное дружелюбие. Если в этом случае несговорчивость прямодушного генерала сошла ему с рук безнаказанно, то в другом случае его сочли нужным наказать… Прочитав в конце марта 1809 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» указ о производстве в чин генерала от инфантерии М. Б. Барклая-де-Толли, А. И. Остерман-Толстой неожиданно подал в отставку. Генерал, так дороживший своей службой в армии, вновь оказался не у дел, но Остерман не был бы Остерманом, если бы он поступил иначе. Нет, он не завидовал чужой славе, не являлся строгим блюстителем очередности в получении чинов, как многие его сослуживцы. Он разделил обиду своего друга Д. В. Голицына, с которым сблизился во время кампании 1806–1807 годов. В 1808 году генерал-лейтенант Д. В. Голицын, обаятельный человек, толковый военачальник, с отличием участвовал в войне со шведами. Разведав переход через замерзший пролив Кваркен, он рассчитывал по льду провести русские войска к шведским берегам, но эта операция была поручена Барклаю-де-Толли. Оскорбленный Д. В. Голицын подал в отставку, не скрывая ее причин. Остерман-Толстой, так же как и Голицын и многие их сослуживцы, не считал, что в войне 1806–1807 годов Барклай-де-Толли отличился выдающейся распорядительностью. После боя под Чарновом дивизия Остермана лишилась всего обоза, захваченного французами по причине скорого отхода арьергарда Барклая от Сохочина. По поводу же боя при Гофе А. П. Ермолов сдержанно заметил, что «он не делает чести генералу Барклаю де Толли». В связи с этим многим было ясно, что причина его «изумительно быстрого возвышения» скрывалась в личном расположении Александра I. Демонстративное прошение Остермана об отставке царь счел фактом более вызывающим, чем пренебрежение французским посланником, собственноручно наложив резолюцию: «Вычеркнуть из списков!» «С тех пор тот и другой верховодят в антифранцузской партии», — писал в Париж посланник Коленкур об Остермане и Голицыне. Невзирая на это досадное происшествие, А. И. Остерман-Толстой сознавал, что его вынужденное бездействие не могло быть продолжительным. Военная гроза неумолимо надвигалась на Россию. «Кто не жил в ту эпоху, тот знать не может, как душно было жить в это время», — писал П. А. Вяземский. По дорогам Западной Европы двигались к границе России «большие батальоны», которые до сих пор были «всегда правы». В предстоявшей борьбе не на жизнь, а на смерть, мог найти себе место каждый, кому дорого было Отечество. И вот настал 1812 год, «памятный для каждого русского, славный опасностями, тяжкий трудами». С началом весны из Петербурга в направлении границы начали выступать по одному гвардейские полки. Когда в поход двинулся Преображенский полк, где в молодости служил и в штатах которого находился до своей отставки А. И. Остерман-Толстой, он выехал в карете к Нарвской заставе, мимо которой проходили гвардейские полки. Здесь отставной генерал увидел издали императора Александра I, который отвечал на приветствия воинов непривычными для их слуха словами: «В добрый путь!» Все были взволнованы, в эту минуту каждый думал о судьбе своего Отечества, над которым уже нависла угроза вторжения несметных полчищ Наполеона. Глядя вслед уходившему полку, Остерман-Толстой ощутил, как никогда, всю остроту своих переживаний, по поводу вынужденной отставки. Его угнетало пребывание в столице, в то время, как большинство его сослуживцев уже находилось в армии, но обращаться к царю с просьбой о возвращении на службу он так и не стал. В начале апреля Остерман узнал, что Александр I, покинув Петербург, отбыл к армии. Это означало, что близилось военное столкновение. В этих обстоятельствах Остерман недолго размышлял над тем, какое следовало принять решение. Его могли вычеркнуть из списков военных чинов, но кто бы мог запретить ему сражаться за Отечество? Наскоро собравшись, он выехал в сторону западной границы. В то время, как царь и военный министр находились в Вильно, Остерман-Толстой достиг расположения 1-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна, находившегося на правом фланге 1-й Западной армии между Россиенами и Кейданами. Явившись в Шавли на квартиру корпусного командира, Александр Иванович отрекомендовался волонтером и выразил готовность служить в любой должности. Очевидно, Витгенштейн с пониманием встретил просьбу самолюбивого Остермана, после чего тот и остался при 1-м пехотном корпусе. Войска Витгенштейна давно уже пребывали в состоянии боевой готовности. Вторжение неприятеля ожидалось со дня на день. Меры же, принимаемые русским командованием для отражения противника, вызывали скептическое отношение у П. X. Витгенштейна. Он даже рад был неожиданному приезду Остермана, с которым мог поделиться своими сомнениями. Русские войска находились слишком близко к границе и слишком далеко друг от друга, чтобы в случае вторжения наполеоновских войск успеть беспрепятственно соединиться и не быть отрезанными друг от друга в самом начале войны. В особо опасном положении находился 1-й пехотный корпус П. X. Витгенштейна, занимавший крайнее положение на фланге 1-й Западной армии. Витгенштейн, Остерман-Толстой и часто наезжавшие в Шавли корпусные командиры Н. А. Тучков и П. А. Шувалов обменивались мнениями, не скрывая друг от друга самых худших опасений, которые вскоре из предположений превратились в реальность. 13 июня офицер, посланный М. Б. Барклаем-де-Толли, привез письменное известие о событиях, происходивших на Немане в ночь с 12 на 13 июня: «Неприятель переправился близ Ковно, и армия сосредоточивается за Вильною; почему предписывается вам начать тотчас отступление по данным вам повелениям», — писал главнокомандующий командиру 1-го пехотного корпуса. Едва войска Витгенштейна выступили, как он известился о том, что со стороны Ковно наперерез его корпусу двигаются значительные силы французов. 15 июня 1-й пехотный корпус прибыл к Вилькомиру, где почти одновременно с ним появился корпус французского маршала Удино. Войскам Витгенштейна еще предстояло перейти вброд реку Свенту, когда арьергард Кульнева, прикрывавший переправу, был уже атакован многочисленным неприятелем. В течение двух часов трехтысячный русский отряд отражал натиск противника, стремившегося настигнуть корпус Витгенштейна. Во время этого боя среди русских воинов появился высокий генерал в очках, в мундирном сюртуке с орденом св. Георгия III степени. Он подавал советы русским артиллеристам, направлявшим огонь в наступавшие неприятельские колонны, участвовал в отражении атак кавалерии противника, содействовал порядку на переправе через реку. При этом генерал не вмешивался ни в распоряжения командира корпуса, ни начальника арьергарда. «Остерман принимал участие в этом деле как волонтер», — писал в одном из своих писем в Петербург П. X. Витгенштейн. Поступок генерал-лейтенанта А. И. Остермана-Толстого, принявшего участие в одном из первых боев с неприятелем в качестве рядового воина, обратил на себя общее внимание. 19 июня находившийся в Свенцянах Александр I получил донесение от генерал-адъютанта Ф. П. Уварова, который, пользуясь доверительными отношениями с царем, писал со свойственным ему прямодушием: «При корпусе графа Витгенштейна видел я графа Остермана, который с тем приехал, чтобы ожидать начала, а как оное уже объяснилось переходом неприятеля границы и даже пушками и ружьем под Вилькомиром, то и полагает явиться граф Остерман в главную квартиру с тем, чтобы быть готову на всякое употребление как заблагорассудите, ежели не иначе, то хотя на ординарцы к Вашему Величеству; сие похоже на графа Остермана и на настоящего русского; я сие все написал, дабы Ваше Величество знали, а там поступить как вам угодно…» Ф. П. Уваров не скрывал своей симпатии и уважения к своевольному генералу, который нашел столь необычный способ возвратиться на военную службу в грозную для Отечества пору. Александр I, приняв во внимание настроение общего сочувствия Остерману, не дожидаясь, пока он явится демонстративно «проситься на ординарцы», 23 июня разрешил ему «вернуться в действительную службу». 25 июня в местечке Замоши Остерман-Толстой «по повелению его императорского величества прибыл к командованию 4-м пехотным корпусом», с которым и прошел до дорогам Отечественной войны 1812 года. Пока корпуса, входившие в 1-ю Западную армию, маневрировали на дорогах, ведущих к Свенцянам, главные силы Наполеона, заняв Вильно, прервали их прямое сообщение со 2-й Западной армией П. И. Багратиона, которая по первоначальному замыслу должна была ударить во фланг и тыл неприятеля, действовавшего против войск Барклая-де-Толли. Но по достижении намеченного рубежа у Свенцян в 1-й Западной армии стало известно об огромном численном превосходстве противника, вклинившегося между обеими русскими армиями и одновременно обходившего их с флангов. Не вдаваясь в сражение, 1-я Западная армия уходила к реке Двине, в излучине которой был расположен Дрисский укрепленный лагерь, выстроенный по рекомендации прусского советника Александра I К. Фуля. 27 июня 1-я Западная армия, встревоженная и недовольная своим поспешным отступлением, достигла дрисских укреплений, где ее ожидало новое разочарование. Разместив свой 4-й пехотный корпус на левом фланге боевого порядка среди сложной системы ложементов, редутов, люнетов и засек, А. И. Остерман-Толстой отправился обозревать лагерь, интересуясь мнением сослуживцев, которые смотрели на инженерные затеи Александра I и его иностранных советников как на опасную игрушку, способную погубить армию. «Мы вступили сюда, думая, что неприятель явится за нами, — говорил Остерману Витгенштейн, — но он никогда не поступит так глупо. Он прямо идет по дороге в Смоленск, где нет ни души и нам придется бежать за ним стремглав, чтобы настичь его!» Здесь же посреди укреплений разъезжал мрачный Александр I со своими многочисленными советниками и лицами из Главной квартиры. Остермана-Толстого так же, как и многих других русских военачальников, раздражало обилие иностранных фамилий в свите императора: Фуль, Паулуччи, Армфельд, Мишо, Беннигсен… Все они спорили между собой, обвиняли Фуля, каждый старался представить в выгодном свете собственные военные но знания, но в их доводах и аргументах не чувствовалось главного, того, что с самого начала войны не давало покоя Остерману-Толстому: боли за судьбу России, которую шаг за шагом, версту за верстой приходилось уступать неприятелю. Маркиз Паулуччи, бывший в то время начальником штаба 1-й армии, подъехав к группе корпусных командиров, стал рассуждать о военных действиях. Он с уверенностью говорил о том, как нужно было поступать вчера, позавчера, третьего дня и ранее, а Остермана и его соратников Н. А. Тучкова, Д. С. Дохтурова, К. Ф. Багговута и других интересовало, что будет с их Отечеством теперь, когда исчезла надежда на соединение обеих армий под Дриссой? Презрительно взглянув в глаза иностранцу, Остерман произнес гневно и отчетливо, так, чтобы его слышали все: «Для вас Россия — мундир, вы его наденете и снимете, для меня она моя кожа». «Потеряв из виду неприятеля и принужденная ожидать его отовсюду», 1-я армия около недели находилась в Дрисском лагере. «Мы будем сидеть здесь, пока не съедим все припасы», — зло шутили офицеры. 2 июля арьергард доставил сведения, что неприятель в огромных силах ломится в пространство между Двиною и Днепром, все глубже всаживая клин между армиями Барклая-де-Толли и Багратиона. 1-я Западная армия, стремясь упредить противника, взяла направление на Витебск. Дорогой произошло немаловажное событие. Александр I по настоянию своих приближенных покинул армию. Барклай-де-Толли, оставшись наконец один на один со своими сослуживцами, чувствовал необходимость, если «не снискать их приверженность», то по крайней мере добиться взаимопонимания. 11 июля, когда его армия достигла Витебска, главнокомандующий решил, что благоприятный час для этого настал. Он считал, что Могилев уже занят войсками Багратиона, и был уверен, что обеим армиям предстоит скорое соединение под Оршей, в связи с чем пригласил к себе корпусных командиров. С недовольными лицами к нему явились К. Ф. Багговут, Н. А. Тучков, Ф. П. Уваров, Д. С. Дохтуров, А. И. Остерман-Толстой и другие. Барклай-де-Толли, стараясь быть приветливым и бодрым, поздравил их с радостным событием и сказал: «Благодарение всевышнему, соединение наше совершилось, и мы начинаем теперь с князем Багратионом действовать наступательно». Увидев, что присутствующие несколько оживились, военный министр продолжал: «После нескольких дней отдохновения, обеспечив продовольствие, мы тотчас пойдем форсированно к Орше». После этих слов генералы начали многозначительно переглядываться. Остерман, резко вскинув голову, посмотрел на начальника штаба 1-й армии А. П. Ермолова, тот ответил ему выразительным взглядом. Перед тем как все они явились к Барклаю, А. П. Ермолов говорил А. И. Остерману: «По недостатку опытности я не имею права на полную доверенность ко мне главнокомандующего. Мое мнение он может считать мнением молодого человека. Сделайте же, граф, ему представление, что нужно следовать поспешно на Оршу и на Даву, способствуя тем самым князю Багратиону идти беспрепятственно в соединение с нашею армиею». Остерман заговорил: «Ваше высокопревосходительство, отчего же прямо не последовать нам на Оршу, не подвергаясь опасностям по отдалению неприятеля? Время ли нам иметь отдохновение?» Следом за Остерманом подал голос и Ермолов: «От пребывания в Витебске не теряются ли выгоды, которые не всегда дарует счастье и за упущение которых часто платится весьма дорого?» Д. С. Дохтуров, командир 6-го пехотного корпуса, особенно неприязненно относившийся к Барклаю, произнес: «Я полагаю, в Дрисском лагере мы достаточно имели отдохновения». Но намерение М. Б. Барклая-де-Толли оставаться в Витебске было неизменным. Остерман возвратился в расположение своих войск с чувством раздражения, в таком же настроении находился рядом с ним Н. А. Тучков, 3-й корпус которого называли «вечным спутником» 4-го пехотного корпуса, так как они вместе двигались одной колонной от самой границы. Несмотря на скверные предчувствия, ни Остерман-Толстой, ни его сослуживцы еще не знали, что Могилев уже занят не войсками Багратиона, а корпусом маршала Даву, что уже завтра поздно будет идти к Орше, потому что к ней уже приближались войска маршала Груши. И еще не знал «храбрый и мужественный граф Остерман», что всего через день солдаты его корпуса будут, обливаясь кровью, стоять и умирать на месте, чтобы прикрыть войска 1-й Западной армии от главных сил Наполеона, внезапно настигших ее у Витебска. 12 июля всего в трех верстах от русского лагеря в Витебске и на дороге, ведущей в Оршу, были обнаружены неприятельские разъезды, за которыми надвигался противник «в значащих силах». Почти одновременно прибыли к главнокомандующему все старшие начальники 1-й армии. Некоторые из них настаивали на том, чтобы, предупредив Багратиона, немедленно начать отход к Смоленску. Барклай после длительной паузы сказал: «11 июля я известил князя Багратиона, что следую в Оршу…» Генералы посмотрели на него с негодованием. Барклай продолжал: «Очевидно, 2-й армии придется пробиваться через Оршу к Витебску, где, ожидая ее прихода, я намерен дать сражение». Навстречу наступающему неприятелю с целью выиграть время главнокомандующий направил корпус пехоты и несколько кавалерийских полков. А. П. Ермолов в своих «Записках» писал: «Надобен был генерал, который бы дождался сил неприятельских и те его не устрашили: таков был Остерман, и он пошел с 4-м корпусом». Пехотный корпус Остермана-Толстого насчитывал около 8 тысяч человек и был усилен Нежинским и Ингерманландским драгунскими, Сумским гусарским и лейб-гусарским полками с 6 конными орудиями. 13 июля на рассвете войска Остермана-Толстого двигались по дороге, ведущей к деревне Островно. Ингерманландские драгуны были высланы для наблюдения влево от дороги, остальные же полки кавалерии шли впереди пехоты, составляя авангард. Сам генерал ехал по обочине дороги во главе своего корпуса; впереди была 11-я пехотная дивизия генерал-майора Н. Н. Бахметева, а за ней следовала 23-я пехотная дивизия генерал-майора А. Н. Бахметева. Вокруг Остермана-Толстого гарцевала на дорогих и резвых конях его свита: старший адъютант майор Кексгольмского пехотного полка Жемчужников, адъютанты штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка Аргамаков, кавалергардского полка поручик Валуев и лейб-гусарского полка корнет Пашков. Все они щеголяли красивыми мундирами, но на их фоне командир корпуса, несмотря на небрежно надетую фуражку и сюртук, выглядел как-то особенно значительно. В этот утренний час было жарко, солдаты шли не по форме, сняв галстуки и расстегнув мундиры. Многие из них крестились «для доброго начала» и переговаривались между собой. Всем нравилось, что в свите их генерала не было иностранцев, на которых в эту войну смотрели с подозрением. «Сам-то он русский, у него только фамилия немецкая», — говорили об Остермане нижние чины. Тишина летнего утра и мирные беседы солдат были прерваны частыми пушечными выстрелами, показавшими, что авангард был уже в действии. Остерман со свитой полетел в направлении грохота орудий выяснять обстоятельства. Около шести часов утра лейб-гусары столкнулись в 12 верстах от Витебска с французским пикетом. Они бросились на него, опрокинули и, азартно преследуя отступавших, встретились с многочисленным неприятелем, который частью порубил их, отняв 6 конных орудий. Остерман немедленно ввел в бой Нежинский драгунский и Сумской гусарский полки, чтобы удержать французов до прибытия пехоты 4-го корпуса, пущенной бегом. На опушке леса у Островно располагались два кавалерийских корпуса и пехотный полк под общим командованием маршала Мюрата. Многочисленная неприятельская артиллерия уже вела сокрушительный огонь по появившимся русским войскам. Остерман разместил войска своего корпуса поперек большой дороги, ведущей к Витебску так, чтобы фланги их упирались с обеих сторон в леса. Последнее обстоятельство было немаловажным. Русский военачальник видел огромное численное превосходство французской кавалерии и недостаток пехоты и поэтому обоснованно полагал, что лес, препятствуя движению конницы, избавит его войска от угрозы обхода с флангов. 11-я и 23-я пехотные дивизии выстроились в две линии в колоннах побатальонно. Готовясь отражать атаки, пехотинцы, звеня шомполами, заряжали ружья, офицеры обнажили шпаги. По приказу А. И. Остермана-Толстого русская артиллерия, пройдя в интервалах между колоннами, расположилась в первой линии и, открыв беглый огонь, вступила в поединок с неприятельскими батареями. Кавалерийские атаки Мюрата были яростными, он был уверен в скором подкреплении со стороны корпуса Е. Богарнэ, поэтому не жалел сил. Остерман-Толстой и русские воины не рассчитывали на скорое подкрепление, но они защищали Родину, поэтому отбивали неприятеля с удвоенной силой. Французская кавалерия врывалась в их ряды, рубя пехоту и артиллеристов у орудий, в воздухе с адским визгом разрывались гранаты, сея смерть. Но русские батальоны стояли на своих местах так, «как будто с нетерпением ожидали смерти». В то время как Елецкий и Перновский полки мужественно отбивали атаки французской конницы на левом фланге, Кексгольмский полк встречал их в штыки на правом. Дивизия французской пехоты, посланная Е. Богарнэ в помощь Мюрату, не смогла обойти позицию русских с флангов, а с фронта ее атаки также были отражены картечью и штыками. В самые тяжелые минуты боя русские воины невольно обращали взгляды к своему командиру корпуса, который подвергался одинаковой с ними опасности. Вот ему доложили, что в некоторых батареях «много убитых канониров и поврежденных пушек. „Как прикажете действовать, Ваше Сиятельство?“ Граф, нюхая табак, отвечал отрывисто: „Стреляйте из тех, какие остались“. С другой стороны кто-то докладывал графу, что в пехоте много бьют ядрами людей, не прикажете ли отодвинуться? „Стоять и умирать“, — отвечал граф решительно. Такое непоколебимое присутствие духа в начальнике в то время, как всех бьют вокруг него, было истинно по характеру русского, ожесточенного бедствиями Отечества. Смотря на него, все скрепились сердцем и разъехались по местам умирать», — писал артиллерийский офицер И. Радожицкий, раненный в сражении под Островно. Глядя на то, как упорно русские «стояли и умирали» на своих местах, французам пришло в голову, что они имеют значительные подкрепления, скрытые за лесом, впереди которого выстроились войска Остермана. К вечеру натиск неприятеля ослабел, ночь прекратила сражение. Уставший, поредевший 4-й пехотный корпус был сменен на позиции 3-й пехотной дивизией П. П. Коновницына и 1-м кавалерийским корпусом Ф. П. Уварова. 10 часов бился у Островно отряд А. И. Остермана, выиграв сутки и предотвратив угрозу неожиданного появления противника перед лицом 1-й Западной армии. Друзья и соратники поздравляли генерала с успехом, кто-то сказал: «Это подвиг, достойный римлян!» В ответ Остерман спросил сердито: «Почему же не русских?» Через сутки сделалось известно, что армия Багратиона не пробьется к Витебску, поэтому 1-я армия поспешила к Смоленску. 17 июля корпус А. И. Остермана-Толстого вступил в Поречье — первый старинный русский город на пути отступления русской армии. Остерман почувствовал, как дрогнуло его сердце при виде жителей, выбежавших из домов навстречу войскам, как будто они встретили самых близких и дорогих им людей и тут же «предлагавших свою собственность и жизнь для спасения Отечества». Не желая оставаться под властью неприятеля, отныне тысячи людей, покинув свои разоренные и сожженные жилища, следовали за армией или прятались в леса с намерением мстить завоевателям. 22 июля в Смоленске произошло наконец долгожданное соединение обеих армий, с которым связывалось столько надежд на предстоящее сражение и которое должно было предотвратить продвижение неприятеля в сердце России. Как и все военачальники, Остерман воскрес духом, узнав, что на военном совете, собравшемся 25 июля, где присутствовали оба главнокомандующих — М. Б. Барклай-де-Толли и боготворимый в войсках П. И. Багратион, было принято решение о немедленном переходе к наступательным действиям. После оба главнокомандующих разъезжали по русскому лагерю, обмениваясь рукопожатиями на глазах ободренных солдат. П. И. Багратион вместо обычного сюртука был в полной парадной форме с Андреевской лентой через плечо, и, когда он приветливо оборачивался к Барклаю, многочисленные ордена звенели на его груди. Солдаты, до сих пор сухо приветствовавшие главнокомандующего 1-й армией, теперь, увидев его рядом с Багратионом, воодушевленно кричали «ура!». М. Б. Барклай-де-Толли, впервые исполнявший обязанности главнокомандующего в столь неблагоприятных во всех отношениях условиях, находившийся в состоянии раздражения от постоянно испытываемого давления со стороны своих соратников, неминуемо должен был ошибаться, и он ошибался… Две недели своими приказаниями он изнурял армию, совершавшую долгие переходы в окрестностях Смоленска, пока не выяснилось, что Наполеон вышел в тыл русским. С трудом подоспели русские армии к Смоленску и обороняли его трое суток. 5 августа, на второй день сражения, корпус А. И. Остермана-Толстого стоял на Пореченской дороге, ведущей в Смоленск, на правом берегу Днепра, напротив Петербургского предместья. Его не вводили в бой, так как войска Остермана понесли большие потери у Островно. Сам командир корпуса с застывшим лицом стоял в группе других генералов на возвышенном берегу Днепра, откуда как на ладони раскрывалась картина смоленского сражения. «Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые тучи, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящие перекаты ружейной стрельбы, стук барабанов, улицы, наполненные ранеными, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, упадающий на колени с воздетыми к небу руками, — вот зрелище, которое освещали догоравшие лучи солнца… Жители толпами бежали из огня, между тем как полки русские шли в огонь: одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву». Остерман-Толстой чувствовал нервную дрожь: там, в городе, страдали те самые несчастные жители, которые две недели назад встречали их как своих спасителей и, чувствуя себя под их защитой, не успели вовремя покинуть свой кров. Он отворачивался от дороги, по которой мимо войск «шли старики с малолетними, матери с детьми», и избегал смотреть на Барклая-де-Толли. Остерману вспоминались утомительные, бесплодные передвижения его корпуса в течение двух предыдущих недель, которые его солдаты окрестили «ошеломелыми», поскольку им трижды довелось проходить через деревню Шеломец. Он вспоминал, как в ходе этих передвижений оживление и бодрость войск сменились неуверенностью и недовольством, перешедшим в ярость против Барклая, когда стало известно, что Наполеон уже в тылу русских армий, обойдя их с юга, как и предупреждал Багратион. В таком расположении духа обе армии явились 17 августа на очередную позицию у Царева Займища, «как вдруг электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего князя Кутузова, — вспоминал офицер 4-го пехотного корпуса. — Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю, принять от него надежду на спасение России». М. И. Кутузов объезжал войска, вглядываясь в измученные, осунувшиеся лица солдат, офицеров и генералов, которые без слов, казалось, рассказывали ему про все свои тревоги, напасти, надежды и разочарования, которые они пережили, пока его не было с ними. И столько понимания было во взгляде его и таким знакомым и родным казался всем облик этого седого и грузного человека, что каждый воин ощущал себя блудным сыном, вернувшимся после скитаний к родному отцу. По тому, как прояснялись солдатские лица, полководец растроганно почувствовал, как ждала его армия. Кутузов знал, что здесь были люди, относившиеся к нему по-разному: одни — с любовью и доверием, другие — с неприязнью и предубеждением. Его это не смущало. В жизни, как известно, случается всякое, а армия была его жизнью, поэтому он и приехал сюда в такой тяжелый час. Увидев своего родственника, Михаил Илларионович, зная сдержанность Остермана в разговорах, поведал ему доверительно, как получил от царя свое высокое назначение. «Я не оробел, — говорил Кутузов, — и с помощью божию надеюсь успеть. Я был растроган новым назначением моим». По поводу же приближения неприятеля к Москве он сказал: «С потерею Москвы соединена потеря России». Поглядев единственным глазом на Остермана, вдруг добавил: «Но с потерею Смоленска ключ от Москвы взят». 22 августа, продвигаясь по Новой Смоленской дороге, ведущей к Москве, армия Кутузова стала располагаться на позиции у села Бородина в «12-ти верстах впереди Можайска». Едва на Бородинском поле начали возводить укрепления, как у каждого возникло предчувствие: «Здесь наконец остановимся!» К вечеру 25 августа обе армии уже стояли одна против другой, готовые «отдаться на произвол сражения». По диспозиции 11-тысячный пехотный корпус А. И. Остермана-Толстого входил в войска правого крыла, которым командовал генерал от инфантерии М. А. Милорадович, недавно прибывший к армии. Корпус Остермана располагался вправо от Новой Смоленской дороги у деревни Горки, где во время сражения находился командный пункт Кутузова. Склонный к меланхолии, чуть рассеянный, скептичный Остерман, как правило, небрежно одетый, являл полную противоположность жизнерадостному, увлекающемуся, бравирующему избытком сил, щеголеватому Милорадовичу, с которым тем не менее с той поры их навсегда связала самая тесная дружба. Оказавшись в обществе энергичного Милорадовича, он залезал вместе с ним на колокольню церкви в селе Бородине с тем, чтобы оттуда разглядеть расположение французской армии. Было заметно, как французы стягивали свои силы против левого крыла, составляемого армией Багратиона, и несомненным казалось, что главный удар противник нанесет именно там. «Не лучше ли было отправить мой корпус теперь же на левое крыло?» — думал Остерман. Наслушавшись доводов Беннигсена, Барклая-де-Толли, Ермолова и других генералов, Остерман решил справиться о мнении своего родственника. «Не делаем ли мы тут ошибки?» — спросил он у Кутузова. Кутузов взглянул на Остермана так, что тот почувствовал себя вновь 14-летним прапорщиком. «Вот и Буонапарте, наверное, думает, не делаем ли мы тут ошибки?» — произнес полководец и не сказал больше ни слова. С наступлением сумерек Милорадович показал Остерману приказ главнокомандующего: «Если неприятель главными силами будет иметь движение на левый наш фланг, где армия князя Багратиона, и атакует, то 2-й и 4-й корпуса идут к левому флангу, составив резерв оной». 26 августа было еще совсем темно, когда Остерман, выехав на дорогу, увидел влево от нее на укрепленной под батарею возвышенности одинокую фигуру главнокомандующего без свиты. С высоты у деревни Горки сквозь утренний туман просматривалось почти все расположение армии, становившейся в ружье. Чем были заняты мысли старого полководца, Остерман не знал: то ли он в последний раз молился о ниспослании победы русскому воинству, или же пытался угадать, где тот участок позиции, то место, откуда начнется сражение? Постепенно вокруг Кутузова собрались адъютанты, офицеры его штаба, генералы, в числе которых был и Остерман. В эту минуту появился и главнокомандующий 1-й армией и, молча кивнув всем, остановился со свитой поодаль. Вдруг послышались частые ружейные выстрелы со стороны села Бородина, Барклай-де-Толли, пустив лошадь с места в галоп, бросился туда. Тем временем артиллерийские залпы, набиравшие силу, гремели уже по всему полю, а над левым флангом русской позиции нависло густое облако порохового дыма. Когда же утренний туман рассеялся полностью, Кутузов и стоявшие рядом с ним генералы увидели, что Наполеон, сбив свои корпуса в гигантскую колонну, направлял их в пространство между Утицким лесом и Курганной высотой, где «уже стояли в кровопролитном бою войска Багратиона». Около восьми часов утра, простившись с Остерманом, повел на левый фланг свой 2-й пехотный корпус генерал К. Ф. Багговут. Остерман-Толстой в нетерпении остался на Новой Смоленской дороге, ожидая своего часа. Около полудня стали поступать тревожные донесения, что князь Багратион тяжело ранен и в командование его войсками вступил командир 3-й пехотной дивизии генерал П. П. Коновницын, так как все остальные генералы к тому времени выбыли из строя. Коновницын доносил, что русские войска, оставив флеши, отошли за овраг у деревни Семеновское, на которую сейчас Наполеон направил главный удар. Остерман видел, как Кутузов отправил туда принца Вюртембергского, потом вдруг, как будто спохватившись, начал что-то писать на листе бумаги. Адъютанту, увозившему письмо, он сказал: «Дохтурова туда скорее, голубчик». Наконец из этого ада появился в очередной раз Барклай-де-Толли с поредевшей свитой, с лицом, обожженным порохом, и в мундире, забрызганном кровью. Он подъехал к Кутузову, потом к Милорадовичу, оба кивнули в ответ на его слова, и Остерман догадался, что речь идет о его 4-м пехотном корпусе. Милорадович и Остерман повели его к Курганной высоте, которую уже несколько часов оборонял 7-й пехотный корпус генерала Н. Н. Раевского. Войска Остермана расположились уступом левее 7-го пехотного корпуса, а на их левом фланге у деревни Семеновское сражались войска, которыми руководил Дохтуров. «В сей позиции, — писал в рапорте М. Б. Барклай-де-Толли, — сии войски стояли под перекрестным огнем неприятельской артиллерии…» «Этого неудобства нельзя было избежать, оттого что надлежало сделать преграду неприятельским успехам и удерживать остальные занимаемые нами места…» «Храбрые войски… под начальством генерала от инфантерии Милорадовича и генерал-лейтенанта Остермана выдержали сей страшный огонь с удивительным мужеством». «Самое пылкое воображение не в состоянии представить сокрушительного действия происходившей здесь канонады. Гранаты лопались в воздухе и на земле, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю рикошетами, ломали в щепы и дребезги все, что встречали на своем полете, — писал военный историк А. И. Михайловский-Данилевский. — …Чугун дробил, но не колебал груди русских, лично оживляемых присутствием Барклая-де-Толли, Милорадовича и графа Остермана. Наперерыв друг перед другом становились они на местах, где преимущественно пировала смерть». В это же самое время 18-й егерский полк 4-го пехотного корпуса отбивал у французов батарею Раевского, где фельдфебель этого полка Золотов пленил генерала Бонами. Вблизи того места, где, подавая пример мужества, стоял перед рядами своих воинов Остерман, ударилось в землю ядро. Взрывной волной генерала сбросило с лошади, засыпав землей. Когда он очнулся, его несли на перевязочный пункт в Князьково. Здесь Остерман-Толстой, оглядевшись, увидел раненого А. П. Ермолова с перевязанной шеей, командиров обеих дивизий, входивших в его корпус, генерала А. Н. Бахметева, которому только что ядром оторвало ногу, и его брата генерала H. H. Бахметева, также получившего ранение, после чего Остерман, несмотря на последствия сильной контузии, решил возвратиться к своим войскам. Он прибыл к ним в то самое время, когда была взята батарея Раевского и полки неприятельской кавалерии обратились на многострадальную пехоту его корпуса, встретившую их штыками. Остатки его войск прикрыла подоспевшая русская конница и Милорадович, явившийся из резерва с артиллерийскими орудиями, открывшими беглый огонь. Представляя А. И. Остермана-Толстого к награждению, М. И. Кутузов писал: «…Остановил… стремление против его корпуса неприятеля и примером своим ободрял подчиненные ему войска, так что ни жестокий перекрестный огонь неприятельской артиллерии, ни нападения неприятельской конницы не могли их поколебать…» До наступления темноты, прекратившей сражение, корпус А. И. Остермана-Толстого, лишившийся более трети своего состава, стоял на своем месте так, как будто бы врос в эту землю, покрытую телами лучших сынов России, которых она лишилась в этот день. «Баталия, 26-го числа бывшая самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейшие времена известны. Место баталии нами удержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать. Но чрезвычайная потеря и с нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные генералы, принудила меня отступить по Московской дороге», — говорилось в одном из донесений М. И. Кутузова. Но и в то время, когда писались эти строки, никто в армии не подозревал, что это движение к Можайску и далее было прологом к оставлению Москвы. 1 сентября 1812 года в деревне Фили, находившейся всего в четырех километрах от Москвы, они собрались под соломенной крышей избы крестьянина Фролова. Когда Остерман вошел в горницу, первое, что он с болью заметил, было то, как мало их уцелело после Бородинской битвы. Из генералов 2-й Западной армии до сих пор никто не явился. Остерман присел к столу и, не вступая ни с кем в беседу, стал прислушиваться, о чем говорили вполголоса другие. Впрочем, ему можно было не прислушиваться. Он хорошо знал всех присутствующих и заранее мог угадать, кто как поведет себя на военном совете. М. И. Кутузов сидел в стороне молча. Было очевидно, что он уже принял решение, иначе бы он не созывал их сюда. Д. С. Дохтуров, не скрывая своих мыслей, говорил сидящему рядом П. П. Коновницыну: «При одной мысли об этом волосы становятся дыбом»; а Коновницын отвечал ему со всей своею искренностью: «Дмитрий Сергеевич, да об этом не может быть и речи». Бывший здесь же Ф. П. Уваров рассчитывал, что все решится без него, потому что и в прежние времена, стараясь убедить кого-либо в чем-либо, он начинал излагать свои доводы словами: «Это говорю вам не я, а люди, которые гораздо умнее меня». К. Ф. Толь разворачивал на столе карту, взглядывая на М. И. Кутузова. Самоуверенный и дерзкий с другими, по отношению к Кутузову он чувствовал, как и прежде, себя учеником шляхетского корпуса, где Кутузов был когда-то директором. Ермолов отлично сознавал, что все равно будет так, как уже решил главнокомандующий, и готовился подать свое мнение, исходя из интересов сохранения своей собственной воинской репутации, он по-прежнему делал вид, что считает себя «молодым человеком», не знающим, на что решиться. Главнокомандующий 1-й армии М. Б. Барклай-де-Толли, одиноко сидя под образами в углу горницы, страдал от всего разом: от нервной лихорадки, от того, что его прежде обзывали изменником, отстранили от поста военного министра, и от того, что в Бородинском сражении он так и не нашел смерти. Из личных благ он уже не дорожил ничем и собирался высказываться решительно. Остерман разделил столько бед и опасностей с этими людьми, так привык к ним, что ему казалось естественным, что они собрались вместе, когда у них было так тяжело на душе. И лишь одного человека он не принимал сердцем, презирал и ненавидел — начальника Главного штаба барона Беннигсена, человека без отечества. Чего стоили все его военные дарования, если в его жизни не было главного, того, чем были наполнены жизни Остермана и его соратников, — преданности своей Родине. Остерман не особенно вслушивался в то, что говорил Беннигсен, его раздражал самодовольный вид генерала, который рассуждал о гибели русской армии и потере Москвы как о чем-то постороннем. «Есть ли у вас уверенность в том, что сражение будет нами выиграно?» — спросил он, зная, что утвердительного ответа на этот вопрос быть не может, но далее слышать витийство Беннигсена для него было невыносимо. Когда же спор генералов ушел в сторону от вопроса, оборонять ли им Москву или сохранить армию, и они заговорили о том, где лучше положить войско на позиции, избранной Беннигсеном или самим напав на неприятеля. Остерман задумался. Ему отчего-то вспомнился рассказ Кутузова о том, как перед штурмом Измаила Суворов собрал на военный совет генералов, положил перед ними на стол чистый лист бумаги и сказал: «Пусть каждый из вас, не спросясь никого, кроме бога и совести, подаст свое мнение». Больше всего на свете боялся Остерман, что его назовут трусом, отдавшим французам Москву. По словам А. П. Ермолова, он «несколько раз сходил с ума от этой мысли», но на военном совете Остерман-Толстой сказал то, что велела ему его совесть: «Москва не составляет России; наша цель не в защищении столицы, но всего Отечества, а для спасения его главный предмет есть сохранение армии». Совещание подходило к концу, когда приехал Н. Н. Раевский. Остермана интересовало, что скажет этот мужественный генерал. Раевский думал недолго: «Россия не в Москве, среди сынов она», — процитировал он стихи поэта Озерова. Кутузов, поднявшись со стула, произнес твердо: «Приказываю отступать». Полководец с умыслом оставил Москву. Он знал, что древняя столица «всосет французскую армию как губка». Наполеон, приняв вступление в Москву за цель своего похода, упустил из виду главное — русскую армию, которая вышла из Москвы по Рязанской дороге, а затем, неожиданно свернув на Калужскую, расположилась 21 сентября лагерем у села Тарутина, угрожая с фланга войскам Наполеона и прикрывая от них южные плодородные губернии. Во время отступления русской армии корпус А. И. Остермана-Толстого находился в арьергарде. Во время остановки армии в Красной Пахре Остерман решил по обыкновению проверить, хорошо ли накормлены его солдаты, не испытывают ли они в чем нужды и не пали ли духом от оставления Москвы. Подходя к расположению Елецкого пехотного полка, он услышал знакомый голос и остановился от неожиданности. Потом, желая проверить, не изменил ли ему слух, не обознался ли он, Остерман подошел ближе и увидел главнокомандующего 1-й армией М. Б. Барклая-де-Толли без свиты, в мундире без знаков отличия и орденов. Он видел перед собой глубоко страдавшего человека и понимал причину его страданий. Переходя от полка к полку, объясняя войскам причины их отступления, Барклай-де-Толли как будто стучался в сердца сослуживцев, доступные ему в прежние времена. Вскоре он оставил армию. Офицер, приехавший от него из Калуги, неожиданно привез Остерману письмо, в котором бывший главнокомандующий писал своему старому боевому соратнику о том, с какой болью в сердце покинул он русскую армию. 6 октября русские войска, одержав победу при Тарутине, дали понять Наполеону, что их сила и мощь восстановлена, после чего французский император предпочел более не задерживаться в Москве и кинулся на Калужскую дорогу, стремясь обеспечить свои войска продовольствием в южных губерниях, не тронутых войной. Но, «несмотря на все его тонкости, — говорится в журнале военных действий, — намерение его предупреждено». Следствием сражения за Малый Ярославец, бывшего 12 октября, явился отход неприятельской армии на Смоленскую дорогу, разоренную войной. Во время преследования неприятеля 4-й пехотный корпус А. И. Остермана-Толстого находился в авангарде генерала М. А. Милорадовича, особенно отличившись при штурме города Вязьмы 22 октября. Когда же наполеоновская армия, не сумев удержаться в Смоленске, двинулась ускоренными маршами в сторону западной границы, А. И. Остерману-Толстому по приказу Кутузова был выделен в самостоятельную команду отряд в составе 4-го кавалерийского корпуса, частей 4-го пехотного корпуса и нескольких партизанских подразделений, которые, следуя параллельно отступлению противника, препятствовали ему свернуть со Смоленской дороги, разоренной войной. Остерман, наблюдавший за движением неприятеля, сообщал М. И. Кутузову о сосредоточении значительных сил у города Красного, где вскоре произошло большое сражение, длившееся три дня. Войска Остермана настигали отдельные отряды французов, стремившихся к городу. Дорого расплачивался неприятель, дерзнувший вступить с оружием в руках на русскую землю. «Пленные — изнуренные, обгорелые, в оборванных шинельках, под измятыми киверами, с подвязанными ушами и в безобразной обуви — являли нам плачевные остатки великой и некогда страшной армии завоевателя Европы», — вспоминал об этих днях И. Радожицкий. В село Кобызево войскам Остермана был доставлен знаменитый приказ М. И. Кутузова: «После чрезвычайных успехов, одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприятелем, остается его только быстро преследовать; тогда… земля русская, которую мечтал он поработить, усеется костьми его… Идем вперед!.. Перед нами разбитый неприятель! Да будет за нами тишина и спокойствие!» Конец Отечественной войны застал А. И. Остермана-Толстого в Вильно, где 10 декабря располагалась Главная квартира М. И. Кутузова. Переживания за судьбу Родины в первые месяцы войны, перенапряжение сил, последствия контузии и ранения под Красным почувствовались разом, как только отступили бедствия, грозившие Отечеству. Для излечения болезней Остерман покинул армию, в которой находился с первого до последнего дня Отечественной войны 1812 года. Пройдя сквозь все испытания войны 1812 года, несокрушимые духом россияне верили, что «пожар Москвы рано или поздно осветит им путь к Парижу». Война отступала от границ России. Весной 1813 года русские войска сражались в Германии, освобождая ее от французского владычества. В марте 1813 года корпус П. X. Витгенштейна освободил Берлин, и Остерман отправился туда, объявив супруге, что едет искать облегчения у немецких врачей, на самом же деле стремясь быть как можно ближе к армии. 16 апреля в Бунцлау умер Михаил Илларионович Кутузов. Не стало мудрого, опытного и мужественного вождя русской армии — и капризное счастье вновь улыбнулось французскому полководцу. В первом же после смерти Кутузова сражении при Люцене союзники потерпели поражение. «Я снова вернусь на Вислу», — твердил Наполеон своим приближенным. В этих обстоятельствах не было на свете недуга, который бы заставил Остермана оставаться в бездействии. Он появился в армии 8 мая во время сражения под Бауценом и, не имея команды, отправился на поле битвы волонтером к своему любимому Павловскому гренадерскому полку. Полк в это время теснили французы, и сбитые с позиции русские воины поспешно отступали, как вдруг на их пути и так, что обойти его было невозможно, встал Остерман. «Ребята! Стыдно! Вперед!» — крикнул им генерал, и это их остановило. Павловцы вновь обратились на французов, а Остерман остался распоряжаться в цепи стрелков, которые восторженно приветствовали его возвращение в строй. Здесь же он был тяжело ранен в плечо, но с поля боя его увезли лишь тогда, когда он начал сползать с седла от потери крови. Едва оправившись от раны, он вновь возвратился к армии вопреки советам докторов. 14 августа А. И. Остерману-Толстому был поручен отряд, состоявший из гвардейской дивизии А. П. Ермолова и пехотного корпуса Е. Вюртембергского. В ночь с 15 на 16 августа Остерман получил известие о том, что союзные войска после неудачного для них сражения под Дрезденом двигались к Теплицу по труднопроходимой дороге среди Богемских гор, образующих узкий коридор. Там же находились оба монарха — Александр I и прусский король. С тыла союзные армии преследовали главные силы французов, в то время, как 40-тысячный корпус генерала Вандама шел им наперерез к Теплицкому шоссе, стремясь закрыть выход из горных теснин. Посовещавшись с соратниками А. П. Ермоловым и Е. Вюртембергским, Остерман решился со своим 19-тысячным отрядом заступить дорогу корпусу Вандама. «Счастье начальствовать гвардиею… оправдало смелость предприятия моего. С известными службою генералами, командующими гвардией, с усердием, все чины и солдат воспламенеющим, я уверен был, что достигну моей цели, и всякое затруднение вышло из предположений моих», — писал военачальник впоследствии. 17 августа произошло сражение под Кульмом. В тот час, когда русские войска, заменив свою малочисленность мужеством и искусством, отразили все атаки неприятеля и сам Остерман направлял в сокрушительную контратаку свой последний резерв, он внезапно ощутил резкую боль в плече, от которой все происходившее вокруг сразу померкло в его глазах. В левой руке он ощущал сплошную, разрывавшую сердце боль. Весь рукав и левая сторона мундира сразу же стали мокрыми от горячей крови. Когда его бережно снимали с лошади, он улыбался бледными губами, чтобы поддержать настроение радовавшихся победе солдат, и говорил им: «Вот как я заплатил за честь командовать гвардией. Я доволен». Его положили на траву возле зеленого кустарника. От боли он терял сознание, от боли же приходил в себя. Сначала, очнувшись, он увидел над собой плачущего прусского короля и, проваливаясь в забытье, успел подумать, что союзные армии успели спуститься с гор. Потом, придя в себя, он услышал, как трое лекарей рядом с ним говорили по-латыни о том, как лучше отнять ему раздробленную руку. Самый молодой лекарь Кукловский обернулся к Остерману и заметил насмешку в его глазах. «Напрасно мы, господа, толкуем по-латыни, — сказал он коллегам, — граф ее лучше нашего знает». В ответ раздался глухой от боли, но твердый голос Остермана: «Ты молодец! На, режь ты, а не другой кто!» Операционным столом служил барабан. Рядом с палаткой, где производилась операция, по просьбе генерала гвардейские музыканты пели русские песни, чтобы кто-нибудь случайно не услышал его стона. Предосторожность эта была излишней: Остерман молчал. В его палатке стояли отбитые у неприятеля знамена. «По крайней мере, я умру непобежденным», — сказал генерал солдатам, принесшим эти трофеи. Через полтора месяца он увиделся в Праге, спасенной его войсками от разорения, со своей супругой Елизаветой Алексеевной, которая следовала за мужем в этом походе, но тем не менее узнала о случившемся с ним несчастье лишь накануне свидания с ним. Проезд А. И. Остермана-Толстого из Теплица, где он лежал в госпитале, в Прагу, по словам писателя И. И. Лажечникова, «есть настоящее торжество героя! Жители, стремящиеся толпами видеть избавителя Богемии, покидают свои домы, оставляют работы свои, заграждают ему дорогу и теснятся около него с благоговением». В 1816 году он получил новый знак благодарности и признательности чешских жителей: это был серебряный кубок, «украшенный разными сея земли драгоценными каменьями» с надписью: «Храброму Остерману от чешских женщин в память о Кульме 17 августа 1813 года». На кубке Александр Иванович велел выгравировать имена офицеров, раненных и павших под Кульмом, а затем передал его в Преображенский полк, где начиналась его военная служба. В связи с этим событием он получил рескрипт от императора Александра I, в котором были такие слова: «…Не могу оставить без замечания, что вы, отдавая должную справедливость участвовавшим в сем знаменитом сражении воинам, забыли себя, тогда как вы в оном предводительствовали и потерянием руки своей купили победу. Обстоятельство, умолчанное вашею скромностью, но незабвенное Отечеством…» За битву при Кульме А. И. Остерман-Толстой был награжден орденом св. Георгия II степени и вскоре назначен генерал-адъютантом Александра I. На этом боевой путь генерала закончился. В то время Остерману было всего 43 года, ему же казалось, будто бы прошла целая вечность с того дня, как он впервые явился на службу в Преображенский полк, и после того, как столько лет было им прожито, ему не приходило в голову, что жить ему осталось еще столько же. Он сознавал, что лучшее из всего того, что осталось ему в этой жизни, было назначение шефом Павловского гренадерского полка. Именно с этим полком его связывали общие воспоминания о событиях войны 1806–1807 годов, ставших его «звездным часом». Нижним чинам, служившим в полку в те времена, он выплачивал из своих средств пенсию. Впрочем, его огромного состояния, которое он тратил на чужие нужды не задумываясь, хватало на всех. Деньги он щедро раздавал солдатам в дни полковых праздников, смотров, учений, лагерных объездов, в благодарность за службу. Известный в высших кругах петербургского общества надменным характером и крутым нравом, Остерман был самым близким человеком для офицеров Павловского полка, которые не стеснялись говорить ему о своих денежных затруднениях. А они были почти у каждого, так как полк был лишь недавно расквартирован в Петербурге, и его офицерский состав был в основном из мелкопоместного дворянства. Офицеры полка избегали дальних прогулок, опасаясь, что ткань их мундиров может выцвести на солнце или потерять вид во время дождя, а средств на пошив новых у них явно не хватало. Остерман всегда готов был помочь им своими деньгами, тех же, кто стеснялся их брать, он представлял к денежным награждениям за службу из казны. Офицеры полка, в свою очередь, платили Остерману привязанностью и благодарностью. Его адъютант полковник Свечин даже сочинял поэму, по-видимому, не имевшую конца, под названием «Александроида», которую «для вящего вдохновения писал… на саженной аспидной доске», посвящая ее своему шефу. Ежедневно утром к нему являлись с докладом дежурный по полку офицер, фельдфебель шефской роты и два ординарца, приводившие с собой всякий раз нового офицера, так как Остерману хотелось быть короче знакомым с офицерским обществом нового поколения. Всю жизнь занимавшийся самообразованием, «отличавшийся живостью ума, общительностью», Остерман с каждым мог найти общую тему для разговора. В течение нескольких лет адъютантом А. И. Остермана-Толстого был И. И. Лажечников, ставший впоследствии известным русским писателем, чем он в некоторой степени был обязан своему начальнику. Нуждавшийся в деньгах И. И. Лажечников не имел необходимости снимать квартиру, так как жил в особняке Остермана, где приводил в порядок библиотеку генерала, составляя каталог на бывшие в ней книги. «Библиотека… заключала все произведения о военном деле, какие только мог найти ее владелец, почитавший создание военной библиотеки одним из главных дел своей жизни», — вспоминал впоследствии писатель. Здесь же были редкие книги, манускрипты и рукописи, которые генерал унаследовал от своего родственника сенатора Ф. А. Остермана, где находились и письменные материалы, относившиеся к эпохе Петра I, использованные И. И. Лажечниковым при написании романа «Последний Новик». Остерман-Толстой отдал своему адъютанту годовой билет в театр, где им была абонирована целая ложа. Лажечников вспоминал, как однажды генерал вошел к нему в библиотеку и «спросил… с видимым неудовольствием: „Кого это пускаешь ты в мои кресла?“ Молодой писатель, встревоженный тем, что Остерман мог подумать, что он использовал его имя для укрепления светских связей, с жаром стал объяснять начальнику, что передавал билет литератору и журналисту, весьма ограниченному в денежных средствах. „Если так, — сказал граф, — можешь и впредь отдавать ему мои кресла“». «Этот мужественный человек сочетал в себе рыцарство военного с оттенком рыцарства средневекового, что придавало его облику особую утонченность и благородство», — вспоминал И. И. Лажечников. С высоты своего положения в обществе, чина и должности Остерман никогда не позволял себе оскорбить достоинство подчиненного. Однажды с докладом к нему явился офицер, начавший рапортовать по-французски. Остерман потребовал от него, чтобы тот изъяснялся по-русски. Повинуясь приказу, офицер заговорил, с трудом подбирая и коверкая слова, из чего сделалось ясно, что русского языка он почти не знал. Едва находя себе место, Остерман дождался конца доклада, и как только офицер смолк, генерал обратился к нему по-французски и просил оказать ему честь быть у него в ближайшую пятницу на музыкальном вечере. Как генерал-адъютант императора А. И. Остерман-Толстой изредка бывал при дворе, присутствуя на церемониях по торжественным случаям. «Как он, безрукий, красив был в своем генерал-адъютантском мундире, среди царедворцев!» — невольно восклицал современник. Он появлялся, высокий, худощавый, с гордо поднятой головой, с вечной насмешкой в глазах и на языке и полупрезрительной улыбкой на тонких губах. Дух заискивания и чинопочитания был чужд характеру Александра Ивановича. С теми, кто готов был уронить свое достоинство в угоду влиятельным и сильным людям, он не церемонился. Однажды в его присутствии один из известных сановников витиевато принялся рассуждать о какой-то правительственной мере: «Если бы я имел честь заседать в Государственном совете, я бы позволил себе сказать…» — «Какую-нибудь глупость», — закончил за него фразу Остерман. В дом к Остерману зачастил генерал П-ский, который часами мог говорить один за всех, никому не давая вставить слова. При этом он самодовольно поглаживал бороду, которая от природы была рыжая, но генерал П-ский, скрывая это, красил ее в черный цвет. Отвадить от дома надоедливого посетителя помог Остерману случай. К нему явился рыжебородый парень наниматься кучером. Остерман-Толстой сказал ему, что не любит рыжих, и посоветовал окрасить бороду в черный цвет, узнав секрет окраски у генерала П-ского. Ничего не подозревая, парень отправился по указанному адресу, передал поклон от графа Александра Ивановича и попросил рецепт окраски бороды. С тех пор генерал П-ский в доме Остермана не появлялся. Зато в его особняке на Английской набережной продолжали часто собираться его соратники: М. А. Милорадович, В. Г. Костенецкий, А. П. Ермолов. Здесь бывала и военная молодежь, среди которой было немало декабристов: С. Г. Волконский, Д. И. Завалишин, Л. М. и В. М. Голицыны (последние трое — племянники генерала). 14 декабря 1825 года, подавив восстание декабристов, на престол в России вступил император Николай I. Независимый в суждениях, самостоятельный в поступках, твердый в понятиях о благородстве и чести, А. И. Остерман-Толстой вызывал отчуждение как у нового императора, так и у его приближенных. 19 декабря 1825 года А. И. Остерман-Толстой, исполняя обязанности генерал-адъютанта, дежурил во дворце. В конце дня его вызвал в кабинет Николай I и приказал сдать шефство над Павловским гренадерским полком своему сыну, 7-летнему наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу. Царь потребовал, чтобы Остерман-Толстой сам объявил об этом Павловским гренадерам и представил им нового шефа. Глядя на Остермана, самодержец всероссийский пытался обнаружить хотя бы тень смятения на лице генерала, которого он только что разлучил с его любимым полком. А Остерман несколько мгновений смотрел в глаза императора, и взгляд его говорил: «Стоит ли быть помазанником божиим и иметь неограниченную власть, когда употребляешь ее на то, чтобы унизить достоинство подданных?» Вместе с наследником престола Остерман вышел в зал, где была выстроена шефская рота Павловского гренадерского полка. Он твердым голосом объявил, что покидает полк, и представил нового шефа. Пока генерал произносил эти слова, он успел обвести глазами строй солдат, и это было его прощание с ними. Павловские гренадеры напряженно смотрели на «своего графа», и когда он сказал все, что ему было велено новым императором, они долго и надсадно кричали «ура!», чтобы сдержать подступившие слезы. Сохраняя внешнее спокойствие, Остерман вышел из зала. Вернувшись домой, он впервые ощутил себя старым, ненужным и совершенно разбитым от боли в левом плече. В 1828 году началась очередная война с Турцией. В Петербурге многие считали, что командование войсками, действующими против турок, будет поручено А. И. Остерману-Толстому. Сам же он просил, чтобы его направили в армию в любой должности в качестве волонтера, но получил отказ. И на этот раз строптивый генерал доказал, что остановить его при осуществлении принятого им решения невозможно. В 1831 году он предложил свои услуги египетскому правительству, и в качестве военного советника находился в армии полководца Ибрагима-паши, сражавшегося против Турции. В марте 1830 года А. И. Остерман-Толстой обратился к Николаю I с просьбой разрешить ему навсегда покинуть Россию. Пожалуй, это была единственная просьба, в которой ему не было отказано. Остерман расставался с родиной с тоскою и болью в сердце, но ничто не могло его заставить переменить принятое решение. Выехав за границу, он много путешествовал, чтобы хоть чем-то скрасить дни, наполненные разлукой с горячо любимым им Отечеством. Он жил в Германии, Италии, Франции, Швейцарии. В 1831 году, путешествуя по странам Ближнего Востока: Египту, Сирии, Палестине, А. И. Остерман побывал и в Турции. В Константинополе он был представлен турецкому султану Махмуду. Тот заинтересовался тростью, на которую Остерман опирался при ходьбе с тех пор, как лишился руки. Набалдашник трости был искусно выточен в виде черепа. Султан Махмуд через переводчика спросил русского генерала: зачем он носит при себе такую мрачную эмблему? Остерман-Толстой взглянул на восточного деспота, который в борьбе за власть приказал предать смерти корпус янычар. И как знать, может быть, в эту минуту Остерману припомнилось самодовольное, полное показного величия лицо Николая I, жестокого и мелочного в преследовании за непочтительное отношение к трону? Вопреки восточному этикету Остерман ответил сурово и бесстрашно: «Хотя много голов отсечено по приказанию султана, но и его собственная голова неминуемо будет подобна изображению на моей трости, и, может быть, гораздо скорее, чем мы оба думаем». По-латыни он прибавил: «Сегодня тебе, завтра мне…» В 1835 году А. И. Остерман-Толстой получил приглашения от прусского короля и австрийского императора присутствовать на торжествах по случаю открытия памятника в Кульме. Главного героя сражения при Кульме не мог обойти и Николай I, приславший Александру Ивановичу личное приглашение вместе со знаками ордена св. Андрея Первозванного. Остерман-Толстой не поехал в Богемию, а пакет от русского императора оставался нераспечатанным до самой его смерти. Единственным обстоятельством, скрашивающим жизнь опального генерала, доживавшего свой век за границей, было его в то время уже многочисленное семейство «с левой стороны от связи с итальянкой». Супружескую жизнь А. И. Остермана-Толстого нельзя было назвать удачной. «Графиня Остерман-Толстая отличалась ревностью и тем не давала покоя своему мужу. Впрочем, безрукий герой, чудак и большой оригинал, подавал к тому немало поводов, имея слабость к женщинам и считая себя неотразимым», — писал современник в 1816 году. Но, по-видимому, лишь в 1827 году у Елизаветы Алексеевны появились причины к серьезному опасению за их супружеский союз. В тот год в Италии была выпущена в свет гравюра, на которой был изображен А. И. Остерман-Толстой в окружении своих детей: двоих мальчиков 3–4 лет от роду и девочки, спящей в люльке. Надпись под изображением, очевидно, придумал сам Остерман. Она была сделана по-французски и гласила: «Мне представляется, что это последние счастливые мгновения. Ведь 55 лет — время готовить могильную ограду». Со своей гражданской супругой А. И. Остерман-Толстой, по-видимому, познакомился во время своего путешествия по Европе в 1822 году, когда он разъезжал по свету под именем полковника Иванова. Та, с кем в конце концов свела его судьба, не знала в то время ни его настоящего имени, ни положения в обществе, приняв его таким, каким он был на самом деле, что всегда было для Остермана немаловажным. Предаваясь воспоминаниям о прошлом, А. И. Остерман-Толстой провел последние годы жизни в Женеве. Он почти не выходил из своего кабинета, где занимался чтением книг исключительно русских авторов. Поэзию Г. Р. Державина он называл своею библией. 14 февраля 1857 года в два часа пополудни в ворота скромного кладбища в Сакконэ — предместье Женевы — въехала траурная колесница с гробом, украшенным двумя лавровыми венками. Перед гробом шел священник русской церкви с двумя церковнослужителями. За гробом шли соотечественники умершего, его семья. Немногим друзьям, прибывшим на похороны Александра Ивановича Остермана-Толстого, невольно вспомнились слова, часто произносимые им в последние годы жизни: «Да, как человек и как солдат, видел я красные дни». Лидия Ивченко Примечания:2 Произведен в 1791 году. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
