|
||||
|
|
Герасим Матвеевич Курин (Народная песня)Как в осеннюю да во пору 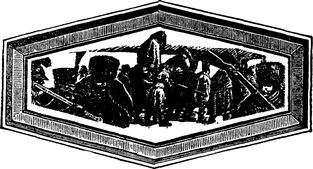 Десять всадников неспешным шагом показались из-за поворота сельской улочки. Кавалеристы выглядели на удивление живописно — в армяках, зипунах, лаптях и все при пиках. Впереди ехало двое — рослый чернобородый Курин и волостной голова Егор Стулов. Голова в суконной поддевке, застегнутой медными крючками за все петли, в смазанных дегтем сапогах более других походил на опытного в обращении с лошадью человека и держался в седле сообразно — легко и ловко. Курин сидел на своей буланой, много попахавшей кобылке по-мужицки, враскорячку, как и остальные, однако с уверенным достоинством. Спокойный и добродушный взгляд, в котором явственно угадывались ум и воля, а особенно обильное против остальных вооружение — французская сабля, заткнутые за красный кушак два пистолета и сверкающая от недавней точки пика с бесспорностью обличали в нем предводителя. Караулившие у въезда в село мужики — кто с пикой, а кто с привычно закинутыми на плечо вилами, — выстроились по обе стороны дороги, с любопытством таращились на подъезжающих. — Далече ли, Герасим Матвеевич, путь держите? — радостно, скорее от желания вступить в разговор, спросил старший из караульных, ибо маршрут следования отряда не составлял для них тайны. — Да вот в Покров доскачем с донесением, — охотно ответил Курин, — и подарочек Борису Андреевичу, князю Голицыну, доставим, — Герасим кивнул на повозку, где, крепко стянутые веревками, лежали три французских гусара. — А правда, важный подарок, обрадуется, чай, князь… Как думаешь, Герасим Матвеевич, подмога от князя будет? — Будет не будет, нам далее своего дома отступать некуда, здесь или умрем или остановим супостата, — твердо сказал Курин и наставительно добавил: — Глядите, справно несите службу, не провороньте неприятеля. — Да уж знамо, не сумневайся, смотреть во все глаза будем, — оживившись, загомонили караульные и, как только отряд проехал, перекрыли въезд в деревню бревнами. …Непосредственно на театре военных действий нашествию Наполеона противостояли, как боеспособные, организованные силы, собственно армия, народное ополчение, на формирование которого вынужденно, под давлением неблагоприятно складывающейся кампании пошел Александр I, а также войсковые и крестьянские партизанские отряды. Начальником Владимирского ополчения, которое организационно входило в первый, или Московский ополченческий округ, дворянское губернское собрание избрало умного и распорядительного, по отзывам современников, князя Б. А. Голицына. К нему-то с радостной вестью об успешно выигранном сражении и направлялись вожаки партизанского отряда. После сдачи без боя Москвы многие испытывали, помимо горечи поражения, состояние тягостной неопределенности, гадая, как будет развиваться ход кампании дальше, как поведет себя коварный Бонапарт. Куда устремится его обескровленная в Бородинском сражении, но все еще устрашающая «великая армия»? На Петербург? Тулу? Казань? Непредсказуемость намерений императора французов предполагала самые неожиданные решения. Много позже на острове Святой Елены он скажет: «Я должен был бы умереть сразу же после вступления в Москву…» А пока 2 сентября было днем его торжества. В эти же примерно часы, когда Наполеон в нетерпеливом недоумении дожидался на Поклонной горе московских бояр с ключами от города, да так и не дождался, князь Голицын, сделав шажок навстречу узурпатору, занял на дальней границе с Московской губернией городок Покров, который и стал его штаб-квартирой. Формирование ополчения затягивалось, ощущалась острая нужда в оружии и снаряжении, и князь, встревоженно сообщая в главную штаб-квартиру о нехватке сил «к занятию всех дорог, во Владимирскую губернию ведущих», настойчиво просил помощи, особенно конницей и пушками. Голицын не без оснований допускал вероятность того, что Наполеон возьмет да и двинется в сторону богатой хлебными запасами Владимирской губернии, реально угрожая правому флангу русской армии, расположившейся лагерем в Тарутине. Учитывая именно последнее соображение, главнокомандующий выделил в подкрепление Владимирскому ополчению Уральский казачий полк. Возможность оказать более значительную помощь представилась несколько позже, когда стала ощущаться умножающаяся день ото дня сила русской армии, когда разгорелся и набрал испепеляющую силу пожар народной войны, характер которой столь проницательно понял и бескомпромиссно отстаивал фельдмаршал Кутузов. Обжигающий вал пожара не обошел и крайнюю на востоке Подмосковья Вохненскую волость Богородского уезда. Здесь под руководством Герасима Курина организовалось крупнейшее из известных партизанских крестьянских формирований. Уже современники недоумевали, как они, первоначально безоружные и в военном отношении совершенно необученные, сумели своим до крайности стойким сопротивлением, а в некоторых боях и достаточно грамотными в тактическом отношении действиями нанести чувствительный урон неприятелю. В сущности, партизанским отрядам удалось блокировать важный в стратегическом смысле Владимирский тракт, что, кстати, в немалой степени помогло успешно завершить формирование ополчения. Места эти, по справедливому замечанию тогдашнего историка, по праву остались в памяти народа, как «крайняя черта на востоке, до коей простерлось вторжение Наполеона в Россию». Сам же Наполеон в уверенности на скорые переговоры отнюдь не бездействовал. Не имея четкого плана продолжения кампании на случай, если переговоры затянутся или вовсе не состоятся, он прежде всего решил создать вокруг Москвы опорные пункты для защиты от возможного нападения русских, а главным образом для сбора продовольствия, недостаток которого сразу же начал ощутимо сказываться. Казалось, худшие опасения князя Голицына подтвердились, когда в соответствии с данным планом на Владимирскую дорогу двинулись отборные войска из корпуса маршала Нея и 23 сентября заняли Богородск. Начальник Владимирского ополчения генерал-лейтенант и кавалер князь Голицын — фельдмаршалу Кутузову: «…Неприятель занял оный город… имел перепалку с передовыми нашими пикетами, и превосходство сил его заставило оба пикета отступить по Московской дороге к деревне Кузнецам». Превосходство выражалось в следующем соотношении: две дивизии при 12 пушках против стоявшего в Богородске гусарского пикета из четырех унтер-офицеров и семидесяти рядовых. Былинка против урагана. А все же молодцы не просто бежали, а отступили с перепалкой. Сразу же по занятии Богородска французы, во исполнение главной задачи, принялись опустошать окрестные деревни. А один из небольших отрядов уверенно, будто по знакомому маршруту, прямиком двинулся по дороге на Вохню-Павлово. По малочисленности отряда ясно было, что выслана разведка, а пароконные повозки свидетельствовали и о стойкой надежде разжиться попутно продовольствием. Солдаты держались расслабленно, балагурили, смеялись, будто направлялись не в экспедицию, а на пикник. И действительно, перед выступлением разнесся слушок, что в богатом селе Павлове их ждут не враги, а друзья и можно надеяться на радушный прием. Новость в этой насквозь враждебной России необычная, тем более она бодрила и радовала. Они тоже люди, усталые и изголодавшиеся. Уже на переходе из Смоленска питаться приходилось преимущественно кониной, поджаренной на углях. Угнетала и всеобщая неприязнь и ненависть, с какой встречали их в каждом селении. «Все против нас, — писал впоследствии один из участников „великого похода“, — все готовы либо защищаться, либо бежать… Мужики вооружены пиками, многие на конях; бабы готовы к бегству и ругали нас так же, как и мужики». В надежде на теплые избы, еду и отдых шедшие к Вохне невольно прибавляли шагу. Первой на их пути оказалась деревушка Большой Двор. И едва лишь французы достигли крайней избы, как навстречу им с жуткими криками ринулась толпа людей, потрясавших пиками, вилами, косами, а большинство и просто палками. Нападение было столь неожиданным и громогласным, что перепуганных насмерть фуражиров словно ветром сдуло и они растворились в сосновом бору, благо лес подступал к самой дороге. Все произошло в считанные мгновения, и сражение закончилось, не успев начаться. В первой стычке не пролилась кровь, беглецов даже не пытались преследовать, и вообще, если присмотреться, можно было заметить, что многих нападавших бьет нервная дрожь, они недоверчиво посматривают друг на друга, явно с трудом осознавая, что же произошло. Наконец напряжение спало и они поняли — победа! Первая победа над грозным врагом — неправдоподобно легкая, бескровная и удачливая. Недоверчиво косясь друг на друга — неужто и впрямь свершилось то, что свершилось, они столпились вокруг двух брошенных повозок. Трофеи, и какие! Порох, пули и ружья. Глаза отказываются верить — десять ружей! Дружный радостный крик исторгнулся из двухсот глоток, придав, надо полагать, дополнительное ускорение убегавшим французам. Курин, тоже по-детски радуясь, что все так удачно обошлось, с жгучим интересом осматривал каждое ружье. — Ну, с добрым почином, братцы, — говорил он, широко, белозубо улыбаясь из-под густых усов. — И добыча какая важная и, знать, законная: что с бою взято — то свято. — Глянь-ко, Семен, с таким ружьищем и сам Бонапарт не страшен, — молодой парень шутливо прицелился в доверчиво улыбающегося соседа. — А как стрельнуть из него, дядя Герасим? — Дело немудреное, покажу. Ты только поближе к злодею подбирайся, тогда уж точнехонько попадешь. — Дак они, вражьи дети, и без пальбы задали стрекача, чай, ажно в Богородске остановятся. А может, и в самом Париже, а? Герасим хотел было предостеречь — мол, с этими бегунами мы еще встретимся, но промолчал — пусть радуются, в радости дух боевой укрепляется — вот что сегодня наипервейшее. И ружья. Ах, славные, право, трофеи… Понятна радость партизан. По докладу уездного предводителя дворянства на 16 августа 1812 года в ополчение Богородского уезда было записано 2113 ратников, собрано от населения 10 554 пуда 7,5 фунта муки, 111 четвертей круп, 1460 пик и 8 ружей. Восемь ружей на все уездное ополчение! Доставшиеся столь чудесно десять карабинов вселяли воодушевление необычайное, и отряд с таким вооружением представлялся грозной силой, что и подтвердилось дальнейшими событиями. А Герасим как в воду глядел — нежданные гости не заставили себя долго ждать. На следующий день рано поутру неприятель занял Грибово и, ничего и никого не обнаружив, вознамерился было деревушку сжечь. Но — вот она, сила-то захваченных накануне ружей: после жаркой, хотя и несколько беспорядочной со стороны партизан стрельбы (когда было учиться прицельно стрелять?) враг все же был отогнан. Однако настоящая война началась 27 сентября, когда в деревне Субботино было разгромлено три неприятельских эскадрона. Высланные в сторону Богородска наблюдатели обнаружили их загодя, и это было впечатляющее зрелище. Кавалеристы, как на подбор, молодец к молодцу, правда, потрепанные и пообносившиеся в дальнем походе. Да и лошади, хоть и видной стати — заморенные, спавшие с тела. На голодном, видать, пайке, как и солдаты. За кавалеристами погромыхивали на глинистой дороге повозки, и черноголовый востроглазый Панька Курин, сынишка Герасима, сидевший у верхушки сосны, насчитал их добрый десяток. Панька, наклонясь лицом вниз, прокричал что-то придушенным голосом, и тотчас из березнячка порскнул, словно вспугнутый зайчишка, мальчуган лет десяти в латаных-перелатаных пестрядинных штанах и такой же сине-грязной рубашонке, босиком, несмотря на осень, и мигом скрылся в лесу — сообщить дяде Герасиму, что дружок его с верхушки сосны увидел. Курин новость уже знал — верховные караульные упредили его часом раньше. Французы расположились кучно, в центре села, несколько человек не без робости заглянули в ближайшие избы и тут же вернулись. Обычная картина — село пусто. Ни людей, ни скота, ни птицы. Лишь плотный, темный днем и ночью бор, друг и защитник партизан, угрожающе гудел верхушками сосен. От французов отделился человек явно гувернерского вида: в замызганном сюртучке и с гордо выпяченной накрахмаленной грудью. Очень похожий учитель барских детей жил до войны в соседнем помещичьем имении, а с приходом неприятеля сгинул бесследно. Слух даже прошел — утопили его дворовые люди в Клязьме, а он, глянь, где вынырнул. Гувернер, отчаянно труся и поминутно оглядываясь на своих, подошел к опушке леса и помахал белым платочком, подождал, прислушиваясь. В бору не видно и не слышно было ни души. — Послушайте, милостивые крестьяне, господа, я буду говорить! — крикнул он, напрягаясь, в темноту леса. — Выходите к нам без всякой опасности, будем мир делать. Не бойтесь нас!.. Величайший и справедливейший из всех монархов, его величество император и король дарует вам покровительство и защищение! Его величество император и король не почитает вас за своих неприятелей… Переводчик выкрикивал фразы из обращения Наполеона к московским жителям, мастеровым, работным людям и в особенности крестьянам с призывами выходить из лесов, возвращаться в дома, к труду, неся почтение и доверие к стопам завоевателей. Обращение расклеено было по всей Москве, специальные нарочные разлетелись с ним по подмосковным уездам, где во многом и полегли, забитые дубьем или поднятые мужиками на вилы и пики. Таков был ответ простых людей на предлагаемое «покровительство и защищение». Долго надрывался еще переводчик-гувернер, безуспешностью своих стараний напоминая зазывалу балагана на пустой площади, но Ямской бор молчал. Строгим взглядом сдерживая нетерпение партизан, рвавшихся в бой, Курин ждал, прикидывая в уме, когда Егор Стулов успеет обойти неприятеля лесом с отрядом своих конников, чтобы с первыми выстрелами налететь со стороны Богородска — они не ждут оттуда нападения — и ударить дружно и одновременно. А главное, застать французов врасплох: внезапность и дерзость нападения — верные спутники их удачи. Никто Курина не учил тактике боя — верность решения подсказывали ему врожденная интуиция, ум, крестьянская сметка. Накануне сражения в Субботине к ним в наскоро разбитый лесной лагерь ночью добился верховой на взмыленной лошаденке, мужик из деревни Степурино. — Еле отыскал вас, — заговорил, отдышавшись. — У нас беда, жгут деревню, человека живьем спалили… Днем зашло двое мародеров при ружьях. Мы ничего такого не замышляли, целовальник даже вина поднес злодеям. Ну, подошли мужики, бабы, дети — не замают, смотрят. А один запьянел и вдруг цап, бесстыдник, молодайку за руку — пошли, мол… Муж молодухи и оттолкни охальника, а тот за ружье, ну его и колом сзади. И второго порешили — стрелять зачал. А к вечеру их целая волчья стая налетела. Хорошо, караульные упредили, мы всей деревней в лес, и рассудили к вам идти, слышали про ваше геройство. Все ушли, а крестьянин Лукьянов Лексей заупорствовал: не буду, говорит, как заяц травленый, бежать из родного дома и, не слушая уговоров, заперся. Супостаты постучали, постучали да и зажгли избу-то. А Лексей не вышел, так и сгинул в огне. Степуринский мужик умолк, всхлипнул, вохненские угрожающе зашумели: «Правильно, в колья их, иродов, не давать пощады!..» «Будьте уверены — отомстим, — сказал сдержанно Курин, и в голосе его слышались и гнев, и боль: — И за Степурино, и за остальные зверства отольются им наши слезы». Можно задаться сегодня вопросом: а не слишком ли сурово поступали они, убивая порой даже одиноких, отбившихся от своих отрядов фуражиров? Нет, это была праведная месть — за разграбленные и сожженные жилища, загубленные жизни, издевательства, грабежи и насилия. Опьянение победой, свидетельствует история, превращает завоевателя в варвара. Даже наполеоновский генерал де Сегюр с горькой откровенностью писал: «Мы становились армией преступников, которую осудит небо и весь цивилизованный мир». Что ж тут удивительного, коль многие завоеватели отправлялись на суд небесный прямо из подмосковных, калужских, смоленских городов и деревень. Когда в Тарутинский лагерь прибыл бывший посол в России генерал Лористон, которого Наполеон уполномочил склонить Кутузова на переговоры о мире, он, между прочим, обиженно заговорил и «об образе варварской войны», которую якобы русские ведут с ними. Обиды свои дипломат адресовал не армии, а именно жителям, которые безжалостно истребляют французов, и просил «неслыханные такие поступки унять». С аналогичными претензиями обратился к главнокомандующему и начальник штаба французской армии Бертье, предлагая устранить нападения крестьян-партизан, дабы «дать настоящей войне обыкновенный вид». Фельдмаршал Кутузов — маршалу Бертье: «Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел, народ, который в продолжение двухсот лет не видел войны на своей земле, народ, готовый пожертвовать собою для Родины и который не делает различий между тем, что принято и что не принято в войнах обыкновенные». Иными словами (по знаменитому определению Л. Толстого), «дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силою и, не спрашивая ничьих вкусов и правил… гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Ночь в партизанском лесном убежище накануне сражения в Субботине прошла в тревоге. Лишь немногие — кто от беспечности безмятежного удальства, вроде Федьки Толстосумова, а кто по слабости физических сил, как дед Антип, прикорнули под деревьями, прислонясь спиной к шершавому стволу и не выпуская из рук пики или ладно оструганной рогатины. Наконец около одиннадцати часов утра, сам истомившись от ожидания, Курин подал команду: «Пора!» — и они в отчаянном и бесстрашном азарте обрушились на французов, подбадривая себя громовым «ура!». Из переулка с тыла тоже с какими-то нездешними криками (ну чисто татары) вылетела, к полной неожиданности противника, мужичья кавалерия, и все схлестнулись, смешались так, что в тесноте боя даже немногие ружья в крестьянских руках, взятые за ствол, служили дубиной гвоздящей. С голыми руками остервенело бросились на врага подоспевшие степуринские мужики. Часть кавалеристов все же прорвалась, остальные полегли, и лишь трое гусаров каким-то чудом остались живы, да и те, видя ярость окруживших их людей, жильцами себя на белом свете уже не считали. Курин подоспел вовремя, чтобы пресечь неизбежный самосуд, дрожащих гусар связали и отвели с глаз долой в избу. Туда же вошли и начальники — Курин, Стулов, сотский Чушкин, кое-кто из стариков — и нате вам, туда же, лопоухий, то есть легкомысленный, Федька Толстосумов, и, что странно, Герасим Матвеевич, герой и партизанский повелитель, с ним дружески и уважительно обходится. У народа глаз зоркий, видели, как взял Федьку под руку и тихо — но кой-кто слышал, спросил: «Это тебя, что ли, выкликали французы на разговор? Чего же не вышел?» А Федька вроде бы ответил: «Только попадись им в когти — ужо поцелует ястреб курочку до последнего перышка». Теряясь в догадках, одни безоговорочно отказывали Федьке в его возможности серьезного отношения к жизни. Мол, балаболка, ушел шалопутом в Москву, а теперь вернулся, не шибко, видно, умишком прибогатившись. А другие недоверчиво качали головами: «Э-э, не скажи, тут дело тайное… Герасим за дурость привечать, чай, не стал бы». Держали совет в избе недолго. Погоревали о погибшем кузнеце, нескольких раненых партизан решили переправить в лесной лагерь — под присмотр женщин. На сей раз трофеи, что лошадьми, что оружием взяли, и вовсе сказочные. Сразу договорились: на одного чтоб осталось по ружью, пистолету или сабле, а кто хапнул лишку — переделиться по справедливости. Спорить не стали — разумность передела казалась очевидной. Герасиму, как предводителю, вручили все-таки два пистолета и саблю — так думалось проявить к нему особое доверие и уважение. Сам Курин в этом бою двоих врагов острейшей пикой пронзил насмерть, бросался туда, где подсобить надо, и так поглощен был боем, что оказался без добычи. Федька колебался, что оставить — ружье или пистолет, красивая игрушка пистолет, ничего не скажешь, но, сожалеючи вздохнув, взял ружье. — Выйдет заряд — а все равно в руках надежная дубина, — объяснил свой выбор. — Сподручно. Вон Иван Яковлевич (Федька повернулся к сотскому Чушкину) лихо как нынче считал ружьем супостатовы головы. Ажно завидно. Никто не улыбнулся шутке — обдумывали смерть кузнеца, первого односельчанина, погибшего в сражении. Не своей смертью, как от бога заведено, ушел из мира добрый человек, а насильственной, и детишки остались — мал мала меньше. — Тоже божья смерть, — задумчиво сказал Курин, — в бою потому что, за отечество. Стулов, во всем привыкший блюсти порядок, сказал, что надо бы неприятельские трупы побыстрее прибрать с глаз долой. — А че их прибирать? — неожиданно заершился сухонький низкорослый дед Антип. — В топь их, вражьих сынов, в болото, пусть трясина их прибирает. Дед вроде не в первых рядах бежал к месту боя, а на совет явился при длинном палаше, который волочился за ним по земле, гремя и бренькая на ходу. — Не дело говоришь, дед, — возразил Герасим, — хоть и враги, а все же люди. Где бы ни обретался человек, а везде она его, землица, принять должна. Наша-то земля им чужая, и с недобрыми намерениями они на нее ступили, так что хоронить будем не на кладбище, а в лесу, на дальней полянке. И место выровняем — пусть трава растет. Вскоре по обеде Курин, Стулов и еще с десяток верховых окружили повозку, где лежали больше мертвые, нежели живые гусары, и быстро, на рысях, а под гору и галопом покатили по пыльной дороге. В Покров прискакали засветло. На просторном дворе господского дома, где держал штаб-квартиру князь Голицын Борис Андреевич, появление вохненских вооруженных мужиков с тремя пленными французами вызвало необычайное оживление и любопытство, люди сбежались, как на пожар, большинство доселе в глаза не видели антихристов и злодеев. Вышел Голицын, поговорил с пленными по-французски, как бы даже с лаской в голосе, распорядился развязать веревки, и гусары, растирая затекшие руки, ушли под конвоем. «Для допроса и выяснения положения неприятеля», — пояснил унтер-офицер недовольной толпе, которая ожидала от князя решительного поведения, может, порки злодеев, а может — прямо здесь, на глазах у всех, и немедленного расстрела. Адъютант указал на скромно стоявших в стороне Курина и Стулова. Князь милостиво кивнул, поблагодарил за службу царю и отечеству, сказал, чтоб расположились на постоялом дворе — он освободится от дел и примет их. Времени встретиться с партизанскими вожаками у генерала, увы, не нашлось, и все же, как человек обязательный, он распорядился через адъютанта полковнику Нефедьеву: дать совет партизанам, как действовать дальше и по возможности изыскать подкрепление. Возвращались вохненцы из Покрова в сопровождении двадцати казаков. Их выделили скорее для моральной поддержки — пусть и крохотная, а все же воинская часть. Курин, хмурый и озабоченный, поторапливая отряд, стеганул кнутом свою отнюдь не кавалерийских статей кобылку, привыкшую тянуть трудную лямку в крестьянском хозяйстве. Казаки смеялись до слез, глядя, как мужики, махая растопыренными локтями, словно подрезанными крыльями, нелепо подпрыгивают в такт лошадиному галопу. По историческим хроникам центром Вохненской волости значится то Вохня, то Павлово. В сущности, это одно и то же. Вохней называли Дмитровский погост, который вырос здесь еще во времена, когда Иван Грозный передал земли волости в вотчину Троице-Сергиевой лавре. Погост — два храма, теплый и холодный, как сказано в писцовых книгах 1623–1624 годов, дома церковного причта, несколько крестьянских дворов, «да при том погосте сельцо Павлово на речке Вохонке, а при нем крестьян и бобылей 25 дворов, да два двора монастырских и 3 кузницы, да в сельце торжок, а на том торжку 30 лавок рубленых, а в тех лавках торгуют Вохненской волости крестьяне…». Волость так и продолжали называть Вохненской, а центром ее стало разросшееся и получившее известность Павлово, ныне районный центр Павлово-Посад. В этом предприимчивом селении, где крестьяне занимались не только хлебопашеством, но и торговлей, ткачеством и другими ремеслами, в 1777 году в крестьянской семье родился Герасим Курин. Землицы у Куриных мало, а трудов требовалось много — от зари до зари, и при скудных здешних песчаных и глинистых почвах урожаи не радовали — в плохой год свезешь, бывало, подати, с долгами прошлыми рассчитаешься и хоть метелочкой выметай закрома, авось завалялось зерно-другое. Род Куриных крепко держался за свой клочок земли, виделась в этом какая-то незыблемость, надежность, как грош, отложенный на черный день, а некоторые односельчане пытали счастья в торговле, ткачестве, более удачливые заводили мануфактуры на дому даже с наемными, преимущественно пришлыми рабочими, были и такие, что и в Москву уходили в поисках лучшей судьбы, да не многие ее находили. Бурно развивалась Вохня-Павлово как торговый центр, чему немало способствовала близость к Большой Владимирской дороге — на важный торгово-стратегический тракт обратят внимание и в штабе Наполеона. Река Клязьма, пусть и в крутых берегах, вширь до двадцати пяти сажен достигала, что позволяло баржам и небольшим судам подвозить товары из Владимира и даже с Нижнего Новгорода. Вохненцы выставляли на торг хлеб и съестные припасы, шерстяные и бумажные ткани, а частью и шелковые, крашенину, павловские платки, ставшие со временем столь знаменитыми, что мода на них сохранилась и до наших дней. Сейчас уже трудно установить, когда и за что Матвея Курина, отца Герасима, забрали в солдатчину. Мать надрывалась от зорьки и до темна в поле и по хозяйству, и мальчонке пришлось немалую долю забот принять на себя. Подростком — усы еще только намечались, он работает вровень со взрослыми мужиками, привычно впрягшись в изнуряющий крестьянский быт и труд. И хотя работали двужильно — с трудом перебивались до весны, до первой подсобной зелени. У матери похлебка из молодой крапивы или лебеды выходила не только съедомой, как у них говорили, а даже вкусной. Причем работа да свежий воздух в изобилии тоже охоту к еде прибавляли. В трудные дни утешались старинным мужицким присловьем: хлеб да вода — молодецкая еда. А село богатело, росли добротные дома местных толстосумов, которые со временем образовали даже целую улицу Купеческую. Особенно преуспел Никита Урусов, купец, мануфактурщик и скаред, свет каких не видывал. Когда старик умер (а домочадцев он тоже держал в черном теле), сын его, Григорий, то ли с горя, а скорее на радостях, устроил невиданные доселе по пышности похороны, хмельная река лилась, что Вохня в половодье, а некоторые яства и вина даже из самой столицы гонцы доставляли. Молодой и неистомного рвения наследник Григорий Урусов, стесненный рамками деревни и владея силой — капиталом солидным, за несколько лет до нашествия Наполеона открыл в Москве крупную мануфактуру с более чем ста наемными рабочими. Из павловских соблазнился столичной жизнью лишь Федька Толстосумов — бедняк, голь перекатная, страдавший из-за насмешек над несообразной своему положению фамилией. А вот крестьяне Лабзины, Щепетельниковы своими фамилиями не брезговали, наоборот, гордились — они стали крупными фабрикантами в самом Павлове. Торг хлебом проводился еженедельно, а в конце октября собиралась годовая ярмарка, шумная, как все ярмарки, громогласная, красочная, богатая. Крупная торговля шла зерном, а славившиеся своим искусством хлебопеки предлагали разнообразную выпечку. Строго блюлись древние законы, требовавшие, дабы хлеба ситные и решетчатые, калачи тертые и коврижные были пропеченными и в них гущи и подмесу не ощущалось ничуть. Редко кто отваживался обычай нарушить: ведь везти на торг худой товар — себе в убыток, объяснял Герасиму во время обхода ярмарки бывший его наперсник по детским играм и шалостям Егор Семенович Стулов, прочно утвердившийся в должности волостного головы. Егору и хозяйство от родителей досталось покрепче и землица получше, и при умелом хлебопашестве он достиг устойчивости среднего достатка. Оказанным ему доверием и данной властью не возгордился, перед павловскими деловыми людьми без нужды шапку не ломал, с бедняками старался быть справедливым. В детстве и юности в уличных играх и молодецких забавах бесспорно первенствовал Герасим, с годами заметно выдвинулся, особенно в общинных делах, Егор, что не мешало им сохранять ровные и добрые отношения. Лишь однажды, в дни нашествия, на общем сходе в трудную для деревни минуту чуть не прорвалось было невольное, непроявляющееся открыто соперничество двух сильных натур, но их дружба, в войну с Наполеоном и огнем крещенная, испытание на прочность выдержала и закрепилась на долгие годы. Люди говорят, на всю жизнь, до самой смерти. Герасим, или Гераська, как звали его в детстве по обыкновению, здесь принятому, был бедовым мальчонкой — верховодил сверстниками в деревне, водил свою рать против таких же забияк с окрестных поселков. Вохню-Павлово почти окружал дремучий сосновый бор с редко встречающимися перелесками. Бор — богатство, которым не могли нахвалиться монахи Троице-Сергиевой лавры. В старину лес кишел зверьем, среди местных поселян были даже особые княжеские бобровники, охотники то есть, но с годами зверье, а тем паче охота сошли на нет, и все же с косолапым в малиннике еще можно было столкнуться нос к носу. Без нужды особой в глубину леса мало кто забирался. Зная, казалось, окрестности, как свою ладошку, Герасим тем не менее, когда ему было лет десять от роду, заблудился среди бела дня, ушел в непроходимую глушь и трое суток блуждал. Нечистая сила, считают старики, водила мальчонку. Подкреплялся горькой, недоспелой — скулы сводило, рябиной, травкой-муравкой, с жадностью смотрел на грибы, попадавшиеся в изобилии — съедомые, сытные, да только без огня есть — погибель, это Гераська знал. Пробовал было по древнему, слышанному от стариков способу добыть огонь, тер до изнеможения сухие палочки друг о дружку, добился того, что они потемнели и даже чуть-чуть вроде дымились, но, проклятые, не горели, хоть плачь. А не плакал, понимал, спасение в том, чтобы идти, пока ноги держат, и через Заболотную местность, где и взрослый, наверное, пропал бы, каким-то чудом вышел к Клязьме. Понял — спасен, и со всех ног припустил вверх против течения, к дому. — Везучий, — уважительно говорили соседки, а мать, не чаявшая видеть сына живым, схватила первую попавшуюся хворостину и принялась охаживать любимое дитя, плача от радости и схлынувшего разом горя. Четверть века спустя вспомнил Герасим про свои лесные блуждания. Когда спор зашел, где лучше устроить для жителей Павлова и ближайших деревень лагерь, понадежнее укрыться от неприятеля, он, не колеблясь, повел женщин, стариков, детей в глубь Ямского бора. Житейский опыт — бесценное богатство, если он обращен на пользу себе и людям, потому и детское приключение, едва не кончившееся для Герасима непоправимой бедой, отозвалось спустя годы и сыграло добрую службу. От отца Герасим взял степенную рассудительность, не бросающуюся в глаза лукавость, сметку, от матери — серые глаза и отходчивость характера, умение ладить с людьми. Из далеких и дальних солдатских странствий Матвей Курин вернулся вскоре после того, как русские войска под командованием Суворова штурмом взяли Измаил. Шел старый Курин в колонне, которой командовал Кутузов — Михаил Ларивоныч, — уважительно уточнял Матвей, вспоминая, как солдаты отважно рванулись по зыбким штурмовым лестницам на отвесные стены крепости, что ничто, казалось, не могло их остановить и не остановило — ни ядра, ни пули, ни турецкие сабли и ятаганы. Ран колотых в бою не считали, а вот уже на самой стене Матвею картечью изувечило ноги. С трудом передвигался отставной солдат с тяжелой суковатой палкой по избе, а больше лежал на печи, где в лучшие урожайные годы сушилась рожь, — прогревал искалеченные кости хлебным духом. Герасиму, когда отец вернулся, четырнадцать исполнилось, и был он крепким, рослым не по годам парнем. Матвей присмотрелся к сыну — как тот с делами управляется, одобрил: ладный растет работник, умелый и в дела хозяйственные почти не вмешивался, лишь покрикивал для порядку, хотя необходимости в том и не было особой. В дни больших праздников, а особенно на ярмарку, мужики, ремесленники, работные люди гуляли. Пили в меру, для сугреву и настроения, а про того, кто начинал было колобродить, говорили с осуждением: «Ну, у него в голове гусляк разгулялся». Здесь варили брагу на особенном местном хмеле — он произрастал в Богородском уезде на реке Гуслице. Однако не в меру «нагуслиться» считалось по строгому нравственному крестьянскому кодексу делом зазорным и зряшным. У молодежи свои игры — посиделки, песни и пляски. Между Вохней и Павловом, как уже говорилось, не было ни четкой границы, ни вражды, так, необидное подтрунивание обоюдное, а по зиме, когда лед на реке Вохне покрепче установится, сшибались нередко стенка на стенку вохненские против павловских. Дрались беззлобно, только кулаками — никто бы и не подумал взять палку или камень, просто силу и ловкость выказывала молодежь, к тому же в самом центре села происходила потеха, на виду у пристрастных свидетелей, так что от правил никто и не покушался отступать. Павловскими обычно предводительствовал Герасим. К тому возрасту, когда свахи уже невест присматривают, вымахал он в красивого и крепкого парня — армяк с трудом сходился на широкой груди, в потехе ловок и смел на зависть, но по дурости, как некоторые другие сверстники, силу никогда не показывал. Общинное мнение в лице все видящих, все знающих кумушек, которые и у ангела изъян без труда высмотрят, особенно умилял его трезвый образ жизни (а ведь молод, горяч!) и умение дело делать как бы легко, без натужного и уж тем более показного надрыва. Умелые руки у молодца: и пахарь, и плотник, и шорник, а случалась потребность неотложная — мог и подручным у кузнеца Антона Неелова с пользой постоять, поработать молотом в охотку. Когда младший Урусов спустя несколько лет после тех знаменитых похорон открывал в столице свое торгово-купеческое дело, он приглашал и Курина, не в работники — в помощники управляющему. Не зря приглашал — Герасим от псаломщика Ивана Отрадинского, с которым в добрых ладах был, немного обучился грамоте, знал счет, отличался рассудительностью ума и твердостью в слове. Купец хорошие деньги сулил — Герасим не соблазнился. В деревне об этом толковали долго и с одобрением. Женился Герасим на скромной и работящей девушке из ближайшей деревушки Грибово, родился у них сынишка — Панькой назвали. Роды были трудные, еле выходили молодуху — спасибо, тот же псаломщик Иван, грамотей и большой почитатель лечебных трав, своими отварами отпоил роженицу. Выздоровела, поправилась, да, к огорчению Герасима, суждено им было остаться при одном сыне. Как водится, в семье мальчонку, пусть единственного и любого, не баловали, в крестьянских семьях вообще скупы на нежности — так подсказывает здравый смысл и веками усвоенные принципы народной педагогики. Здесь главное нравственное мерило устойчивости в жизни — отношение к труду, почитание и забота о старших. Панька любил возиться с отцом по хозяйству — занятие находилось что зимой, что летом. Избу подмести, двор — здесь и девчонка управится. Он же научился помогать отцу сани или телегу ладить, хомуты чинить и другую сбрую, набивать гвозди на борону, пилить и колоть дрова, а уж коли разрешали верхом на кобылке прокатиться к речке на водопой — большей награды и желать грешно. Случалось, попадал под горячую отцовскую руку, если бедокурил. А покажите хоть одного мальчишку в деревне, который избежал бы подзатыльника от отца или деда? О родительских наказаниях между ребятишками разговор обычный: — Досталось тебе вчера? — Подумаешь, я даже не айкнул. Дед Матвей, правда, все больше непонятно грозился: «Гляди, — говорил, сердясь, внуку, — под ружье поставлю». Панька и рад бы под ружьем постоять, одним глазком посмотреть, какое оно из себя, но дед угрозу в исполнение почему-то не приводил. Ружья не было, так понимал Панька. Говорили, будто у барина из Меленок есть настоящий мушкет, пальнет, ажно в ушах трещит. Так то барин. Сообразительность и смелость Паньки (куринская порода) в полной мере и с немалой пользой проявились в партизанском отряде в первые дни, как только организовались. С Федькой Толстосумовым (о нем особый рассказ) они, выполняя наказ Курина, беспрепятственно добрались чуть не до самой Москвы и за несколько дней до занятия Богородска сумели узнать, что войсками, направлявшимися в их уезд, лично командует один из самых главных и прославленных наполеоновских маршалов — Ней. 4 октября князь Голицын в рапорте дежурному генералу П. Коновницыну сообщает об этом, как о факте уже бесспорном: «…по сведениям от пленных, маршал Ней сам был в Богородске и командовал всеми войсками в окрестностях Москвы, бывших для фуражирования, число коих более 14 тысяч пехоты и конницы, в самом Богородске было 12 пушек». Что и говорить, с серьезным противником пришлось иметь дело крестьянским отрядам и владимирским ополченцам, но и эту хваленую пехоту и конницу при их пушках лапотные мужики били, истребляли, гнали, не давая захватчикам ни минуты покоя. В листовках, публиковавшихся штабом Кутузова, взявшихся за оружие крестьян именовали не иначе как «почтенными нашими поселянами», а главным мотивом их действий объявлялась любовь к Отечеству. Однако успехи и размах «малой войны» сильно тревожили не только Наполеона, не в меньшей мере разгорающееся сопротивление народа беспокоило и царское окружение, где преобладали завистники, интриговавшие против главнокомандующего, крепостники. Известны, например, распоряжения на первоначальном этапе войны командирам войсковых отрядов о недопустимости снабжать партизан оружием, а губернаторам было даже дано указание не только разоружать крестьян, но и «расстреливать тех, кто будет уличен в возмущении». Красноречиво предупреждение, а точнее сказать, злобный навет генерал-губернатора Москвы и (какая ирония судьбы!) главнокомандующего наиболее важным и крупным — Московским ополченским округом Ф. В. Ростопчина: «Умы сделались весьма дерзки и без уважения. Привычка бить неприятелей преобразила большую часть поселян в разбойников». А вот отношение к тем же поселянам М. И. Кутузова: «Много есть подвигов знаменитых, — писал фельдмаршал, — учиненных почтенными нашими поселянами, но они не могут быть на первый случай обнародованы, ибо неизвестны еще имена храбрых; приняты меры, чтобы узнать об них и передать отечеству для должного почтения». В этой войне, по словам Дениса Давыдова, «нравственная сила рабов вознеслась до героизма свободного народа», и именно страх, паническая боязнь перед познающими вкус свободы рабами в решающей степени определяли умонастроения власть имущих. С этих же классовых позиций оценивал опасность пробуждающегося самосознания русского народа представитель Англии при штабе Кутузова Р. Вильсон: «Не одного только внешнего неприятеля опасаться должно; может быть, теперь он для России самый безопаснейший. Нашествие неприятеля произвело сильное крестьянское сословие, познавшее силу свою и получившее такое ожесточение в характере, что может сделаться опасным». Хотя посулы Наполеона и его призывы к лояльному сотрудничеству не нашли никакого отклика в народе, все же медленно, неровно разгорался пожар сопротивления в первый период войны. Генерал Алексей Петрович Ермолов в своих известных «Записках» свидетельствует: «Поселяне приходили ко мне спрашивать, позволено ли им вооружаться против врага и не подвергнутся ли они за это ответственности…» Подвергнуться ответственности за то, что, рискуя жизнью, готовы подняться против завоевателя? Не абсурд ли? Если же вспомнить предостережения Ростопчина, неуверенность и робость крестьян более чем обоснованы. «Война народная слишком нова для нас, — замечает в „Письмах русского офицера“ Ф. Глинка, — кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться, вооружаться и действовать где, как и кому можно…» Кутузов, думая не столько о себе, о своей личной судьбе, сколько об исторической миссии, возложенной на него народом, о праве и долге всех, кто может держать оружие, встать на защиту отечества, в одном из рапортов царю писал: «С мученической твердостью переносили они все удары, сопряженные с нашествием неприятеля, скрывали в лесах свои семейства и малолетних детей, а сами, вооруженные, искали поражения в мирных жилищах своих появляющимся хищникам. Нередко сами женщины хитрым образом улавливали сих злодеев и наказывали смертию их покушения, и нередко вооруженные поселяне, присоединяясь к нашим гарнизонам, весьма им способствовали в истреблении врага, и можно без увеличения сказать, что многие тысячи неприятеля истреблены крестьянами». Вскоре после отправки этого убедительного документа, когда для непредубежденного наблюдателя успехи «малой войны» были уже неоспоримы, более того, широкое участие народного ополчения и партизанских отрядов в период подготовки контрнаступления стало составной частью стратегии, определявшей развитие кампании, главнокомандующий, испытывая давление двора, вновь вынужден объясняться, оправдываться, доказывая правоту своей концепции освободительной войны при самом активном и самоотверженном участии в ней крестьянства: Фельдмаршал Кутузов — Александру I: «Во время занятия неприятелем Московской, Калужской и части Тульской губерний жители тамошних мест старались доставить себе оружие, желая тем ограждать себя от вторжения неприятеля. Уважая справедливую сию надобность и дух общего их рвения повсеместно наносить вред неприятелю, я не только не старался удержать их от такового намерения, но, напротив того, посредством дежурного при мне генерал-лейтенанта Коновницына, усиливал в них желания сии и снабжал их неприятельскими ружьями. Таким образом, жители означенных мест получали ружья из главного моего дежурства и от партизанов (войсковых отрядов. — Ред.), другие же от самих французов, коих убивали собственными руками». «Я не только не старался удерживать их от такового намерения…» Значит, от главнокомандующего настойчиво требовали — удерживать? Однако река уже вышла из берегов. И Кутузов не без дерзкого вызова отвечает: «Напротив, усиливал в них желания сии…» Чтобы так прямо и открыто писать всесильному самодержцу, определенно зная, что ожидает тебя не похвала, а гнев, нужно обладать немалым гражданским мужеством. Среди тех поселян Московской губернии, которые получали ружья от самих французов, убивая их собственными руками, были и вохненские мужики. Привелось читать у нашего современника, будто Герасим Курин приезжал в Тарутинский лагерь, был принят и обласкан главнокомандующим, высказал свои глубокомысленные советы и соображения касательно дальнейшего ведения кампании, бражничал на равных со знаменитыми командирами войсковых отрядов (партий) и вернулся в Вохню с фурой, нагруженной новенькими ружьями. Что и побудило якобы крестьян организоваться в отряд. Между тем Кутузов особо подчеркивает в рапорте царю — раздавали французские ружья, да иначе и быть не могло, потому что даже для ополченских полков, включенных в регулярную армию, не хватало оружия. После сражения при Малоярославце, побудившего отступающего Наполеона повернуть на гибельную Смоленскую дорогу, маршал Ж. Бессьер, понимавший невозможность в сложившейся ситуации прорваться на Калугу, отмечал, в частности: «А с каким неприятелем нам приходится сражаться? Разве не видели мы поля последней битвы, не заметили того неистовства, с которым русские ополченцы, едва вооруженные, обмундированные, шли на верную смерть?» Отряд Курина просуществовал недолго, а на протяжении семи дней — от первой стычки в деревне Большой Двор до бегства французов из Богородска — был в ежедневных боях. Без передышки. Нет сомнения, что главнокомандующий в отличие от высокомерного князя Голицына нашел бы возможность принять и любезно обойтись с крестьянским вожаком (таких примеров немало), но у Курина просто не было физической возможности на длительную поездку в лагерь русской армии. И вообще до пожара Москвы им и в голову не приходило, что война докатится до самого порога, хотя Павлово, как и вся необъятная Россия, жило в тревоге перед надвигавшимся лихолетьем. Молву, говорят в народе, через речку слышно. Молву опорочную, злоязыкую, что шепотком передается. А в дни испытаний и бед тяжких горькие ходячие вести не ходят, а летят, распространяясь с быстротой лесного пожара. То тревожные: Смоленск пал… То радостные: супостат повержен в Бородинском сражении!.. — Я же говорил, Михаил Ларивоныч остановит злодея, — воодушевлял односельчан бывший кутузовский гренадер Матвей Курин. — Куда ему против русского солдата, который крепости на штык берет. Напорется француз, что медведь на рогатину, и дух испустит поганый. И вновь слух, будто змея холодная, прополз, стал шириться, подтверждаясь изо дня в день тревожными сообщениями: неприятель не повержен, наоборот, подвигается к Москве, лютует на захваченной территории. Говорят, сколько хлеба печеного, муки или зерна у крестьян найдут, а также лошадей, коров, овец, то все без остатка заберут… некоторые деревни совсем выжжены и крестьян покололи… ломают и тычут пиками в образа и делают конюшни из церквей… Вечером у постоялого двора остановил повозку подозрительный человек. По платью да щекам лоснящимся если судить, вроде купчина, а вид диковатый, словно черта среди бела дня увидел. Купчина, отчаянно нервничая, спросил овса лошадям. — Да поторопись, христа ради, любезный, хорошо заплачу. — Куда столь поспешно, ваше степенство? — заинтересовались мужики. — Во Владимир, а там, бог даст, куда глаза поведут. — Издалека, ежели не секрет? — Да какой там, православный, секрет: из Москвы-матушки. Пропала златоглавая, отдали супостату на поругание… Крестьяне опешили, взволновались: «Да ты что… Да ты как… Да типун тебе на язык, вражина бессовестный, шпийон бонапартов», — и за грудки, и по шее, и по уху. Когда на шум поспешно подошли Стулов и сотский Чушкин, помятый купчина одной рукой придерживал надорванный ворот, другой прикрывал расцарапанную щеку и так бранно ругался, что Егор сразу понял: свой человек, русский, лишь не по-русски трусоват, а может, и натурой подл, из разглашателей — надо установить. Из уезда предписали строго: соблюдать тишину и спокойствие, дабы пустые, развратные толки праздных людей не были распространяемы, а разглашателей слухов о падении Москвы, как лгунов и трусов, доставлять по начальству. Избитый приезжий, с надеждой обратясь к волостному, уже собирался оправдываться, как вдруг не заблаговестил — ударил в набат большой колокол церкви Воскресения. Мужики удивились — что-то не ко времени бухнули в колокола, а набат нарастал, уже со всех сторон бежали на площадь люди, взвыли, запричитали бабы, кто-то, перекрикивая шум, истошно закричал: «Смотрите, смотрите, пожар!» И все увидели разрастающееся зловещее зарево в той стороне, где стояла Москва. Забытый мужиками купчина засуетился, стеганул лошадей, повозка загрохотала, но никто даже не посмотрел в ту сторону. Всю ночь по дороге на Владимир не затихало движение, скрипели и громыхали телеги, фуры, кареты. Многие крестьяне тоже не спали, негромко, будто боясь накликать беду, переговаривались, посматривая с тревогой на запад, туда, где разрасталось на полнеба зарево. — Что будем делать, Егор? — спросил Герасим, когда в этом ночном движении от группы к группе они на какое-то время оказались рядом. — Что же делать? — вздохнул Стулов. — Кабы знать… Ждать будем, надеяться. — Чего ждать? Злодея в гости? — Думаешь, будет ему сюда ход-то? — А что ход? Пятьдесят верст ему не дорога, вон из какой дали дошел. — Не знаю, Герасим, наше дело мужицкое, подневольное, как прикажут — так и покоряйся. — Нет, Егор. Ежели завтра, скажем, француз упрягет меня заместо моей кобыленки в соху да погонять станет, что же я, покориться ему должон?.. Мужики слушали их разговор молча — им тем паче сказать было нечего. Что могли, казалось, они уже сделали. Когда еще до падения Москвы вышел указ — отбирать в ополчение мужчин в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет, готовить припасы, люди, истомившиеся в неизвестности и незнании, куда себя приложить, захлопотали с необыкновенным усердием. Запылали в кузницах горны, застучали молотки — кузнецы ковали наконечники для пик, портные и сапожники ладили одежду и обувь для ополченцев или жертвенников, как их стали называть в народе, потому что жертвовали они собой не по обязательному набору, а по велению души становились на защиту земли русской. Стулов принимал подводы из окрестных сел с хлебом и другими припасами, что мужики свозили, и занят был по горло, ни на минутку не мог оторваться от столь важного дела, и по волости приходилось мотаться, поторапливать да понуждать. И как-то незаметно вышло так, что Герасим Курин, никакой должности в Павлове не занимавший, стал как бы в центре всеобщего воодушевления и хлопот, всем он был нужен для совета и помощи и везде поспевал. Не распоряжался, не повышал голоса, а быстро и справедливо разбирался даже в таких непривычных делах, как спор чуть не до драки двух молодых мещан братьев Сырцовых — кому из них, погодкам, идти в ополчение. По дороге на Покров под команду князя Голицына густо проходили отряды ополченцев. Мальчишки с завистью смотрели на лихо заломленные фуражки с крестом, мужчины с сочувствием отмечали худобу обмундирования. Очень немногие были одеты по полной крестьянской ополченческой «форме»: рубаха с косым воротом, серый кафтан, шаровары из грубого сукна, сапоги. У большинства — привычные, не приспособленные к дальним переходам лапти. И ни одного ружьишка, даже пики не у многих. — Как же они воевать-то, сердешные, будут? — Пусть только сунется, вона сколько нас — шапками замечем, — бахвально говорил Федька Толстосумов и горделиво посматривал налево-направо: какое производит впечатление? — Твоя шапчонка московского кроя, видать, дюже грозное оружие, кого хошь запугает, даже гренадера, — улыбнулся Курин, — а хорошо бы под шапчонкой, кроме кудрей, еще что-нибудь иметь посущественнее. Федьке Толстосумову было лет двадцать пять — всего на десять лет моложе Курина, а внешностью и особенно повадками походил на задиристого, легкомысленного мальчишку. Степенности (Стулов как-то буркнул: «И ума») вроде не прибавило ему житье в Москве в качестве ученика ткача, а в последние годы перед войной и самостоятельного работника на мануфактуре Григория Урусова. Появился он в Павлове дня через три после того, как начала гореть Москва, и пошел, едва показавшись у матери (отец рано умер), сразу к Герасиму Курину — их семьи были по-соседски близки и даже находились в каком-то дальнем родстве. Люди видели, как вскоре после его прихода Панька пулей понесся к волости и тут же вернулся с Егором Стуловым, и они втроем целый вечер о чем-то говорили, а Панька стоял у ворот — то ли сторожил, то ли ему просто в избу ходить заказали. Было чему удивляться и с чем таиться: Герасим чуть ложку не уронил в миску с похлебкой, когда Федька, прямо с порога, даже на икону в красном углу не перекрестившись, брякнул: — Вот, Герасим Матвеевич, вернулся я в родные края в качестве шпиона и агента Бонапартового. Зови волостного, зови сотского, вяжите меня и везите прямо в уезд. Как на духу покаюсь. Курин справился с удивлением, посмотрел внимательно на Федьку и сказал глуховато и неторопливо, будто взвешивая каждое слово: — Ты же через уезд, через Богородск пришел, зачем тебя везти обратно? Расскажи, послушаем да здесь, в родной земле, может, и схороним. Чай, своя душа, христианская, хоть и продавшаяся. — Да не продался я, Герасим Матвеевич, обманул их, злодеев, на кривой объехал, вот те крест, — и он наконец перекрестился, при этом смотрел не на икону, а на хозяина. Тут-то Панька и был послан за волостным. Если коротко говорить, в те смутные часы, когда армия из Москвы ушла, а неприятель где-то замешкался (Наполеон на Поклонной горе ждал бояр с ключами от города), Федька с какой-то бесшабашной компанией попал в пустой брошенный кабак, быстро и до полной потери сознания и человеческого облика набрался и очнулся только тогда, когда его, поднадавая под ребра прикладами, привели к человеку явно высокого начальственного вида. Федька, к своему ужасу, понял, что стоит перед французским генералом — как оказалось позже, перед самим комендантом Москвы Мильо. При генерале находился переводчик не французского обличья, и это обстоятельство Федьку спасло, потому что, услышав русские слова (тот, при генерале, спросил: «Кто тебя, морда, послал на поджог?»), Толстосумов, даже не вникнув в суть вопроса, а только зацепившись краешком сознания за знакомое слово «морда», зачастил словами, затравленно оглядываясь на человека в расшитом золотом мундире. («Не сам ли Наполеон?» — мелькнула дурацкая мысль.) Сбивчиво, быстро и достаточно внятно он обрисовал начало своих приключений, а что было дальше — вспомнить, как ни напрягался, не мог, заробел, чувствуя, как куда-то к пяткам просачивается холодок от неизбежности смерти. Человек, умевший так душевно говорить «морда», стал задавать вопросы: как зовут? Откуда родом? Чем занимается? Генерал крайне заинтересовался местностью у Богородска и дальше по нескольку раз переспрашивал название деревень, потом — тут Федька аж приподнялся на лавке и, глядя доверчиво на Курина и Стулова, понимая, что сообщает что-то важное, сказал шепотом: — Потом я увидел, как генерал провел на карте линию от Москвы до Богородска, а от Богородска на Вохню и дальше куда-то, я не разглядел. Допрос длился довольно долго, и в конце концов генерал через переводчика сказал: — Мы тебя должны бы по приказу его императорского величества и короля расстрелять, как поджигателя и бандита. Но ты, видать, человек с головой. — Федька невольно приосанился, зыркнул на Курина и Стулова, те молчали, глядя в земляной пол, и Толстосумов пожух лицом, сник. — Словом, они сказали, что меня отпускают, чтобы я добирался к себе домой и скажи, дескать, своим деревенским мужикам, чтобы нас не боялись, мы их, мол, не считаем за врагов. И еще, говорит, скажи тем хозяевам в волости, у кого есть хлеб и продукты, пусть едут в Москву без опаски, тут торги будут открыты, никого обижать не станут, а насупротив того, наградят. Когда отпускали, рассказывал Федька, афишку вроде бы приказа Бонапартова вручили для чтения в волости, но афишку французскую (тут Федька потупился) он… того… французскую афишку в дело употребил, а вот нашу, наоборот, подобрал и доставил. Спрятал и доставил. Толстосумов порылся за пазухой и гордо выложил сложенный в несколько раз лист бумаги. То была одна из листовок Ростопчина. Граф, бахвалившийся, что Москвы супостату не видать как своих ушей, теперь обращался умиленно к тем самым «поселянам-разбойникам», которых по своей натуре ярого крепостника и за людей-то не считал и еще недавно грубо и несправедливо оговаривал. «Крестьяне! Жители Московской губернии! Враг рода человеческого, наказание божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой француз вошел в Москву, предал ее мечу и пламени… — читал, запинаясь, Стулов графское послание, — многословное, путаное, крикливое, из коего ясно было лишь одно определенно, что можно браться за оружие и не проявлять жалости к завоевателю: — Куда ни придут, тут и вали их живых и мертвых в могилу глубокую… Вы не робейте, братцы удалые… где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, а тогда в Москву к царю явитесь и делами похвалитесь. Он вас, — уверял без зазрения совести сановный фарисей, — опять восстановит по-прежнему, и вы будете жить припеваючи по-старому». — Ах, важно, накостыляем супостату шею и заживем припеваючи, — начал было привычно скоморошничать Федька, но Герасим оборвал его хмуро: — Погоди, подумать надо, как с тобой обойтись. Судили-рядили так и эдак, обсуждая все услышанное от Толстосумова, и пришли к следующему: о шашнях Федькиных с французами, как случившихся в результате его безответственности и безголовости («Надо же так нагуслиться», — недоумевал Курин, который даже по большим праздникам обходился без хмельного. «Так даровое же…» — снисходительно, с пониманием хмыкнул Стулов), — в деревне не сообщать, сохранить в тайне, дабы не смущать умы. — Проходу не дадут, изведут, а могут и порешить, — резонно заметил Егор. О случаях таких народная молва доносила, когда возбужденные люди расправлялись на месте с вражескими шпионами или теми, кого за таковых принимали — пример с купчиной в этом смысле весьма характерный. Из уст в уста переходила весть о смелом поступке крестьянина Бронницкого уезда Никиты Макарова, который пришел в главную штаб-квартиру русской армии, добился, чтобы его выслушали по важному делу и доказательно разоблачил своего барина помещика Андрея Ключарова как предателя и пособника вражеских войск. А в одной подмосковной деревне мужики безжалостно истребили купцов, как изменщиков, поскольку они, склонившись на посулы Бонапарта, собирали хлебный обоз для торговли с неприятелем. Главное, что вынесли из рассказа Федьки Толстосумова участники тайного разговора и что их больше всего встревожило, — ждать следует врага в Вохню. Карта с линией от столицы до Богородска и далее сомнений на этот счет не оставляла. Несколько дней прошло в состоянии неопределенности и тревоги, а поскольку вести о грабежах и насилиях в окрестностях Москвы доходили все явственней и одна другой устрашающе, решили созвать деревенский сход. И вновь — было это 23 сентября — загудел большой колокол. Пришли не только свои, но и из ближайших деревень — Грибово, Большие Дворы, Назарово, Субботино, Насырово, из дальних выселков. Просторная базарная площадь не вместила всех, и люди толпились на спуске к реке Вохне, не предполагая, что именно на этом месте, на берегах неширокой речушки, предстоит принять им кровопролитное сражение. На подводу в центре площади встал, возвышаясь над всеми, волостной голова Егор Семенович Стулов. Он нервничал, да и оратор был так себе, говорил о несчастьях и бедах и что надо всем миром подниматься и противустоять, надеясь на бога и царя-батюшку… — Как противустоять? — закричали ближние, те, что стояли у повозки и слышали волостного. — Ты научи, что, как делать? Егор смешался и умолк, на многолюдной площади установилась неправдоподобная тишина, лишь дальние, на берегу Вохни, приглушенно, как пчелы в улье, гудели. И враз толпа шевельнулась, ожила, увидев, как на телегу легко, споро влез Курин. Сняв шапку, Герасим поклонился народу на три стороны и выпрямился — высокий (приземистый Стулов ему по плечо), уверенный, и сразу если и не осозналось, то как-то почувствовалось, что за его широкой спиной не только сгоревшая Москва — вся неоглядная Россия. — Любезные друзья и братья! Православные крестьяне веры русской! Злодей и супостат Москву жгет и рушит, грабит и убивает наших братьев, а завтра может и до нас дойти. Что же, ждать будем в покорности, как агнецы перед закланием? На такое моего согласия нету! Надо сразиться с супостатом или умереть! Курин говорил, не надрывая голоса, но слышали его во всех концах площади. — С бабами да детишками больно-то навоюешь! — прорвался молодой звонкий голос. — Прежде всего баб, детей да стариков защищать и будем, — живо отозвался на голос Курин. — Сколь можно быстро и много надо ковать да калить пики, ножи, острить топоры да косы, чтобы у каждого была какая ни есть защита. Укрепим деревню, засеки сделаем, на дорогах караулы устроим, чтобы не захватил нас врасплох неприятель, как хитрый лис сонных кур на насесте. Наши братья и под Москвой, и в Смоленской, и Калужской губерниях животы свои смело кладут и много истребляют неприятеля. И откуда только взялось. Раньше не было случая, чтобы Курин ораторствовал. За словом в карман не лез, поговорить любил о житейском, обыденном, но чтобы так, при народе слова из груди выходили легко, как дыхание — было в диковинку и самому Герасиму. Естественным же образом, будто давно и в подробностях обдумывал все предстоящее, говорил он о делах конкретных, которые предпринять требовалось безотлагательно. Когда одобрительный шум улегся, Стулов сделал полшага вперед, уверенно разгладил рыжую бороду. — Любезные друзья! — невольно подражая Курину, крикнул он так, чтобы вышло погромче. — Отважное и трудное дело нам предстоит, коль поднимемся против злодея. А чтобы правильно организоваться и поступать в дальнейшем соответственно интересам общим, надобно нам назвать человека, ответного в сем важном деле, который обеспечит его собою. Как вы сейчас, друзья, решите, так тому и быть. Голова отступил назад и скромно потупился. Раздумье длилось недолго, площадь всколыхнулась, и будто по чьей-то подсказке все закричали одним многоголосым криком: — Курина! Курина! Курина! Решение схода не только для Стулова было неожиданным. Действительно, вот он, Егор Семенович, волостной голова, о котором, несмотря на его особую должность, никто худого слова не скажет. Чем не предводитель? Участвовали в сходе и павловцы, к фамилиям которых обязательно добавляется слово «уважаемый», — Урусовы, Лабзины, Щепетильниковы и другие крепкие и деятельные хозяева, известные не только в волости и уезде, а даже в Москве-матушке. Конечно, они больше свою оборотистую деятельность на личные интересы направляют, но ведь и общинных нужд и дел не чураются. Это их стараниями Павлово растет, богатеет, и есть надежда из деревни статус посада получит. А близко ли окрест найдешь так богато убранную церковь, такие знатные иконы, дорогие оклады — все они жертвуют. Да и сами уважаемые хозяева — степенные, благочестивые, не гнушаются простого народа, во время молебна истово, до истекания слез ручьями по окладистым бородам, поют с дьячками в церковном хоре. А поди ж ты — руководителем, да еще с таким подавляющим одобрением, назвали простого мужика. В минуту опасности тонкое народное чутье подсказало, кому можно вверить свою судьбу, и выбор павловцев оказался правильным и безошибочным. Сыграла, безусловно, роль своеобразной зажигательной искры взволнованная, обращенная к патриотическим чувствам земляков речь Герасима на сходе. Решающим же обстоятельством было то, что в отличие от других Курин каким-то образом знал, что нужно в данный момент делать, и это все чувствовали. Спустя сто лет, в 1912 году, историк отмечал, не скрывая удивления, что крестьянин Курин «управлял с глубоким пониманием военного дела несколькими тысячами поселян, которых умело водил даже (как красноречиво это „даже“!) в наступательные бои…». Летом 1820 года через Павлово проезжал военный историк генерал-майор А. И. Михайловский-Данилевский, готовивший объемистую хронику наполеоновского нашествия. Долго и обстоятельно расспрашивал он жителей о подробностях их мужественного сопротивления завоевателям и, надо полагать, заинтересованный и воодушевленный услышанным, предложил (в устах его превосходительства предложение расценивалось как приказ) письменно и подробно описать историю создания партизанского отряда в волости и наиболее яркие эпизоды его боевой деятельности. Как ни наивным покажется пожелание историка малограмотным крестьянам — изложить все, как было, документ, озаглавленный «Описание боевых действий партизанского отряда крестьян Вохненской вол. Богородского уезда Московской губ. под руководством Герасима Курина» был составлен и, что не менее удивительно, сохранился до наших дней. Ровные строки рукописи, завитушные заглавные буквы, вообще этакая каллиграфическая лихость указывает на опытную писарскую руку, скорее всего излагавшую текст под диктовку. В сопроводительном письме, подписанном Куриным, сообщается: «А что вы изволили в проезд свой мне приказы дать, чтобы я описал подробно бывшее сражение в с. Вохне, то я оное исполнил и предоставляю вашему превосходительству». Со тщанием ученого историк сделал пометку на первой странице рукописи — наискосок, как пишутся резолюции на входящих: «Сии бумаги получил я от крестьян Вохненской волости Курина и Стулова, которые вооружились во 1812 году против неприятелей и получили Георгиевские кресты». Полученные генералом записки бывших партизан с потным основанием можно отнести к жанру своеобразных крестьянских «мемуаров», единственного, насколько известно, сохранившегося со времен Отечественной войны документа такого рода — мемуары писали преимущественно дворяне, во всяком случае люди образованные. И вот автор или авторы «мемуаров» сочли необходимым специально объяснить бросающееся в глаза противоречие с выбором руководителя отряда.
Воинов-добровольцев, тех, кто готов был сразиться с неприятелем или умереть, набралось около двухсот мужиков и парней, да Панька куринский с дружком Митей, деревенским сиротой, категорически отказавшиеся хорониться в лесу. Курин и не настаивал, понимал, понадобятся мальцы — быстроногие, смелые и дерзкие, как чертенята. Первый приказ «начальника и повелителя»: собрать какое ни есть оружие — вилы, косы, ковать без устали пики. Устроили пикеты, назначили караульных с наказом — дежурить, сменяясь, денно и нощно, не смыкая глаз. По сигналу колокола — все воины, кроме дозорных, должны собираться на ярмарочной площади. Неожиданно, когда собрали немудрящий домашний скарб и уладили вопрос с Панькой — к восторгу последнего, заупрямился Матвей Курин, отказываясь укрываться в лесном лагере вместе с женщинами, стариками и детьми. — Тебе народ большую власть дал, но касательно меня ты не указчик, — гневался старик. — Суждено — здесь, в родном доме, и приму смерть. Герасим отступился, не стал спорить — отца не переупрямишь, да и не принято идти против отцовской воли. Стулов загорелся мыслью собрать конный отряд, пусть и небольшой поначалу. Герасим и сам чувствовал, хотя и виду не подавал, некоторую неловкость после схода перед волостным головой и охотно поддержал его в столь нужном деле. Егор переговорил с состоятельными хозяевами, чтобы временно позаимствовать часть лошадей, и никто не отказал. Более того, передали общине лишние повозки под хлеб, что перевозился для сохранности в лес. Стулов приметил, правда, что лучшие лошади остались в хозяйских конюшнях — они и пригодились, когда с началом боевых действий многие «уважаемые» поспешно укатили под защиту князя Голицына. Еще один упрямец выискался — дед Антип Звонов. Ему уже далеко за шестьдесят перевалило, а в лес, как и Матвей Курин, уходить отказался наотрез. И женщины, и старики, и дети рады были хоть чем-либо пособить в общей борьбе с завоевателями, и такое негасимое пламя ненависти пылало в их сердцах, что и смерть на пороге дома или в бою тем же дедом Антипом воспринималась святым и естественным делом. Потому что за землю родную. Стулов определил деда по кавалерийскому делу — за лошадьми глядеть. Егор подобрал себе с полсотни парней и мужиков, умеющих прилично на лошадиной спине без седла держаться, и на потеху всем, кому была охота смотреть, заставил их осваивать единственный доступный боевой прием — на скаку пронзать воображаемого противника пикой. Будто павловцам предстояла честь сразиться на одном из средневековых рыцарских турниров. А что было делать: ни у одного из кавалеристов до первого боя не было настоящей сабли. Мысль о первом бое тревожила Курина, закрадывалось у него сомнение — не побегут ли мужички, не нюхавшие пороху, при первом же выстреле? Как сражаться, какую линию сражения избрать? И он, не уставая, напутствовал: главное — не мешкать после команды, дружно и смело, за спины не прячась, всем враз ударить внезапно и стойко стоять в схватке. Тот свирепый крик, с которым они обрушились на неприятеля в первой стычке, долго, наверное, еще чудился едва унесшим ноги разведчикам-фуражирам. Слухи о смелых действиях вохненских партизан, не дающих спуску супостату, взбудоражили округу. После сражения в Субботине и особенно расправы, учиненной карателями в сожженном Степурине, отряд за один лишь день вырос почти втрое, Павлово и окрестности гудели многолюдьем, как в дни большой годовой ярмарки. Вновь прибывшие из дальних деревень с жадным интересом расспрашивали о сражениях, и павловские, не считая зазорным прибавлять (дабы воодушевить новичков, оправдывали невольную похвальбу), красочно расписывали подробности боев, упирая на то, что француз, оказывается, если его шугануть по-настоящему, бегает и еще как бегает; хвастались трофеями: кто саблей, кто каской, а кто поудачливее — и ружьецом. В разгар общего веселья загудел колокол. Павловские знали, что набат — сигнал тревоги и немедленного сбора на площади. Пришлые же при первых ударах колокола (у страха глаза, известно, велики) рванулись, увлекая за собой и воинов отряда, в противоположную от площади сторону, под горку к речке Вохне, за которой виднелся спасительный лес, но тут на площадь вылетела конная кавалькада во главе с Куриным, вернувшимся из Покрова от князя Голицына. Партизаны, узнав своего вожака, воспрянули духом и поторопились вернуться к месту сбора, за ними, смущаясь и с опаской посматривая на возбужденного скачкой и, как им показалось, грозного и гневного предводителя Вохни, повернули и новобранцы. На въезде караульные успели сообщить Курину, по какому случаю ударили в набат — деревню Назарово занял сравнительно небольшой отряд фуражиров. Курин почтительно обратился к казачьему уряднику — какое будет его решение? Тот небрежно отозвался: — А что решение? Ударим и сметем. Тут же, однако, выяснилось, что урядник имеет в виду не стремительную кавалерийскую атаку (маловато сил — двадцать покровских казаков), а общий навал. Так и пошли толпой, пешие и конные, благо лесная дорога позволяла подойти скрытно. Самоуверенность воинского начальника смутила Курина, он никаких дополнительных распоряжений не отдал, в итоге простой замысел по простой же причине сорвался. Новички, увидев издали неприятеля, подняли гвалт и побежали к деревне, треснуло с нашей стороны несколько выстрелов ружейных, явно безопасных и бесполезных на таком расстоянии, казаки заторопились было развернуться в атакующую цепь, и всей этой преждевременной суеты было достаточно для того, чтобы французы оценили обстановку, развернули лошадей и ускакали. Урядник, понимая бессмысленность преследования, остановил казаков, однако новички, воодушевленные видом убегающего неприятеля, припустили пуще прежнего, сверкая лаптями и выкрикивая угрозы. В трофеи досталось несколько брошенных повозок с зерном и десять лошадей. Возвращались вновь испеченные партизаны в необычайно приподнятом и воинственном настроении. У Курина потеплело на душе, ибо понимал, что не воинская выучка, которой нет и приобрести которую за несколько дней невозможно, а именно самоотверженность и смелость безоглядная — их главное преимущество над врагом. Этим же вечером в штабе французов в Богородске разговор шел о неприятной обстановке в Вохненской волости. Когда упомянули о самонадеянном плане генерала Мильо — подчинить округу, опираясь на местную агентуру (это Федька-то Толстосумов — агентура!), маршал Ней помрачнел, пробормотал что-то вроде «болван» или «бонвиан» и переменил тему. Да, Вохня или как ее там — неприятная заноза, да ведь свет клином на одной деревне не сошелся. Их первоочередная задача — собрать возможно больше продовольствия и фуража, благополучно переправляя обозы в Москву, блокированную ополченцами, казаками и этими неистовыми мужицкими ордами. И суть не в приказе императора, коему верный маршал Ней готов следовать неукоснительно. Опытный военачальник понимал, что ввиду надвигающейся зимы — вдруг да придется превратить Москву в зимние квартиры? — речь идет о жизни и смерти «великой армии». Среди офицеров распространился слух о том, как интендант Лессепс пожаловался: «У меня нет ни хлеба, ни муки и еще менее куриц и баранов». На что Наполеон вроде бы ответил: «Чем меньше хлеба, тем больше славы». Афоризм интересный, но Ней отлично понимал, что остроумие — слабое подспорье голодному желудку. Даже его закаленные в сражениях воины заметно теряют боевой дух, чему немало самых последних и печальных свидетельств. Та же Вохня или как ее там, черт побери… Изрубили, как новобранцев, боевой фуражирский отряд, придется, как только отправим некоторое количество обозов, проучить все же эту русско-мужицкую гверилью. Однако и партизаны хорошо понимали, что обозы с продовольствием — то же оружие. Что и подтвердили события, разыгравшиеся 29 сентября в деревне Трубицыно. Конники Стулова, что несли дозор в окрестностях Павлова, сообщили: в Трубицыно остановился на короткий отдых отряд французов. Богатую добычу захватили мародеры: рогатый скот и отару овец, повозки набиты продовольствием. Французов — конных и пеших — человек сто или немного больше. К этому времени в партизанском отряде образовалось нечто вроде самодеятельного штаба — Курин, Стулов, Чушкин, Иван Карпов откуда-то из-под Владимира, служивший у Щепетильникова по найму — ему Герасим доверил организовать караульную службу, — Федор Толстосумов и некоторые другие, выделявшиеся организаторскими способностями и сметкой. Они-то и обсуждали в волостной избе полученные от дозорных сведения. Отряд фуражиров, судя по всему, сегодня не угрожал непосредственно волостному селу. Отягощенные добычей, они торопились добраться засветло без приключений в Богородск. — Костры не разводят, задали лошадям корму и скоро, пожалуй, снимутся далее, — доносили дозорные. Курин спросил: как быть? Пропустить? Не ввязываться в сражение? Отряд сильный, неприятель обозлен неудачами, будут сражаться крепко — без кровопролития не обойтись. «Военный совет» высказался едино душно: нападать. Где бы супостат ни появился — везде земля наша, и ему на ней не место — к такому пришли согласному мнению. Подробности предстоящего дела обсуждать было особенно некогда, следовало успеть напасть, пока неприятель не выстроился в боевую походную колонну, поэтому Курин поставил лишь одно, но строгое условие: соблюдать скрытность и тишину при подходе и ударить только по команде. Вышло по задуманному: французы, вновь захваченные врасплох умелыми действиями Курина, сопротивлялись отчаянно, и все же не выстояли перед мощным натиском, побежали. В документальном отчете об итогах боя в Трубицыне сказано так: «Сражение было сильное, и неприятель, видя несоразмерность сил своих… ретировался и преследуемый был несколько верст… Возвратили скот, нам в добычу досталось 16 лошадей, 8 повозок, наполненных хлебом. Неприятелей убито 15 чел., с нашей стороны ранено 4 чел., а убитых не имелось». Среди раненых оказался и Федька Толстосумов. Рана легкая, шальная пуля продырявила оттопыренное ухо, и Федька ярился и страдал не столько из-за боли, сколько из-за того, что ему попортили вид. Как теперь показаться на глаза девушкам, которых он почти уверил, будто от пуль и пик заворожен?.. Над ним хлопотал дед Антип, перевязывая голову чистой тряпицей, а Федька ругался безбожно и все допытывался: — Дед Антип, как думаешь, ухо-то приживется, не отомрет? — Даст бог, приживется, — добродушно успокаивал его Антип, — да рази в ухе краса-то? — Тебе хорошо рассуждать, дед, ты уже открасовался, — скрипел зубами Федька и клялся жестоко отомстить обидчикам. — Как же, отомстим, — соглашался дед. — Я вон всю жизнь красовался лицом к земле, все силы жизни она из меня вытянула, а допустить, чтоб чужаки ее топтали — не допущу. Оставшуюся жизнь хоть щас готов за нее положить. Чудно, а? Об очередной победе Курин немедленно с конным «кульером» отправил сообщение в Покров, и князь Голицын вписал в рапорт к Кутузову сведения о захваченном в Вохненской волости хлебном обозе. В те дни в главной штаб-квартире, а особенно при дворе, каждая весть даже о скромном успехе воспринималась с повышенным вниманием, и князь на рапорты не скупился. Курин распорядился свезти хлеб в общинный схрон — потом, когда война уляжется, разберемся по справедливости. Никто не возражал, только один мужичонка в худом армячишке из дальнего села пожаловался: — Богатство-то какое, а? — говорил он, ласково поглаживая тугие мешки с зерном. — А у нас хлеб что на подати сдали, что миродеры пограбили, ну, подчистую вымели… Сейчас слетье подбираем, да что там от него осталось — ботву, кой-какую репу бабы к похлебке добавляют. Зимой, чай, пропадем… — Кончится война, может, по-другому жизнь пойдет, — сказал без особой уверенности Курин и заторопился на площадь — судя по разноголосому гомону, прибыли новые люди. К вечеру павловские партизаны, обладавшие уже кое-какими организаторскими навыками, сумели объединить прибывших в отряды, разместили в селе и его окрестностях под пологом шатровых сосен. Под командой Курина теперь насчитывалось более пяти тысяч пеших и пятьсот конников Стулова. Армия! Шел шестой день войны против набегавших отрядов Нея. 30 октября разгромили, частью истребив, а остальных обратив в бегство, отряд фуражиров в деревне Насырово. И это была последняя капля, переполнившая чашу терпения командования экспедиционного корпуса. Ней распорядился раздавить гнездо сопротивления, захваченных в плен вожаков поголовно расстрелять, а деревню сровнять с землей. Посланные с утра под Богородск разведчики под руководством Федьки Толстосумова, который после обидного ранения так и пылал желанием глаза в глаза сцепиться с неприятелем, вернулись с известием, которого Курин с тревогой ждал: в сторону Вохни идут войска. По предположениям разведчиков, неприятеля следовало ждать завтра поутру. До поздней ночи Курин находился в деятельных хлопотах, в кои входила, как сказали бы военные, и самая тщательная рекогносцировка на местности. Понятно, слова такого партизанский вожак не знал и слыхом не слыхивал, равно как и дозорные, забираясь для наблюдения на высокие деревья, не подозревали, что именно так поступали в армии Суворова. В итоге «военному совету» был предложен продуманный в деталях план предстоящего сражения, и «все единогласно, — как подчеркивается в „Мемуарах“, — восхваляли его доброе намерение». План Курина исходил из того, что сражение придется принять в самом Вохне-Павлове, имея здесь хорошие возможности как для оборонительных, так и наступательных действий. В самом селе и его окрестностях намечалось укрыть основную часть отряда, которую возглавит сам Курин. Кавалеристам Стулова предстояло продвинуться навстречу неприятелю, уступая ему дорогу, и затаиться в лесу, ожидая сигнала для нападения. Крайний и достаточно надежный рубеж обороны, по замыслу Курина, находился в центре села по речке Вохне. Французам при наступлении пришлось бы спускаться к этой речушке под уклон, вброд ее форсировать, попадая под партизанские пули — предприятие сие виделось партизанскому стратегу трудно осуществимым. И лишь за речкой — на достаточном от нее удалении, за еще одним естественным препятствием — Юдинским оврагом, Курин наметил расположить крупный отряд в тысячу человек под командованием Чушкина, хорошо проявившего себя в предыдущих боях. Такое решение было чисто интуитивным, по принципу «береженого и бог бережет», и во все влезающий Федька Толстосумов не преминул высказать недоумение: — Чего им в таком отдалении в наблюдателях таиться? Без пользы? Впустим злодея в деревню, навалимся всем миром, и тут ему и погибель. Решение вроде бы действительно напрашивалось само собой — всем миром сподручнее, однако Федьку быстро утихомирили, одобрив план Курина. Как отмечается в «Мемуарах», «воины, зная его поступки, смелость и храбрость, что и прежде по его распоряжению везде сражались удачно, и тут сказали, что мы на все согласны». В конечном итоге именно тысяча Ивана Яковлевича Чушкина и решила исход сражения. Рано поутру, собрав своих «соседственных и подведомственных крестьян многочисленное собрание», Курин говорил короткую речь: — Неприятель грозит наше селение предать огню, а нас в плен побрать и с живых кожу поснимать. За то, что мы ему неоднократно упорствовали сражением. Так постараемся, друзья, за отечество и за дом пресвятой богородицы. Первого октября, в праздник покрова божьей матери-заступницы, в церкви служилась божественная литургия. Обычно добродушный и миролюбивый отец Серафим, на сей раз, произнося проповедь, пылал гневом и просил всемогущего бога послать кары антихристу. После общего молебна все простились «друг с другом и приготовились к сражению и… дух имели… ободряемы будучи своим начальником Куриным, и поклялись пред алтарем, чтоб до последней капли крови не выдавать друг друга» («Мемуары»). Наконец во втором часу пополудни вышел из-за леса неприятель. Крайне интересно, что французы примерно по такой же схеме, что и Курин, разворачивали свои боевые порядки, при этом обе стороны хитрили, надеясь заманить противника в гибельную ловушку. Основные силы карателей расположились скрытно в лесном массиве у ближайшей деревни Грибово, и партизаны это сосредоточение просмотрели. Между тем два эскадрона двинулись к Павлову. Немного не доходя до деревни, один остановился на местности, называемой прогон[37], а второй настороженно вошел в село и расположился на площади. Через переводчика стали громко вызывать голову или старосту. Надо было давать команду к бою. И тут Курина подтолкнуло на неожиданное решение то ли безоглядное безрассудство, то ли рисковое озорство. Поколебавшись мгновение, он подозвал двух крестьян, и они как бы мирной делегацией направились к эскадрону. В последнюю секунду к ним присоединился своевольно Панька и очень удачно получилось — присутствие мальчишки, наверное, сразу успокоило неприятеля, тоже затеявшего довольно рискованную игру. — Нет старосты, людей нет, все в лес убежали. Испугались, — сказал, подойдя, Курин. — Зачем бояться, мы не бандиты, — поддержал дипломатический разговор переводчик. — В вашей деревне, мы знаем, люди умные, коммерческие, мы можем предложить выгодные дела. Позовите ваших начальников. «Смелые однако, шельмецы, — подумал Курин, — хотят без хлопот захватить руководителей… Знали бы, что главный стоит перед ними». — А зачем вам начальников? — Мы хотели договориться и торговать. Нам нужно муки, овса, круп и протчего, и за оное будем платить хорошо, сколько вам угодно, русскими деньгами. Наполеон, к слову сказать, тоже распорядился выплачивать солдатам жалованье фальшивыми русскими ассигнациями, отпечатанными еще во Франции в преддверии похода, так что в деньгах фуражиры нужды не испытывали. Герасим, сохраняя приветливость в лице, изобразил крайнюю заинтересованность, поклонился и сказал степенно, подражая приценивающемуся на торгах купчине: — Есть хлеб, и овес, и протчее. Во-он тама, на крестьянском дворе держим общинные запасы. Туда и пойдем. А какая же цена будет? Переводчик оживился: — Посмотрим товар, выйдут ваши начальники, доторгуемся, а потом… как у вас говорят? — и по рукам ударим. — Что ж, ежели так… — согласился Курин и незаметно осмотрелся — не вылез ли кто, не дай бог, на глаза неприятелю? — Что ж, ежели так, идемте в подворье, авось поторгуемся, авось и ударим. Переводчик полопотал что-то своим, напряжение заметно спало, человек пятнадцать-двадцать спешились, звякнув саблями. Пока между французами шли переговоры, Курин успел шепнуть Паньке: «Беги к дяде Егору, скажи, пусть ударит по тем, что на прогоне», — повернулся и ровным спокойным шагом повел французов в западню. Как только кавалеристы завернули в ближайший переулок, их тут же окружили и смяли, по тем, что на площади, прицельно ударили с ружей и стремительно ринулись в рукопашную. Пустынная площадь в мгновение ока заполнилась народом. Какая-то часть кавалеристов все же вырвалась из свалки и поскакала к прогону, где тревожно засуетился второй эскадрон. — Гони злодея, не давай опомниться! — командовал и подбадривал Курин. Он уже был на своей кобылке, в руках окровавленная сабля. Не опоздав и не замешкавшись, ударили по второму эскадрону конники Стулова, довершая разгром. Возбужденные боем и удачей, партизаны буквально на плечах убегавших влетели в Грибово и столкнулись лицом к лицу с главными и довольно многочисленными силами французов. Таков, видимо, был тактический замысел — заманить в ловушку, хотя вряд ли предполагалось пожертвовать почти двумя эскадронами. Вид выстроенного в боевые порядки войска смутил крестьян. Отряд Стулова первым попал под прицельный огонь, несколько человек рухнули замертво. Вновь прогремел залп. Партизаны попятились, повернули, началось бегство. Теперь уже французы бросились в погоню. У речки Вохни, на том заранее намеченном оборонительном рубеже Курину и Стулову, метавшимся верхом среди бегущих, удалось остановить часть отряда, стрелки встретили преследователей редкими, но ощутимыми выстрелами. Однако в открытом бою очень скоро сказалось преимущество регулярных частей перед толпившимися в беспорядке крестьянами. Несколько четких и стремительных маневров на флангах, и французы, не смутясь неширокой Вохней, которую без труда форсировали, почти замкнули кольцо. Назревала неотвратимая и близкая расправа. Стулов сумел собрать вокруг себя не менее двухсот конников, и Герасим, понимая, что промедление — смерть! — приказал: «Егор, айда на прорыв, к Юдинскому вражку. — И уже во всю мощь легких, чтобы его услышало возможно больше партизан, закричал. — На прорыв! К Юдинскому вражку! К Чушкину!» Простая и спасительная команда — куда бежать, сразу привела большинство парализованных страхом людей в чувство, негустые цепи, замыкавшие кольцо окружения, в момент были опрокинуты на узком участке, и началось бегство к оврагу. То ли французы не захотели примириться со столь неожиданно ускользнувшей победой, то ли их привел в ярость вид деревенской площади, усеянной трупами их товарищей, но они, расстраивая ряды, бросились в погоню. Сидевшие в засаде под командой Чушкина партизаны с явным одобрением наблюдали за стремительным бегом своих сотоварищей, поскольку приняли этот маневр не за вынужденное бегство, а за ранее предусмотренный план Курина, и потому в нужный момент с легким сердцем, без боязни всей тысячной массой навалились на подставленный неприятельский фланг, и судьба сражения, как это в подобных случаях и происходит, в одночасье и окончательно была решена. «Мемуарист» резюмирует: «Неприятель нечаянным нашествием Чушкина приведен будучи в беспорядок, обратился в бегство и гнан Куриным, Стуловым и Чушкиным 8 верст и спасен был темнотой ночи от совершенного разбития, скрывшись в лесах… Непобедимый наш герой Герасим Курин при всех сих сражениях удачно командовал везде сам, и он в последнее сражение октября 1-го своеручно отделил голову от плеч одному французской армии офицеру и двоих рядовых пронзил в грудь пикою. Во все сии семь дней легло от его неробкой руки восемь человек, ибо был он вооружен на коне саблею, пикою и двумя пистолетами. С нашей стороны — убито 12 человек, 20 раненых». Ней, получив приказ Наполеона отвести войска к Москве, отступил столь стремительно, что когда после генерального Вохненского сражения отряд Курина следующим днем ворвался в Богородск, то его лихие и вошедшие во вкус партизаны были немало удивлены полным отсутствием неприятеля. Распалившийся Федька Толстосумов носился по улицам и переулкам с криками: «Где супостат, где злодей?», и горячо подбадривал Курина идти прямиком на Москву и по самому Бонапарту ударить. Помимо понятной ненависти к врагу, жгла его и обида за нескладное ранение (ухо сушеным грибом висит) и за страх и унижение, перенесенные в плену. События тех дней отражены в песне, ходившей после войны в округе: А вохненский сотский Чушкин И так далее — слова песенок варьировались, дополнялись невинными преувеличениями, вроде тех захваченных пушек, и другими подробностями — в зависимости от местности, где они исполнялись. Немногое известно о последующей жизни Герасима Курина и его боевых сподвижников. В официальном сообщении о «храбрых и похвальных поступках поселян Московской губернии, ополчившихся единодушно и мужественно целыми селениями против посылаемых от неприятеля для грабежа и зажигательства партий», указывалось, что «упоминаемых в оном начальственных людей высочайше поведено отличить Георгиевским крестом». Среди «упоминаемых в оном» значились Курин и Стулов. Вручали им награды в мае 1813 года в Москве. Тогда же, видимо, выполнен портрет Курина художником-баталистом А. Смирновым. Курину и Стулову было присвоено также звание «почетный гражданин», даваемое купцам первой и второй гильдии, художникам и служащим — не из дворян. К какому из перечисленных сословий их отнесли — неизвестно, во всяком случае ни Курин, ни непутевый и отважный Федор Толстосумов толстосумами не стали. Приезжавший в Павлово историк Михайловский-Данилевский руководствовался, наверное, лучшими побуждениями, собирая на месте по свежим следам материалы от очевидцев и участников событий. Однако тщетно будем искать в его обширном четырехтомном «Описании Отечественной войны 1812 года» подробностей мужественного сражения вохненских крестьян с когортами Нея, как и имен самих крестьян. Из всех героев, вышедших из народа, названа лишь Василиса Кожина — знаменитая старостиха из хутора Горшкова Смоленской губернии. Понимая, что вызовет снисходительную улыбку у главного цензора и читателя — царя, историк с явной иронией пишет о том, что из сельских «амазонок сделалась известнее других, по ожесточению против неприятеля, старостиха Василиса, дородная женщина с длинною французскою саблею, повешенною через плечо поверх французской шинели». Действительно, комичная картинка: дородная женщина с длинной саблей через плечо. Об остальных в «Описании» сказано общо и обезличенно: герои, храбрецы, народ. Тысячи пали безымянными, но и у них, по словам поэта, мертвых и безгласых, одна отрада — что Родина спасена. «Все силы жизни из меня вытянула земля, а допустить, чтобы чужие ее топтали — не допущу», — говорил старый, всю жизнь тяжко работавший крестьянин из отряда Герасима Курина. Вело их на смертный и правый бой, даже таких угнетенных и обездоленных, святое чувство любви к Родине, к земле отцов и дедов. Борис Чубар Примечания:3 Орден Почетного легиона (франц.). 37 Прогон — дорога, по которой прогоняют скот на выгон пли водопой. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
