|
||||
|
|
Египет – Озирис Бегство в Египет I «Се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет». Христианство началось бегством в Египет, и, если христианство не кончено, снова родится Христос в сердцах человеческих, Он снова бежит в Египет. II На рубеже Египта, как вечные вехи, возвестительницы тайны его, стоят пирамиды и Сфинкс. Пирамида, pyramis, по-египетски pir-m-us, значит «исхождение из земли», «восстание мертвых», «воскресение». И заглавие Книги Мертвых – книги египетской по преимуществу – Pir-m-haru, «Исхождение в свет» – из мрака смерти в свет Воскресения. III А египетское имя Сфинкса – Hor-Harmakhitu, «Бог солнца восходящего», или Chepra, «становление» (Werden), «исхождение из небытия в бытие», «Воскресение». Вот почему на краю пустыни, царства смерти, Сфинкс подымает голову, чтобы первому увидеть воскресное солнце. IV Когда Матерь с Младенцем бежала в Египет, то, утружденная дневным путем, не отдыхала ли под сенью пирамид, у подножия Сфинкса? Не чернели ли над Ними, над Младенцем и Матерью, в звездном небе треугольники вечных гробниц? Не улыбался ли Им каменный лик Бога-Зверя? V Incipe, parve Puer, risu cognoscere Matrem! «Мать Свою начни узнавать с первой улыбкой, Младенец!» – вот мессианское пророчество Вергилия. Улыбка Младенца – улыбка Сфинкса: тайна обоих одна. Только и ждал Его весь Египет, только и думал о Нем, о Боге, пришедшем на землю, чтоб умереть и воскреснуть. VI Каждый народ велик тем, что находит. Что нашел Египет? Бога. «Египтяне – благочестивейшие люди», – свидетельствует Геродот. «Почти весь мир научили они поклоняться богам, и мы знаем, что боги обитали и доныне обитают в Египте», – говорит один язычник-эллинист IV века по Р. X. «Наша земля – всего мира святилище», – говорит Гермес Трисмегист. «Святой Египет» – родина Бога, Божья земля. «Столпы религии сложены были в Египте: это выше, вечнее пирамид» (В. Розанов). Здесь, в религии, первая противоположность наша Египту. Он Бога нашел, мы – потеряли; он сложил столпы религии, мы – разрушили; благочестивейший – он, нечестивейшие – мы. VII Если нет Бога, то нет и Египта, и как бы вовсе не было; а если Бог есть, и Бог – все, то есть Египет, и он доныне во всем. В первом случае «самые мудрые из людей» (по Геродоту), египтяне, – сумасшедшие; а во втором сумасшедшие – мы. Но в обоих случаях Египет и мы уничтожаем друг друга и мимо друг друга не можем пройти равнодушно: мы должны возненавидеть или возлюбить Египет, от него или к нему бежать. VIII Накануне нашего великого безбожия в Божью землю вошел величайший из нас: первый вошел в Египет Наполеон, и первый понял, что «сорок веков смотрят на нас с высоты пирамид». Больше, чем сорок, – все века от начала мира. Начало мира смотрит на его конец. IX «Египта никто не видел, и ты вошел в него первым», – говорит В. Розанов, глубочайший религиозный мыслитель нашего времени, тот, кто написал «Апокалипсис наших дней». Апокалипсис – конец мира, а начало – Египет. Чем ближе к концу, тем ближе к началу. В Египте будь… Иди туда за Мной, — услышал таинственный зов русский пророк, написавший «Повесть о конце мира», Вл. Соловьев («Три свидания»). И пророк европейский, Генрих Ибсен, предсказавший «Третье Царство Духа» в конце времен («Кесарь и Галилеянин»), услышал тот же зов. Я буду ждать тебя, как обещала, — поет Сольвейг в избушке, на севере («Пэр Гюнт»). И после этого: «В Египте. На утренней заре. Полузасыпанный песками колосс Мемнона». Пэр Гюнт: «Вот здесь мой путь начать мне будет кстати!» Здесь, в Египте, начинается путь к Третьему Царству в конце времен. Х Апокалипсис предсказывает «тысячелетнее царство святых» на земле, царство мира, конец всех войн в конце времен, а в начале их, в Египте, уже дан прообраз этого царства. От III династии до IV (3300–2400 гг. до Р. X.), в продолжение тысячи лет, мир в Египте не нарушается ничем, кроме немногих походов на полудиких кочевников Синайского полуострова. Если даже столетие римского мира, pax romana, кажется нам чудом неповторяемым, счастьем единственным за память человечества, то какое же чудо тысячелетний мир Египта! XI В одной египетской надгробной стенописи изображена спелая жатва и жнецы с серпами, а рядом надпись: «Вот жатва. Трудящийся кроток». XII Избыток сил, расточаемых другими народами на войны, здесь, в Египте, уходит на мирный труд. И если египтяне «сотворили больше чудес, чем все прочие люди» (Геродот), то все эти чудеса – непревзойденное ваяние, живопись, зодчество, мудрость, и легкость, и крепость жизни – суть чудеса мира. Только под этим безоблачным солнцем мог созреть Египет, плод земли небесно-сладостный. XIII «Кротко было сердце мое и незлобиво, и боги за то даровали мне счастье на земле», – говорит один умерший в надгробной надписи, и это мог бы сказать о себе весь Египет. XIV Первый фараон первой династии, Менес (4000–3500 лет до Р. X.), изменил течение Нила в Верхнем Египте исполинскою плотиною. Она существует доныне (Qosheisch) и доныне распределяет воды Нила, благодетельствуя край. Так, через шесть тысяч лет, люди чувствуют благость Менеса. Имя его забыто, а имена Александров и Цезарей памятны; но что больше – гремящие славы их, или тихая слава Менеса? XV Я умножил пшеницу, возлюбил бога ячменного, вот чем славит себя фараон Аменемхет I (XII династии) и тем же – Рамзес III (XIX): «Я заставил во дни мои пехоту и конницу мирно сидеть по домам; и мечи, и луки в кладовых моих лежали, праздные». А вот слава Амена, древнего областеначальника: «Ни один ребенок не был обижен при мне». Слава эта заглохнет в веках: не поймут ее ни Ахиллес, ни даже «кроткий» царь Давид. Солнце мира закатится в Египте и уже не взойдет до конца времен. XVI В самый канун нашествия страшных азиатских кочевников (Гиксов) фараон Аменемхет III ни о каких войнах не думает и воздвигает дивные здания, орошает пустыни каналами. Гиксы пришли, завоевали и поработили Египет на пять веков. Чтобы освободиться от варваров, Египет принужден начать войну. Но когда после изгнания Гиксов великий завоеватель Тутмес III соединяет в длани царя весь мир, от Голубого Нила до Евфрата (надпись в Карнаке), то эта миродержавная власть Египта остается непрочною. Кажется, сами победители не очень дорожат своими победами: иногда теряют в один год завоевания веков. И при первой возможности Египет забывает о войне, как будто воюет нехотя, презирая втайне войну и питая отвращение к железу, «металлу Сэтову»: Сэт, бог войны, – полудиавол. XVII История учит Египет войне и все не может научить. После воинственных Тутмесов – Аменофисы мирные, после Рамзеса II, египетского Цезаря, – Рамзес III, тот самый, который хвалится праздностью луков и мечей. И новые полчища варваров заливают мирный край: ливийцы, ассирийцы, персы, эфиопляне, эллины, римляне – все терзают святое тело Озирисово. Но Египет до конца верен себе: знает, что лучше войны мир. «Мир лучше войны» – это самое египетское и самое мудрое из всех изречений египетской мудрости. Вот где вторая противоположность наша Египту: мы безбожны и воинственны, он боголюбив и мирен. XVIII И, наконец, третья. Мы живем, движемся в бесконечных пространствах, но век наш короток. Пространство Египта ничтожно – клочок земли, как бы точка, но движущаяся по бесконечной линии времени. Мы – пожиратели пространства, Египет – пожиратель времени. Насколько время глубже, таинственнее пространства, настолько дух Египта – глубже нашего. XIX Египет – «дар Нила» (по Геродоту), узкая полоска необычайно плодородной земли, речного ила, стесненная двумя пустынями с востока и запада. Береговая линия Дельты, лишенная гаваней, на севере, и Нильские пороги на юге – ограждают Египет, как стенами. Эта огражденность, стесненность, суженность, сосредоточенность земли отразилась такими же свойствами на человеческом духе. Единственная в мире земля создала единственных в мире людей. XX Глубокая долина – солнечный угрев, уют – колыбель человечества. «Спуститься» – значит по-египетски «вернуться на родину»: спуститься в долину Нила – лечь в колыбель. XXI Весь мир для египтян – «черная и красная земля» – чернозем и песок пустыни. «Черная земля» – Quemet – название самого Египта. Чернота нильского ила, влажно-блестящая, как живой «Изидин зрачок», и краснота мертвых песков: жизнь и смерть рядом, но не в борениях и бурях внезапных, а в вечном союзе, в вечной тихости. XXII Круговорот земных явлений так же неизменно правилен, как круговорот светил небесных. Из года в год, в один и тот же день, воды Нила начинают расти, постепенно выходят из берегов своих, наводняют поля, сожженные летнею засухою, рождают из смерти жизнь; и в один и тот же день начинают падать, постепенно входят в берега, до нового разлития в новом году. Эти подъемы и падения так ровны и тихи, как дыхание спящего ребенка. На человеческом духе запечатлелась и эта неизменная правильность, тихость и вечность природы. XXIII «Не вечное не истинно», – говорит Гермес Трисмегист. Вечность Египта – вечность истины. XXIV Всякая юность на земле ветшает, увядает. Только Египет, «ветхий деньми», цветет вечною юностью. XXV Священные египетские книги времен эллино-римских повторяют с точностью пирамидные надписи, бесконечно-древнейшие самих пирамид: это похоже на то, как если бы мы повторяли слова даже не Авраама, а допотопных людей. И не только священные книги, обряды, верования, но и мелочи быта, выражение лица, движения тела, звуки голоса остаются почти неизменными. XXVI По Геродоту, «плачевная песнь Манероса», надгробный плач Изиды над Озирисом, воспевается при XXVII династии точно так же как при первой: ни один звук не изменился за три тысячи лет. В священных изображениях бог Амон поднял правую руку с бичом, младенец Гор поднес палец ко рту, наподобие грудных сосущих детей, – и оба замерли так на тысячи лет, неподвижные. Но эта неподвижность – не мертвого тела в гробу, а живого семени в земле, или младенца в утробе матери; неподвижность, тихость лучезарного полдня: совершенная жизнь в совершенной тихости; вечная жизнь в вечной тихости. XXVII «– Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? – Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. – Вы надеетесь дойти до такой минуты? – Да. – Это вряд ли в наше время возможно. В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. – Знаю. Это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль. – Куда же его спрячут? – Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме» (Разговор Ставрогина и Кириллова в «Бесах» Достоевского). XXVIII Вон там, за этим песчаным холмом Хенунзутена-Гераклеополиса, на этой Нильской заводи, из открывающейся чаши голубого лотоса, выходит каждое утро, как в первый день творения, новорожденный младенец, бог солнца, Pa (Ra). И тогда «человек счастлив весь», и «времени больше не надо, время останавливается», и наступает неподвижный миг вечности – «здешняя вечная жизнь». XXIX «Первое и главное впечатление наше от всего египетского – неимоверное молчание» (Spengler). Высшее развитие математики в зодчестве, в проведении каналов, в исчислениях астрономических – и ни одной математической книги; законодательство, которое служит образцом для Римской империи (недаром мечтает Цезарь сделать Александрию столицею мира), – и ни одного законодательного кодекса; бездонная мудрость – и никакой философии. Здесь опять наша противоположность Египту. Во всем египетском отсутствует наша теория, потому что отсутствует наша механика. Все живо, животно, растительно; но растет, живет, дышит – молча. Наши пустые бочки катятся с грохотом, а египетские «воды жизни» безмолвно текут. Наш дом валится с треском, а египетская жатва тихо зреет. Мы, болтая, разрушаем, а Египет молча творит. Вот откуда это «молчание неимоверное», бессловесность, безглагольность Египта. Безглагольна, недвижна Нет, живая. Чем живее, тем безглагольное. XXX Из молитвы Тоту, богу мудрости: «Ты родник в пустыне; ты запечатлен для говорящего, открыт для безмолвного». Из песнопения богу солнца, Амону-Ра: «Шум ненавистен Богу. Люди, молитесь втайне!» Так, в ожидании грядущего Слова, безмолвен Египет. XXXI Египтяне живут во времени; но полет его над ними так неслышен, что они его почти не чувствуют: во времени живут, как в вечности. Вот почему нет у них «истории» в нашем смысле. Самое чувство времени еще не развито, слабо, смутно, как бы притуплено, по сравнению с нашим, столь острым и все заостряющимся к тому последнему острию, когда «времени больше не будет». XXXII Египтяне – как бы еще не совсем родившиеся – «недородившиеся» люди. Души их не совсем воплотились, не окончательно выпали в этот мир из того, во время из вечности. XXXIII Наш исторический лот, опускаясь в глубину египетской древности, не нащупывает дна. Есть ли вообще дно у этой бездны? XXXIV По новейшим исследованиям (Морган, Масперо), пирамидный Египет – не начало, а конец и, может быть, упадок Египта древнейшего, допирамидного. Первое явление Египта в истории уже совершенно, и отчасти даже превосходит все явления позднейшие. Развитие Египта доисторическое, по крайней мере, столь же длительно, как четыре тысячи лет египетской истории. Если так, то не слишком ошибался Платон, уверяя, что египетская живопись и ваяние существовали за 10000 лет до эллинов. XXXV У диких туземцев каменного века в Нильской долине не найдено никакого намека на связь их с древнейшим Египтом (Морган). Между Египтом пирамидным и каменным веком – прерыв. XXXVI Явление Египта внезапно: когда появляется он на горизонте истории, круг его закончен, подобно кругу восходящего светила: за чертой горизонта он тот же, что на небе. XXXVII Внезапность Египта колеблет все наши понятия о непрерывном и постепенном развитии, так называемой «эволюции» человечества. По этим понятиям, мрак позади, впереди – свет, и человечество движется от мрака ко свету; но вот, движение Египта обратное: от какого-то великого света; и чем дальше назад, тем ярче свет, как будто самый источник его позади. Какой же это свет? Откуда? Что там, на дне непостижимой для нас, головокружительно-бездонной древности? XXXVIII Наш лот никогда не нащупает дна; никогда не узнаем мы принудительно, – из обезьяньих ли лап вышел человек, или из Божьих рук? Но чем древнее, тем яснее на нем Божий след. След рая – на лицах египтян. XXXIX «Вы, эллины, – вечные дети! Нет старца в Элладе. Нет у вас никаких преданий, никакой памяти о седой старине», – говорил Солону Афинянину старый саисский жрец («Тимей» Платона). Это беспамятство нового человечества объясняет он всемирными потопами и пожарами, многократно истреблявшими род человеческий; только в Египте их не было, и только здесь сохранилась память о допотопной и доогненной древности. «Был некогда Остров против того пролива, который вы называете Столпы Геркулесовы: земля, по размерам большая, чем Ливия и Малая Азия, вместе взятые. Этот Остров – Атлантида», – сообщает тот же саисский жрец одно из древнейших сказаний Египта. Атланты, жители Острова, были «сынами Божиими» («Критий» Платона). «В те дни были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии (Bene Elohim) стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди», – как бы вторит Бытие Египту (IV, 4). «Когда же божеская природа людей постепенно истощилась, смешиваясь с природой человеческой и, наконец, человеческая совершенно возобладала над божеской, то люди развратились», – продолжает египетский жрец у Платона. – «Мудрые видели, что люди сделались злыми, а не мудрым казалось, что они достигли вершины добродетели и счастья, в то время, как обуяла их безумная жадность к богатствам и могуществу… Тогда Зевс решил наказать развращенное племя людей» («Критий»). «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле… и воскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков», – опять вторит Бытие Египту (VI, 5–7). Конец обоих преданий один. Египетский бог Атум говорит: «Я разрушу, что создал: потоплю землю, и земля снова будет водою». – «Воды потопа пришли на землю… и лишалась жизни всякая плоть» (Быт. VI, 10–21). – «Произошли великие землетрясения, потопы, и в один день, в одну ночь… остров Атлантида исчез в пучине морской» («Тимей»). XL «Атланты распространили владычество свое до пределов Египта», – сообщает Платон («Критий»). А по Геродоту (II, 181): «Был путь из Фив к Столпам Геркулесовым» – к Атлантиде. Так в этом древнейшем сказании, может быть, первом лепете человечества, начало нашего мира связано с концом каких-то иных миров. И связь между концом и началом – Египет. XLI Если в сказании об Атлантиде нет никакого зерна внешней исторической истины, то зерно истины религиозной, внутренней, в нем все-таки есть: языческая эсхатология начала мира, столь противоположно-подобная христианской эсхатологии конца – Апокалипсису. XLII Свет Атлантиды, вот что на дне головокружительно-бездонной Египетской древности – вечности. XLIII Что такое Атлантида? Предание или пророчество? Была ли она или будет? Атланты – «сыны Божии», или, как мы теперь сказали бы, «человекобоги». «Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости – и явится Человекобог» (Иван Карамазов у Достоевского). О ком это сказано? О них или о нас? Не такие же ли и мы – обреченные, обуянные безумною гордыней и жаждою могущества, сыны Божии, на Бога восставшие? И не ждет ли нас тот же конец? XLIV Так, медленно склоняясь и хладея, К началу и концу, ибо конец времен совпадает с началом в замыкающемся круге вечности. XLV Вот почему: «Египта никто не видел, и ты вошел в него первым». Первым из нас вошел в Египет тот, кто ближе всех к Апокалипсису. XLVI И вот почему так двойственно впечатление наше от Египта: бесконечная древность – новизна бесконечная. XLVII Мемфис и Гелиополь ближе к будущему, «апокалипсичнее» всех наших современных городов. Каменные иглы обелисков на площадях Константинополя, Рима, Парижа и Лондона – вечные вехи на пути человечества от Атлантиды к Апокалипсису. XLVIII Когда в самые черные дни большевистского ужаса, в декабре 1918 года, в нетопленых залах петербургской публичной библиотеки, где замерзали чернила в чернильницах, я просматривал египетские рисунки в огромных томах Бонапартовой Экспедиции, Шамполлиона и Лепсиуса, я ничего не понял бы в них, если бы тут же, рядом со мной, не совершался «Апокалипсис наших дней». XLIX Помню, в детстве, под зелено-прозрачным небом морозного дня, над мглисто-белою далью Невы, опушенные тонким инеем, розово-гранитные лики Сфинксов. С какою жадностью я вглядывался в них! Как хотелось мне знать, что они думают! И теперь хочется знать, что думают они о том, что сейчас вокруг них происходит. Не прозревают ли каменные очи их дальше всех живых очей в тайну грядущего? L Конец Атлантиды, начало Египта – конец первого мира, начало второго; Апокалипсис – конец второго мира, начало третьего, ибо в трех мирах тайна Трех совершается. LI Египет – единственный путь к Тайне Трех, это мы поняли. Вот что значит бегство наше в Египет. Небесная радость земли I «Бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?.. Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: „Да, это правда, это хорошо“. Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, – о, тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно, и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В пять секунд я проживаю жизнь и за них отдал бы жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически» (Кириллов, в «Бесах» Достоевского). Ни Кириллов, ни сам Достоевский не подозревают, конечно, что здесь прикасаются к сокровеннейшей тайне Египта. «Бесноватый» Кириллов находится в средоточии того вертящегося смерча, из которого выйдет русская и, может быть, всемирная революция «Апокалипсис наших дней», «конец мира». Только через этот конец мы постигаем начало мира, через эту бурю «бесов» – божественную тихость Египта. II В суточном богослужении, совершаемом в каждом египетском храме и разделенном, подобно нашим церковным службам, на «часы», в первый час ночи, жрец, читающий молитвы над мертвыми, кропит «живой водой из Нуна, небесного Нила, Океана первичного», тело умершего бога, Озирисову мумию, возжигает фимиам, кадит и произносит четырежды: «Небо с землей соединяется!» Великая плакальщица (четырежды). На земле радость небесная. Жрец. Бог грядет. Славьте! Великая плакальщица (ударяя в тимпан). На земле радость небесная! В этих словах – весь Египет, потому что он весь небесная радость земли, «минута вечной гармонии». III «Чтобы вынести больше, чем пять секунд этой радости, надо перемениться физически». По сравнению с Египтом мы физически переменились, но в обратном смысле: мы выносим эту радость пять секунд, а Египет – пять тысячелетий; мы покупаем ее страшной ценою – неимоверным усилием, безумием, самоистязанием, подвигом, святостью, или, подобно Кириллову, «бесноватостью», а Египет получил ее даром, пришел с нею в мир. IV Гомер тоже радуется жизни земной, но как скорбна радость его, как смертна, по сравнению с египетской, больше, чем бессмертною, воскресною! 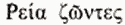 , «легко живущие» боги Гомера как тяжки, по сравнению с египетскою легкостью! Те боги только бессмертны, а эти люди побеждают смерть – воскресают. V Траурный цвет египтян голубой: цвет смерти – цвет неба. VI Надо вглядеться в надгробную живопись и ваяние в Саккара, Бэни-Гассане, Бибан-эль-Молуке, Тэль-эль-Амарне, чтобы не понять – понять мы не можем, – а только увидеть и измерить мерою скорби нашей эту воскресную, небесную радость земли. VII «Да будет гробница моя чертогом пиршественным», – говорит умерший в надгробной надписи. И, действительно, он изображается как бы в вечном пиршестве, точно таким, как был при жизни, но в счастливейшей поре ее: увенчанный цветами, умащенный благовониями, восседает он за жертвенной трапезой, обнимает жену свою, смотрит с любовью на детей своих, играющих. Или в жаркий полдень, сидя в креслах с босыми ногами на коврике, удит рыбу в садовой сажалке, с водяными цветами и травами, под тенью густых сикомор, где «сладостно дыхание северного ветра ноздрям его». Или охотится в легком челноке, в папирусных чащах нильских заводей, где тучами носятся стаи диких уток, гусей, цапель, ибисов и на согнутых ветром, спутанных стеблях папируса зыблются птичьи гнезда с яйцами и хищный зверек, ихневмон, крадется к ним, а матка над гнездами порхает, стараясь отогнать хищника криком и хлопаньем крыльев. VIII Строго-величаво все в этом надгробном искусстве. Но есть и забавное, как в детских картинках. Вот, в торжественном шествии перед царем-победителем, нубийские пленники ведут редких животных; обезьянка-шалунья вскочила на тонкую, длинную шею жирафа и взлезает по ней, как по стволу дерева; жираф удивлен, но не испуган; а толстогубый негритенок оглянулся на нее, смотрит тоже с удивлением; и кажется, всем троим весело. Вот во время охоты на диких туров и львов маленький ежик с хитрой мордочкой, тоже охотник, спрятавшись за куст, спокойно лакомится пойманной ящерицей. Так же спокойно важная лягушка с круглыми глазами, сидя в глубокой чаше распустившегося лотоса, смотрит на веселую драку лодочников, старающихся веслами столкнуть друг друга в воду. Вот стадо переходит реку вброд; пастух несет на плечах сосунка-теленочка, пегого, успокаивая голосом тревожно мычащую матку, а другому сосунку, белому, навесил на шею цветок голубого лотоса вместо колокольчика. А вот маленький мальчик сосет вымя коровы, отняв его у теленка; тот жалобно мычит; корова обернула голову к нему и лижет его, утешает: не надо жалеть молока – обоим хватит. IX Так с человеком вся тварь земная участвует в этой воскресной, небесной радости земли: чем земнее, тем небеснее. Х И все – родное, милое, как в детстве незапамятном. Смерть – возвращение на родину: всякий «умерший возвращается в ту землю, где боги были детьми; там и ты родился, там вырос и ты, и там же, здрав и невредим, состаришься». XI Вот смешной лягушон, с неуклюже растопыренными лапками, прыгает, словно падает, с берега в воду: не такого же ли точно видел я в детстве, в пруду на Елагином острове, под Петербургом, где родился? Вот простая, полевая, желтая, как будто русская, бабочка. Вот кузнечик серенький с торчащей изо рта зеленой былинкою: должно быть, ел и не доел – задремал на утреннем солнце. Вот, на цветущей ветке акации, нахохлившийся, в утренней свежести, птенчик. Вот грубо-пестрая, в грубо-зеленой воде, утка, точно деревянная, игрушечная: кажется, свежим лаком и клеем пахнет от нее, как от новых игрушек в детстве; а все-таки живая: сейчас закрякает. А вот и другие птицы, летящие: в них та же грубость, деревянность, игрушечность вместе с тонкостью, духовностью, как бы певучестью, красок; кажется, слышишь пение, щебетание птиц, ярко-весеннее. XII Все вообще растения и животные изображаются с таким «натурализмом», что современные естествоиспытатели легко определяют породу каждого. Но египетский натурализм не наш. «Все что у вас, есть и у нас», – открывает у Достоевского черт Ивану Карамазову тайну загробного мира, но открывает не совсем. В том мире – то же, что в этом; но то да не то, или так да не так – и в иной категории, в ином измерении, в свете ином. Вот почему мерцает в искусстве Египта нездешний, таинственный луч того света на всем: все сквозь смерть; этот мир сквозь тот. «Натурально» и необычайно до ужаса, до того, что надо перемениться физически, чтобы выдержать больше, чем пять секунд этого радостного ужаса. XIII «Если не обратитесь и не станете, как дети»… Но египтянам и «обращаться» не надо. «В сиянии младенца есть ноуменальная святость, как бы влага потустороннего света, еще не сбежавшая с ресниц его» (В. Розанов). Вот эта-то влажная, как бы сквозь слезы радости, улыбка – на всем египетском. Ни плача, ни смеха, а только улыбка – след рая. XIV Может быть, в искусстве Египта для нас всего удивительнее ежесекундное и тысячелетнее внимание, любопытство неутолимое все к одному и тому же: ползущий навозный жук, Скарабей; вздувшееся от яда горло очковой змеи, Урея; распускающийся лотос; раскинутые крылья парящего сокола – образы эти, повторяясь бесчисленно в иероглифах, живописи, ваянии, зодчестве, остаются вечно новыми. Наш глаз, если смотрит слишком долго, перестает видеть, утомляется; глаз египтян неутомим, ненасытим: чем дольше смотрит, тем больше видит. Человек всему удивляется, как в первый день творения; говорит всему, как Бог: «Да, это правда, это хорошо». XV В живописи и ваянии, на стенах Тэль-эль-Амарнских гробниц, бог Атон, Круг Солнца, простирает с неба к земле прямые, тонкие, длинные лучи, и каждый луч кончается детскою ручкою. Ручки ласкают голое тело фараона Ахетатона Уаэнра, «Сына Солнца Единородного», и царицы, супруги его, и шести дочерей; или, даруя ноздрям их дыхания жизни, держат маленькие, с рукоятью, крестики животворящие, ankh. На одном изваянии детские пальчики нежно прильнули к стану царя, между чревом и персями; на другом, еще нежнее, обняли тело царицы, под правым сосцом, и голову, сзади, у затылка, и спину. В этих солнечных ручках-лучиках – теплота весенняя, материнская ласковость. И недаром именно здесь, в гробах, изображается солнце животворящее. Тайна солнца – любовь, тайна любви – воскресение: вот глубочайшая мысль Египта. XVI Солнце, сердце мира, благостно; теплота его – благость, свет его – прелесть; прелесть и благость в солнце, в сердце мира – одно. XVII Эти два понятия, столь для нас различные, на языке египтян выражаются одним словом: nofert, «прелесть-благость», и в письме, одним иероглифом: «лютня» —  Существо мира – nofert, музыка, лад, вечная гармония – «прелесть-благость» вечная. XVIII Один излюбленный образ повторяется в египетском искусстве особенно часто: девочка-подросток, лет тринадцати, плясунья-певица, с лютнею, nofert; худенькое, гибкое, как стебель водяного цветка, смугло-янтарное тело, смугло-розовые кончики острых сосцов, полудетских, полудевичьих, вся нагота прозрачно сквозит сквозь струйчатые складки тончайшего «царского льна», «тканого воздуха». Лицо дико-стыдливо и задумчиво, нет улыбки на губах невинно-сомкнутых, но вся она – улыбка божественной прелести-благости. Сладкая, сладка ты для любви.((Надгробная надпись)) XIX В гранитном саркофаге Аменофиса II найдена веточка мимозы на сердце усопшего: нежные листики-перушки «не-тронь-меня» должны ответить трепетом на трепет воскресающего сердца. Вот что значит египетская прелесть-благость; вот в чем тайна египетской «магии». Ибо что такое магия вечная, неложная, как не одоление закона естества – смерти – иным законом, высшим, сверхъестественным, – любовью воскрешающей? XX «Он любил несчастного и тихо с ним говорил, пока слезы не переставали сжимать горло его. Он старался быть улыбкой плачущих», – сказано в одной египетской надгробной надписи. О, воистину, тот умерший, о ком это сказано, «не увидит смерти вовек», по слову Господа! XXI Нет, не тщетной была египетская магия. Воскрешение мертвых здесь, в Египте, в самом деле, начато. То, что мы знаем, видим воочию, египетскую жизнь времен домоисеевых, лучше, чем жизнь наших предков, за триста – четыреста лет, не похоже ли на чудо «воскрешения»? Когда ученые, производившие раскопки в 1891 году, в Деир-эль-Бахари, около Фив, нашли нетленные тела Тутмесов, Рамзесов, Аменофисов, – «мне случалось распеленывать мумии: тело их было почти мягко» (Масперо), – то это было так похоже на чудо, что сначала никто не поверил. На песке гробниц иногда сохраняется след, оставленный ногою последнего человека, покинувшего гробницу за четыре-пять тысяч лет. В могиле Изинкебы, царицы XX династии, найдены плоды похоронной тризны, такие свежие, что виден был след прикасавшихся пальцев, на мякоти фиников. А в другой гробнице пчела запуталась в вязи цветов, обвивавших тело умершего; цветы едва потеряли весенние краски, и пчела сохранилась, почти нетленная, только со сломанным кончиком одного из крылышек. XXII Еще в другой усыпальнице, в Долине Царей, Бибан-эль-Молуке, у Фив, найден сосуд с медом почти жидким, благоухающим. Когда сняли крышку с сосуда, то залетела в гробницу оса, привлеченная медовым запахом, и жадно зажужжала над горлышком; надо было отогнать ее платком, чтобы не полакомилась медом, собранным пчелами с цветов Фиваидских долин, за три тысячи лет. XXIII «С египетских рисунков каплет мед» (В. Розанов). Сладкая, сладка ты для любви… Мед каплет со всего Египта, сладчайший мед Воскресения. XXIV «Ваятели», «художники», по-египетски seenech, «оживители», «воскресители». XXV Их слава – не наша. Величайшие создания, только что родившись, выйдя на свет, погружаются во тьму гробов: потухают краски, исчезают облики во тьме, и уже не наше солнце озарит их, увидят не очи живых. XXVI Нашей красоты самодовлеющей, «искусства для искусства» не знают египтяне. Не красоты ищут они, а большего, и красоту находят попутно. «Ищите царствия Божьего, и прочее приложится вам». Этого они еще не слышали, но уже исполнили. XXVII Искусство их больше, чем искусство, и даже больше, чем жизнь: источник жизни – религия. Это – самое религиозное из всех искусств. XXVIII Чтобы это понять, стоит только сравнить его с искусством эллинским. Эллины начали тоже не с красоты, а с бoльшего; но когда изменили большему, то и красоту потеряли. Эстетизм-атеизм эллино-римский опустошил искусство и доныне опустошает. XXIX Безбожным и смертным, смерть утверждающим, было возрождение эллино-римской древности, духовное начало современной Европы; возрождение древности египетской, если только суждено ему совершиться, будет религиозным и воскресным. XXX У каждого человека есть то, что у египтян называется Ка и для чего у нас нет слова: то ли «двойник», то ли платоновское 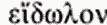 «образ-видение», то ли «душевное тело» апостола Павла, или «астральное тело» наших современных оккультистов. Пока человек жив, невидимое Ка следует за ним неотступно, как тень; а когда он умирает, оно отрывается от него насильственно, мучительно; тоскуя, блуждает в пространствах, хочет вернуться, ищет его и не находит; а когда найдет, то «тело душевное» снова соединится с физическим, и человек воскреснет. Надо помочь Ка в этих поисках, навести его на след. Это и делают изображения умершего в надгробной стенописи и ваянии. Сходство с изображаемым должно быть самым точным, портретным, но не внешним, а внутренним, отражающим все, что в человеке особенно, неповторимо, незаменимо, единственно, лично, и потому вечно, достойно вечности – воскрешаемо. Этим-то сходством, как бы божественным запахом личности, привлекается Ка, «астральное тело» к телу физическому, как та залетевшая в гробницу оса привлечена была медовым запахом. XXXI И не только у человека, но и у всей твари, – животных, растений, даже бездушных предметов, одушевляемых человеческой близостью, как бы надышанных, напитанных запахом человеческой личности, – есть Ка, «астральное тело» и лицо. Все эти лица должны быть изображены с такою же портретною точностью, как лицо человека, для того, чтобы вместе с ним воскреснуть. И все они, эти нечеловеческие лица и личики, как малые цветы великого луга, заманивают Ка к тому последнему божественному цветку человеческой личности, который расцветет под солнцем Воскресения. XXXII Так все искусство Египта пронизано единой волею воскресною; все оно – уже не искусство, не созерцание, а делание, величайшее из человеческих деланий – «воскрешение мертвых», подлинная «магия», животворящее солнце божественной «прелести-благости». Для того-то и сходит искусство во тьму гробов, чтобы там, во тьме, зажечь это солнце. XXXIII Вот почему египтяне первые создали портрет, увидели и поняли лицо человека. Сфинкс, может быть, древнее пирамид. Если так, то это вообще древнейшее из всех созданий человеческих. В лице Сфинкса – первое явление человеческого лица; и уже в этом первом явлении, так же как в последнем, окончательном, в лице Сына человеческого, исполненная Тайна Трех, тайна Воскресения, связана с тайною Личности, тайною Одного. Как же не сказать, что египтяне уже знали все и что источник знания – свет – для них позади? XXXIV «– Ты – художник? – Художник. – Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно, как живой?» Художник начинает писать, и портрет выходит, «как живой»; особенно живы глаза. Но, по мере того как они оживают, в душе его рождается «такое страшное отвращение, такая непонятная тяжесть… что он наконец бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать… Надобно было видеть, как изменился при этих словах страшный ростовщик» (заказчик портрета). Он упал ему в ноги и «молил кончить портрет, говоря, что от этого зависит судьба его и существование в мире; что уже он тронул своею кистью его живые черты; что, если он передаст их верно, жизнь с сверхъестественною силою удержится в портрете; что ему нужно присутствовать в мире». Художник «почувствовал ужас от таких слов: они показались ему до того странны и страшны, что он бросил и кисть и палитру и бросился опрометью вон из комнаты» («Портрет» Гоголя). XXXV Каждый раз, как я смотрю на глаза Рахотепа, чье надгробное изваяние найдено в Медуме, в Нижнем Египте, и хранится в Каирском музее («Рахотеп и Ноферта»), мне вспоминается «Портрет» Гоголя. Лучше, чем его словами, нельзя передать впечатление от этих глаз. «Невыносимые, страшные глаза». «Это были живые, это были человеческие глаза. Казалось, как будто они вырезаны из живого человека и вставлены сюда», – в полотно портрета или в камень изваяния. «Глядит! Глядит!» – хочется вскрикнуть и попятиться, как та женщина из уличной толпы, которая нечаянно увидела портрет, или тот приятель художника, который испытал на себе заключенную в портрете «нечистую силу»: «Ну, брат, состряпал ты черта!» XXXVI Вся разница в том, что у Гоголя – черт, нечистая сила, черная магия; а здесь, в Египте, – Бог, сила святая, магия белая. И Гоголь только мечтает о том, что может быть; а в Египте это, действительно, было – было, есть и будет, если был, есть и будет Воскресший Человек, Христос. XXXVII Рахотеп – современник царя Снофру, IV династии (около 3000 лет до Р. Х.), а наследник Снофру, Хеопс (Chufu), построил большую пирамиду Гизехскую. Кажется, в глазах Рахотепа – та нечеловеческая сила, которая воздвигла это величайшее строение на земле. XXXVIII Пирамида Хеопса – два миллиона триста тысяч каменных глыб, по две с половиною тонны каждая, величайшая тяжесть, когда-либо вознесенная руками человека, и легкая веточка мимозы на сердце усопшего: одна и та же сила – воля к воскресению – и в этой тяжести, и в этой легкости. XXXIX «Я не буду описывать, потому что одно из двух: или слова мои не выразят и тысячной доли того, что нужно сказать; или же, если бы я дал только самый бледный и слабый очерк, меня сочли бы за человека восторженного, может быть, даже за сумасшедшего. Одно скажу: эти люди строили, как исполины в сто локтей ростом». Это говорит Шамполлион обо всем египетском зодчестве, и это же можно бы сказать о пирамидах, в особенности. XL Лучше всего говорит о них Филон Византийский, в книге «О семи чудесах мира»: «Люди по ним восходили к богам, и боги нисходили к людям». XLI Геродот (II, 125) сообщает о пирамиде Хеопса: «Строилась она уступами. Камни подымались на первый уступ, посредством машины, слаженной из коротких деревянных звеньев; камень, поднятый на первый уступ, вкладывался во вторую машину и оттуда подымался на второй уступ; со второго – на третий, и так далее. Подъемных машин было столько же, сколько уступов». А по Диодору, камни вскатывались по земляным насыпям на деревянных полозьях. Такова первобытная техника пирамидного зодчества, но, несмотря на эту первобытность, оно никогда и нигде, ни даже в самом Египте, не было превзойдено. В зодчестве этом такое величие и такая простота, как в созданиях природы. «Почти невероятно, что подобный замысел мог быть исполнен» (Э. Мейер). «Это сон исполинского величия, осуществленный только раз на земле, неповторяемый» (А. Морэ). «Даже при нашей современной технике было бы трудноисполнимой задачей построить, как это сделали египетские зодчие IV династии, в толще каменных громад, подобных пирамидам, внутренние горницы, ходы и переходы, которые, несмотря на давление миллионов пудов, сохраняют, после шестидесяти веков, всю свою первоначальную правильность и не покривились ни в одной точке» (Ленорман). В усыпальнице Хеопса, несмотря на тысячелетия и землетрясения, колебавшие громаду пирамиды, ни один камень ни на один волос не сдвинулся. Прочнее никто не строил и, вероятно, никогда уже не построит. Это – самое вечное из всего, что создано людьми на земле. XLII Исполинские глыбы гранита сплочены так, что нельзя между ними просунуть иголку, и, отполированные до зеркальной гладкости, грани их подобны граням совершенного кристалла. XLIII Средняя ошибка в кладке камней равняется одной десятитысячной, по отношению к математически точной длине, квадрату и горизонтальности. Кладка столь совершенна, и глыбы в несколько десятков тысяч пудов сложены так, что наибольшие промежутки между ними равняются одной десятитысячной дюйма, образуя грани и плоскости, «не уступающие работе современного оптика» (Flinders-Petrie). Это – совершенство даже не кристалла, а живой ткани органической. XLIV Цари-пирамидостроители – «жестокие тираны», заставлявшие народ воздвигать бесполезные гробницы, памятники царской гордыни своей: по тому, что Геродот верит этой сказке, видно, до чего потерян уже эллинами ключ к египетской древности. Нет, не жестокие тираны эти цари, а освободители человечества от рабства тягчайшего – смерти, победоносные вожди к Воскресению. XLV Если вообще оказалось возможным такое небывалое напряжение и сосредоточение духовно-физической силы целого народа, как пирамидное зодчество, то только потому, что здесь воля одного совпала с волею всех. И не в рабском унынии трудились эти 100000 человек в продолжение 20 лет над великой пирамидой Хеопса (Геродот), а в опьяняющей радости, в исступлении мудро-безумном, как бы в вечном восторге молитвенном. Не стенание жертв из-под камней этих слышится, а победный крик человечества, впервые увидевшего путь, прорезанный в небо острием пирамид. XLVI Как ни совершенна механика пирамидного зодчества, скрытая в ней метафизика еще совершеннее. Что такое пирамида? Безмысленная груда камней? Нет, даже геометрическое тело ее не так просто, как это кажется. Тут простота – упрощение сложности. Простое тело пирамиды найдено не сразу, а после долгих, может быть, тысячелетних, поисков, через промежуточные тела пирамид ступенчатых. Совершенные треугольники, возносясь от земли, соединяются в одной точке неба. «Я начал быть, как Бог единый, но три Бога были во Мне», – говорит Бог Нун в древней египетской книге, почти с такою же точностью, как символ Никейского собора. Бог един в Себе и троичен в мире. Бог и мир – Единица и Троица: 1+3=4. Не знаменует ли пирамидное зодчество – соединение четырех треугольников в одной точке – эту трансцендентную динамику божественных чисел? И пусть для самого Египта она еще темна и сокровенна, как малое семя в земле; но, воистину, вырос он весь, как пирамида, из этого малого семени. XLVII От начала мира до наших дней и, может быть, до конца времен, каждое утро, на песчаной равнине Гизеха, на розово-пепельной дали выжженных, с голыми ребрами. Ливийских и Мокаттамских гор, в лучах восходящего солнца, рдея, как бы изнутри освещенные, кристаллы пирамид возвещают людям единственный путь к Воскресению – Тайну Трех, Пресвятую Троицу. XLVIII В древнейших пирамидах почти нет иероглифных надписей; сама пирамида – исполинский иероглиф: Pir-mharu, «исхождение в свет», «Воскресение». Но затем всюду появляются надписи, на стенах и столпах святилищ, на пилонах, обелисках, изваяниях, в высоте, на скалах и под землею, в гробах: весь Египет – один бесконечно развивающийся свиток с иероглифами. Вся живопись – иероглиф, и все иероглифы – живопись. Люди, растения, животные, звезды – все явления природы – письмена, начертанные Божьим перстом, вещие знаки, знамения. Для нас они уже темны. Мы не понимаем и, может быть, никогда не поймем, что значат эти, подобные бреду, чудовищные сплетения человеческих тел с телами животных – четвероногих, насекомых, птиц, пресмыкающихся; но они понятны египтянам: все всему отвечает, все во все переливается, все сквозь все просвечивает. Мир тускл, как булыжник, для нас; а для них прозрачен, как драгоценный камень. Вот почему пламенеют с такою волшебною яркостью самоцветные тела египетских богов – сапфирно-голубые, корналиново-алые, топазово-желтые, изумрудно-зеленые. XLIX Помимо формы, само вещество упоительно. От глубочайшей, додинастической древности дошли до нас сосуды совершенной прелести, из твердейших каменных пород – диорита, сиенита, порфира, обсидиана, базальта, горного хрусталя, – просверленные без помощи железа, простыми деревянными сверлами с увлажненным порошком кварца или песком. В гранитных колоссах тонкость и нежность камей. В каждой мелочи такое совершенство, что кажется, художник работал под лупой. Овладение веществом небывалое. Проникновение в тайну вещества религиозное. L Живое тело для нас – мертвая материя; а для них мертвая материя – живое тело. Дух и вещество взаимнопроницаемы. Сфинкс вырублен в скале: камень переходит в животное, животное – в человека, человек – в Бога. «Почему материя не достойна природы божественной?» – недоумевает Спиноза. Никто не ответил на это недоумение, кроме Египта. LI Стены храма, от внешних притворов к внутреннему святилищу, постепенно сдвигаются, потолок нависает, тени сгущаются до совершенного мрака во Святом Святых, Sechem, где обитает Бог. «Слава тебе, Боже, во мраке живущий!» – воспевается бог солнца, Ра. И на горе Синае, Моисей «вступил во мрак, где Бог». О том, что Бог обитает во мраке, не узнал ли он от учителей своих египетских? Там, во Святом Святых, в маленькой часовенке из огромной цельной глыбы гранита, в вечном сумраке, в таинственном свете лампад, в дыму благовонных курений, шевелится священное животное – живое сердце храма. LII «Почему египтяне поклонялись животным? Если бы я об этом сказал, то коснулся бы предметов божественных, говорить о коих больше всего избегаю» (Herod., II, 65). Да, именно здесь, в поклонении животным, мы прикасаемся к неизреченной тайне Египта. Немой глагол Сфинкса, глагол всего Египта, доселе никем не услышанный: «Ищи Бога в Животном» (В. Розанов). LIII Не святым и страшным, а только смешным и отвратительным кажется эллино-римской древности, так же как и нашей европейской современности, лицо Египта, обращенное к Богу-Животному. «Средоточие храма – не бог, а… кошка, крокодил, козел, бык или пес», – смеется Лукиан, самозатский насмешник, тот самый, который с такою же легкостью посмеялся и над «Распятым Софистом». И св. Климент Александрийский вторит Лукиану безбожнику: «Внутреннее святилище египетских храмов завешано золотыми завесами, а когда мы ищем бога, жрец подходит с важностью, воспевая песнь; приподымает завесу, как бы желая показать божество, и возбуждает в нас великий смех, ибо мы видим не божество, а кошку, крокодила, змею или иного мерзостного гада. Египетский бог является зверем, валяющимся на пурпуре». LIV К «великому смеху» мы уже не способны; мы только усмехаемся брезгливо, глядя на тщательно спеленутые мумии кошек или крокодильих детенышей, на маленькие кладбища мух-кантарид и навозных жуков. Кто эти зверепоклонники – дикари, дети или сумасшедшие? LV Но вот, уже не смех, а ужас. «Случилось в области той (Мендесской) такое диво при мне: с женщиной козел всенародно смесился, и это стало всем ведомо», – сообщает Геродот (II, 46). Один из лучших знатоков второй книги Геродотовой, посвященной Египту, немецкий египтолог Видеманн полагает возможным и вероятным священное скотоложество в Египте: по смыслу обряда женщина совокупляется, конечно, с богом, а не с животным. Мендесский козел или овен, Banibdiduit, сокращенно Bindidi, есть «живая душа» бога солнца Ра, или бога мертвых, Озириса. «Банибдидуит – великий бог, жизнь Солнца, юных жен оплодотворяющий, источник силы мужской у богов и людей», – гласит мендесская надпись. LVI «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом», – возвещает Моисей во Второзаконии (XVII, 21), и в Числах (XVIII, 23–27): «Женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним… говорит Господь… Всем этим осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас… И осквернилась земля… и свергнула с себя людей, живущих на ней». Это сказано тотчас по Исходе из Египта, и уж конечно, Моисей не заклинал бы народа Божьего такою грозною клятвою из огня Синая, если бы не знал, какой для народа соблазн в этих неимоверных тайнах Египта. Во всяком случае, Моисей не смеется, подобно Лукиану безбожнику, св. Клименту и нам. LVII Нет, нам будет не до смеха, если мы только представим себе этот ужас воочию. Вот она, юная жрица Мендесского бога, может быть, та самая девочка-подросток, лет тринадцати: «птица аравийская, миррой умащенная», тонкий стебель водяного цветка, янтарно-смуглое тело, розово-смуглые кончики острых сосцов, полудетских, полудевичьих; вся нагота ее – одна улыбка божественной «прелести-благости»: Сладкая, сладка ты для любви. И рядом – чудовищный козел или овен, сладострастно-смрадный Биндиди, – не черный ли Ночной Козел, Hyrcus Nocturnus, средневекового шабаша ведьм? Этого почти нельзя вынести. И как могла Пречистая Матерь с Младенцем бежать в такую землю? Не проклясть ли нам Египта? не бежать ли из него вместе с Израилем? LVIII Это, впрочем, мы уже сделали: бежали из Египта, от нечистой животности, в пустыню «чистого разума», где и блуждаем доныне вместе с Израилем. Чистый разум Декарта не соблазняется никакою животностью: для него сами животные – только «машины», «автоматы». И можно сказать, что весь наш век – век чистого разума и чистой механики – родился от этой Декартовой машины. Вейнингер, иудей-христианин, идет еще дальше Декарта. По Вейнингеру, женщине «бытие метафизическое присуще так же мало», как животным и растениям. Так, вся живая тварь уничтожена обезумевшим разумом, огнем попаляющим иудеохристианской пустыни, «умным и страшным Духом небытия». LIX Во всяком случае, перед Египтом нам гордиться нечем: мы сумели соединить наш чистый разум с нечистою животностью. Правда, священного скотоложества нет у нас; но каждую ночь, когда загораются бесчисленные огни проституции в наших больших городах, мы приносим в жертву все ту же невинную девочку тому же смрадному козлу Биндиди, только в человеческом образе. LX Мы забыли окончательно многоочитную плоть Иезекиилеву – херувимов, kherubu, ассиро-вавилонских быков и египетских аписов, предстоящих престолу Господа; и «четырех животных» Апокалипсиса, которые «ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят!“ А забыв эту святую и страшную тайну – животное в Боге, – мы самого Бога забыли. LXI «Не забуду одного впечатления. Еще гимназистом, я раз положил хризолиду (куколку) в коробку, но долго не мог ничего дождаться и уже принял ее за мертвую. Раз подхожу утром и открываю коробку: меня не испугалась, впервые увидев человека, чудная, белая, ночная бабочка, огромная и нежная. Что-то святое и чудное повеяло от нее на меня. Я почувствовал, что до нее ужасный грех было бы дотронуться, погубив ее доверчивость, и воспользоваться ее неопытностью, тут же наколов на булавку, и я ее выпустил» (В. Розанов). Вот египетское богопочитание животных. «Египтяне поклонялись в животных их детскости, еще не раскрывшимся очам». И в сиянии животного, так же как младенца, «есть ноуменальная святость, как бы влага потустороннего света, еще не сбежавшая с ресниц его». Вот почему животное, может быть, к Богу ближе человека: в человеке потухшая, все еще сияет в животом небесная радость земли. И не спасется человек, пока вся тварь не спасется. LXII «Мир – Божья тварь; это такая простая и родная истина, что упояемые ею, мы впадаем в скакание и играние Давидово… Является миромоление, миролобзание… Я ложусь на землю и целую ее: почему? Божия. Я беру мотылька и не сорву с него крылышек, но с неизъяснимой негой буду следить, как он неумелыми ножками ползет по пальцу: брат мой, сын мой, – одно с ним у меня дыхание жизни. Нет более могил – везде воскресение… Сама смерть непостижима для меня иначе, как второе рождение… Умерла куколка, мотылек выпорхнул» (В. Розанов) Куколка – мумия – тело воскресшего: вот новое чтение иероглифов. «Египта никто не видел, и ты вошел в него первым». LXIII Так преодолевается Египтом ужас Достоевского, ужас мертвой механики или нечистой животности: средоточие мира – не Бог, а машина, или насекомое. LXIV Насекомым – сладострастье; Но вот и насекомое – в Боге: «Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене; я смотрю и благодарен ему за то, что ползет» (Кириллов, в «Бесах»). LXV Египетский розовый лотос, nekheb, со сладостно-свежим, анисовым запахом, при заходе солнца, закрывает чашу свою, сокращает стебель и уходит в воду, а утром опять выходит и раскрывается, выпуская спрятавшихся в нем насекомых. И новорожденный бог солнца, Гор, каждое утро выходит из распустившегося лотоса, как насекомое. «Он открывает вежды свои – и просвещается мир, день от ночи отделяется, и оживает вся тварь». LXVI Развращенным эллино-римскою внешнею красивостью – не красотою – нам понятно поклонение милой бабочке, нежной голубке, гордому льву и даже змее, таинственно-тихой; но смрадный козел, свирепый крокодил, безобразная лягушка, – нам кажется, что надо сойти с ума, чтобы поклониться такой животности. Египтяне – не сумасшедшие. Они хорошо понимают, что не все свято в животном. Не только глупого осла и грязную свинью исключают из круга поклонения, но и боевого коня, столь прекрасного. Сэт, злой бог, изображается тоже зверем, но баснословным, в природе не существующим, с тонкою, острою, умною мордочкой-клювом, воплощением не животной, а человечески-дьявольской хитрости. LXVII Вообще Египет обладает чувством меры в высшей степени. Он геометрически-ясен и точен, как бы скован священнодейственной точностью. Но, прикасаясь к тайне животного, вдруг теряет чувство меры, пьянеет, «впадает в скакание и играние Давидово», исступляется, ищет безмерного и хочет слиться с Творцом, творящим, для которого нет ни нашей красоты, ни нашего уродства, а есть только тварь творимая. LXVIII Навозный жук катит по земле свой маленький шарик, подобно тому как солнце катит по небу свой великий шар: и вот смиренный жук – священный Скарабей, бог солнца, Ра. Павианы кличут и скачут, как бы поют и пляшут, славя восходящее солнце: и вот, восемь павианов – восемь великих богов солнечных. Длинноногий ибис шагает по нильским болотам, как бы меряет землю: и вот, Ибис – бог меры и мудрости, Тот (Tho-t), Гермес Трижды Великий. Когда человек идет в пустыне, шакал любит забегать перед ним: забежит, остановится и оглянется, идет ли человек за ним; и снова забежит, как будто ведет его в пустыню, царство смерти: и вот, шакал – бог Анубис – «путеводитель умерших, отверзатель вечных путей». Египтяне думали, что после наводнения, во влажном и теплом иле, самозарождаются твари; кишат, копошатся, хотят и не могут выползти: одна половина тела уже образована, а другая еще не докончена. Так, в первичной материи – Нун – самозарождаются боги, Восмерица великих богов гермопольских, таинственных существ змееглавых и лягушкоглавых, недоконченных, из древней тины волочащихся, животно-божественных ублюдков хаоса. Что это значит? Не заглянул ли здесь человек впервые в последнюю тайну природы, тайну развития, зачатия живого из мертвого, тайну того, что мы называем «мировой эволюцией»? LXIX Бесчисленное множество маленьких древесных зеленых лягушек появляется внезапно, в самых сухих пустынях тропической Африки, после грозового весеннего ливня, и наполняет лужу громким кваканием, серебристо-нежным, как соловьиные трели. Туземцы думают, что эти лягушки – матла-метло – падают с неба из туч; на самом деле они проводят в спячке время зимней засухи, спрятавшись в глубоких ямках, у корней кустов, а когда начинается дождь, выползают из ямок, восстают из могил, «воскресают» (Ливингстон). И вот, великая богиня Хекет, огромная, зеленая лягушка, восседает в Дендерахском святилище, на престоле богов, помогая, как повивальная бабка, второму рождению, воскресению Озирисову. От первых веков христианства в Египте дошла до нас церковная лампада, в виде лягушки с надписью: « 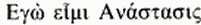 Аз есмь Воскресение». И ведь уж, конечно, ближе были к Господу, чем мы, те древние христиане, которые не побоялись сравнить с этою смиренною тварью Того, Кто пришел спасти всю тварь. LXX Но вот, наконец, самое чудовищное из божеств Египта – Taurt-Apet Гиппопотамиха, стоящая на задних лапах, с тупым рылом свинухи, со свирепым оскалом зубов, с отвисшими сосцами и толстым брюхом беременной женщины. Если мы не устрашимся ее, то страшная личина спадет, и мы за нею увидим «светозарную из светозарных, золотую, зеленую», как зелень земли зеленеющей, «женственным светом светящую, влажными огнями благие семена питающую», Матерь людей и богов, Изиду, Царицу Небесную. Знайте же: Вечная Женственность ныне LXXI В дивном изваянии Сaккара (Каирский музей) та же Изида-Гатор является в образе Телицы с материнским, человечески – нет, божески-благостным ликом. Лицо фараона Псамметиха, стоящего между передними ногами ее, как ни тонко и человечно, все-таки грубее, животнее. И не тот же ли самый тельчий лик склоняется над вифлеемскими яслями, рядом с ликом Пречистой Матери, и дышит на Младенца теплом коровьего хлева вместе с Ее дыханием божественным? Вот когда «небо с землей соединяется», и «на земле – радость небесная». Озирис, тень распятого I Как младенец, спеленут пеленами смертными, только лицо открыто и кисти рук свободны; в одной руке царский жезл, в другой – пастуший бич и посох; на голове – тиара высокая, яйцевидная, белая, между двумя плоскими перьями. Кожа на руках и лице – ярко-зеленая, как первая зелень вешних ростков. Ткань пелен так туго натянута, что видны все очертания тела, тонкого, узкого, длинного, не живого, не мертвого, а воскресающего, но еще не воскресшего. Простое лицо, как у всех – лицо Сына Человеческого, Брата Человеческого, тихое-тихое лицо Того, Чье имя: «Бог Тихое Сердце», «Бог с сердцем небьющимся». На плоских губах – улыбка детская, сонная; улыбка пробуждения; улыбка бесконечной благости; та, о которой сказано: «Старался быть улыбкой плачущих». Таков Бог Египта, главный и единственный: Usiri Unnofer, Озирис Благое Существо. II «Не все египтяне чтут одних и тех же богов… Но Изиду и Озириса чтут все одинаково», – свидетельствует Геродот (II, 42). Кажется, никто из современных ученых не обратил должного внимания на это свидетельство. Все еще спорят, существует ли в Египте единобожие, верит ли Египет во многих богов или в Единого. Странный спор! Конечно, во многих богов и, конечно, в Единого. Одно не мешает другому; напротив, одно предполагает другое. От имманентного множества к трансцендентному единству, или, точнее, к триединству Божьему – таков путь всякого религиозного опыта. Здесь, в Египте, вера во многих Богов не мешает вере в Бога Единого, как там, в Израиле, многобожие ханаанское, вера в бесчисленных Ваалов и Астарт не мешает единобожию синайскому, вере в единого Бога, Иагве. Ведь одно из имен Израильского Бога: Elohim, – Боги, или, по крайней мере, два Бога, мужской и женский, Он и Она, Ваал и Ваалат. III Дистиллированная вода бывает только в аптечных склянках, а не в живых родниках, и совершенное единобожие только в чистом разуме, а не в живых сердцах. Если египетский родник единобожия кажется нам нечистым, то одно можно сказать: более чистого не было нигде, ни даже в Израиле. IV «Единый из единых «Ua en ua». – Бог един, и никто, кроме Него», – исповедуется в тайном учении египетской мудрости. «Единый Единственный, слава Тебе!» – воспевается бог Амон фиванский, и почти так же – гелиопольский Ра, гермопольский Хмун, мемфисский Пта – все боги Египта. Все они – точки окружности, чей центр – Бог единый; и мудрость Египта только и делает что соединяет точки круга с центром. «Ты Бог единый. Ты соединяешь все облики в лике едином». – «Боги суть члены Твои, Господи!» Все боги, взаимно поглощаясь, теряются в Одном. Он пронизывает белым лучом Своим всю баснословную, многоцветную чащу богов. V Атеп значит Сокровенный. «Никто из людей не может назвать Его по имени». – «Неизреченно имя Его». – «Он – Бог невидимый, неведомый. Его же образа никто не видит, Его же имени никто не ведает». Бога из камня нельзя изваять, О Боге трансцендентном, сущем вне мира, никто никогда не говорил с большею силою: ни в Законе, ни в Пророках лучше не сказано. VI Только в Книге Мертвых, папирусном свитке, полагаемом во гроб вместе с мумией, открывается имя Его, для живых сокровенное: «Nuk pu nuk. Я есмь Тот, Кто есть. Аз есмь Сый». Из Купины Неопалимой Бог изрек Моисею то же имя: «Jahwe. Аз есмь Сый». «Иагве» (Иегова), по-еврейски; «Nuk pu nuk» по-египетски. Бог Израиля – «огнь поядающий». Весь Египет, так же как Израиль, есть куст горящий и не сгорающий в Божьем огне, Купина Неопалимая. И многие боги Египта суть многие ветви Купины Единой. VII Таков сущий вне мира, трансцендентный Бог Египта, а вот и Бог имманентный, сущий в мире. Вначале был Нун, Бездна вод первичных, и ни земли, ни тверди, ни людей, ни богов еще не было. Над бездною вод носился Дух Божий, Атум (Atum). Он изрек Себе Самому: «Приди ко Мне», и один стал Двумя. И сотворил солнце, бога Ра. Сначала Ра был в Нуне, солнце в бездне вод, как сокол с очами закрытыми; но бог открыл их, и солнце взошло – явился мир. Так творение есть явление мира Богу, видение Бога. «Когда Ты свет увидел, стал свет». Мир есть Божие Ка, двойник Божий. Мир есть Божие «излияние» – emanatio. В день творения душа человека «пролилась, как слеза из Божиих очей», а души богов «изошли из уст Божиих, как слова из уст человека». Мир есть «Сын Божий», то, что мы, христиане, называем Логосом. Один стал Двумя – богом трансцендентным, Отцом и Богом имманентным, Сыном. Вне Сына Отец есть «огнь поядающий», ужас, а в Сыне – огнь животворящий, любовь. Великий любовью рождает богов — Ни в Псалмах, ни в Пророках, ни даже в христианских молитвах лучше не сказано. VIII «Один стал Двумя». Если Тайна Двух, Отца и Сына, как путь к Тайне Трех, Отца, Сына и Духа, понята яснее, чем здесь, – в откровении христианском, то уж, во всяком случае, не в Законе и Пророках Израиля. IX Фиванский бог солнца, Амон-Ра, говорит: «Я – Одно, ставшее Двумя; Я – Два, ставшее Четырьмя; Я – Четыре, ставшее Восемью; и Я – Одно». Так совершается в лоне самого Бога раздвоение – тайна Амонова, или растерзание, «распятие» – тайна Озирисова. Это и есть начало мира – «начало разделения, различения», principium individuationis, по Шопенгауэру; «Er selbst muss untergehen, damit das Einzelne lebe. Он Сам должен умереть, дабы единичное жило», по Шеллингу; «смертью богов люди живут», по Гераклиту; «день вчерашний – Озирис, день завтрашний – Ра», по Книге Мертвых. Мир есть преломление, раздробление единого белого света Амонова в душе человека, «Божией слезе», дрожащей капле влаги Озирисовой – в многоцветную радугу. Мир есть раздробленный, растерзанный Бог. X Вот почему трансцендентному единобожию Амонову соответствует имманентное единобожие Озирисово: «Отец Един – Сын Единороден», – как мы сказали бы. И если единобожие Амоново есть тайна жреческих школ (не этой ли тайне «египетской мудрости» и научился Моисей?), то единобожие Озирисово есть вера всенародная: «Озириса все египтяне чтут одинаково», и только Озириса из всех богов, по свидетельству Геродотову. XI Озирис – «Владыка подземного неба», «Первенец из мертвых», умерший и воскресший Бог. По учению жрецов фиванских и гелиопольских, Амон-Ра и есть Озирис, «Сокровенное Солнце». В солнце Бог скрывает и являет Себя. «Лучезарность твоя от лица твоего неведомого, Господи!» Тайна солнца, тайна света есть религиозная тайна Египта по преимуществу. В Амоне-Ра и в Озирисе, в двух ипостасях Бога Единого, открывается духовное начало света – «Душа, светящая из Солнечного Ока». XII Египетское имя Озириса – Us-iri значит «Сила Ока», «Сила Солнца». Но это еще не настоящее имя, а только поиски, чаяние, тоска по имени, тоска всего Египта неутолимая. Неутолимо и вечно искомый Озирис.((Ovid.)) «Неизреченно имя Его», – можно сказать и об Озирисе, так же как об Амоне. Многоименный – безыменный. «Тот, кого я назвать не смею», – как бы на ухо шепчет нам Геродот, подражая египтянам «Род же Его кто исповесть?» – по мессианскому пророчеству Исаии (LIII, 8). XIII Страдалец, Мученик, Tesch-tesch, вот самое святое и страшное имя Его. «Взял на Себя наши немощи и понес наши болезни – изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши и ранами Его мы исцелились», – по тому же пророчеству Исаии (LIII, 4–5). Озирис есть «Великая Жертва», и во всякой жертве растерзание, убиение его совершается. Во всякой заколаемой жертве – «сердце Озирисово»: «Ты – телец жертвенный». «Как овца, веден был на заклание, и, как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. LIII, 7). Египетский иероглиф, означающий жертву, – человек со связанными за спиной руками и с приставленным к горлу ножом. По свидетельству дошедших до нас памятников, в Египте каменного века существовали человеческие жертвоприношения: чужеземцы-пленники закалывались или удавливались. Впоследствии человек заменяется животным – газелью, тельцом, агнецом, – и тогда к животному привязывается глиняная или каменная печать с изображением человека, приносимого в жертву; и, наконец, жертва отожествляется с самим Богом: теперь уже не человек приносится в жертву Богу, а сам Бог приносит себя в жертву человеку. Жертва совершается в Боге: тайна мира есть тайна любви жертвенной. «Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал за мир», – опять как бы вторит христианство египетской мудрости. XIV Одно из имен Озирисовых – Bata, «Душа хлеба». Вкушая хлеб, люди вкушают плоть Озирисову, плоти его причащаются. «Ты – отец и мать всех людей: люди дышат дыханием твоим, едят плоть твою». XV По свидетельству Плутарха (De Iside et Osiride, XXI), «не только об Озирисе, но и о всех прочих богах жрецы исповедуют, что тела их лежат в Египте, погребенные и почитаемые». Это значит: все боги суть Озирисы, жертвы закланные. Все живут, страдают и умирают вместе с ним: в этом и только в этом – единобожие Озирисово-Амоново. Он один – во всех богах, и о них о всех можно сказать то же, что сказано о нем в Книге Мертвых: «Он знает день, когда его не будет». Знает жертву свою: «имеет власть отдать жизнь Свою, и власть имеет снова принять ее». – «Он истязуем был, но страдал добровольно» (Ис. LIII, 7). XVI Бог в страдании; страдание божественно не только в человеке, но и во всей природе. По незаписанному изречению Господа: «Говорит Иисус: подыми камень, и там найдешь Меня; разруби дерево, и Я там» (Clem. Roman. Agraph., 50) Ущерб, изнеможенье и на всем В улыбке Озирисовой, «улыбке плачущих», эта стыдливость страдания сливает небесную радость с небесною грустью земли, ибо и в грусти, так же как в радости, «небо с землей соединяется». Он – в закалываемой жертве, в умирающем семени, в пожинаемом колосе, в убывающем Ниле, в ущербном месяце, – во всяком страдании, но в страдании человеческом особенно. XVII Озирис – человек, Бог и человек вместе; воистину Бог, и человек воистину. Жил, страдал и умер, как человек, в униженном «рабьем зраке». «Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филип. II, 7–8). О ком это сказано? Об Озирисе? Нет. Озирис только тень Тела незримого. Но в подобии Тела и Тени – сокровеннейшая тайна египетской мудрости. XVIII На краю песчаной Ливийской пустыни, в глубине большой полукруглой равнины Абидосской, около двух километров к северо-западу от Озирисова храма, в узком скалистом ущелии Пэкэр (нынешнем Ум-эль-Гакабе), там, где заходит солнце, найдены гробы древнейших царей Египта, и среди них – «гроб Озириса». Французскому ученому Амэлино (Amelineau), производившему раскопки в Абидосе в 1897–1898 гг., надписи на этих гробах показались столь несомненным историческим свидетельством, что он поверил, что действительно найден им гроб «человека Озириса», лица исторического, третьего фараона первой династии. Можно сказать, что весь Египет зиждется на вере, что человек Озирис жил, страдал и умер на земле; но как жил, об этом мы почти ничего не узнаем из бесчисленных изображений, а как страдал и умер, – еще меньше. Тут только намеки, как будто нарочно темные и краткие. «Я знаю все, но да хранят уста мои благоговейное молчание», – говорит об этом Геродот (II, 170) и мог бы сказать весь Египет. XIX На памятной плите-стеле Ихернофрета (Ichernofret), главного казначея царя Узертезена III (Среднее царство), сохранилась единственная надпись об Озирисовых таинствах в Абидосском святилище. Но и в ней почти не говорится о смерти «человека Озириса», о том, как он убит. По-видимому, «страсти Озирисовы», ???????? ?????, изображались в театральном действии (вот где, в Египте, а не в Элладе, начало театра), подобно «страстям Господним» в средневековых мистериях; но изображались только для посвященных, толпа их не видела. И в этих «тайнах» если была вообще сцена убийства, то еще более тайная: наступала тишина – и вдруг раздавался вопль, великий плач Изиды над Озирисом. XX Как будто весь Египет повернулся спиной к нему, человеку умершему, а лицом к богу воскресшему: не хочет видеть страдания и смерти. Откуда же он знает, что смерть и страдание божественны? Какой свет озарил ему эту тайну? Где источник света – позади или впереди, в начале или в конце мира? Или же и здесь опять конец совпадает с началом в замыкающемся круге вечности? XXI О конце какого-то первого мира и начале второго повествует древняя сказка Египта, простая, детская, как те, что сказывают старые няни маленьким детям. Некогда жили боги на земле, вместе с людьми, и великий бог солнца, Ра, обитая в Гелиополе, правил Египтом. Тогда еще земля не отделилась от неба, и люди были, как боги. Но развратились, отпали от Бога и сказали: «Вот состарился Он; обветшал Ветхий деньми: кости у него, как серебро, тело, как золото, волосы, как лапись-лазурь; и дрожат члены Его, и слюна течет изо рта». Так смеялись люди над Богом. И разгневался Он и повелел богине любви, Гатор, истребить род человеческий. Гатор истребила его, но не до конца. Умилосердился Бог, потопил за ночь землю потопом влаги опьяняющей, и когда богиня любви вошла в нее поутру, то увидела лицо свое во влаге, как в зеркале, и развеселилась; отведала влаги, опьянела, и перестала истреблять род человеческий. Но древний союз неба с землею был нарушен. И сказал Бог: «Устало сердце Мое. Не хочу жить с людьми и истреблять их не хочу до конца». И покинул землю, взошел на небо и отделил землю от неба. И стала земля, стало небо, как ныне стоят и будут стоять до конца времен. Так первый мир кончился и начался второй. XXII Эту древнюю сказку Египта продолжает, через тысячи лет, Плутарх, эллин II века по Р. X., великий жрец Аполлона Дельфийского, в книге своей «об Изиде и Озирисе». Это единственный, до нас дошедший памятник о «страстях» Озирисовых. Если бы не он, то мы так ничего о них и не знали бы. Узнаем, впрочем, и по книге Плутарха немного: египетский подлинник Озирисова жития относится к ней, по всей вероятности, так же, как Евангелие к апокрифам. Вот сказание Плутарха. Когда Бог, взойдя на небо, покинул людей, то, пожирая друг друга, как дикие звери, погибали они и погибли бы, если б не пришел Озирис. Он родился простым человеком и, сделавшись царем Египта, отучил людей от звериной жизни, научил их возделывать хлебные злаки, дал им законы и установил почитание богов. Потом обошел всю землю, благовествуя царство свое и завоевывая мир не силой меча, а любовью, песнями, пляской и музыкой. Когда же вернулся в Египет, то брат его Тифон (Сэт), вместе с семьюдесятью двумя заговорщиками, решил его погубить. Тайно снял с него мерку, велел по ней изготовить великолепно украшенный ковчег и пригласил брата на пир. Во время пира, слуги внесли ковчег. Все гости восхищались им, а Тифон, как бы шутя, обещал подарить его тому, кому он придется по росту. Семьдесят два заговорщика ложились в него по очереди, но никому не был он впору. Наконец лег и Озирис. Тогда все бросились к ковчегу, захлопнули крышку, забили гвоздями, залили оловом, отнесли на реку, кинули в воду, и ковчег уплыл в море через Танаисское устье Нила. Изида, супруга Озирисова, долго искала мертвого тела его, блуждая по всей земле; наконец нашла, с воплем и плачем упала на него, прильнула лицом к лицу Озирисову и целовала его, и орошала слезами. Потом, отправляясь в новые поиски за сыном своим, Гором, скрыла ковчег в Нильских папирусах. Но Тифон, охотясь ночью, в полнолуние, при свете месячном, увидел ковчег и узнал его. Вынул тело, растерзал его на четырнадцать частей и разметал их на все четыре стороны. Изида, сведав о том, опять начала поиски. Собрала все части, соединила их и воскресила мертвого, потому что обладала «лекарством бессмертия», чарой любви воскрешающей. «Символы эти ведут к богопознанию», – заключает Плутарх, но сам разгадать их не может. Пифагорейцы и орфики ближе, чем он, к египетской мудрости: у них и разгадка главного символа – Сэтова гроба-ковчега. XXIII «Тело есть гроб души, погребенной в веке сем» ( 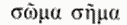 ) – сообщает Платон учение орфиков (Cratyl., с. 400). «Наслаждение (для душ) падать – рождаться. 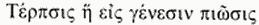 , находим отзвук того же учения у Гераклита Эфесского» (Fragm. 771). Наслаждением плоти рождающей рождаемые души вовлекаются в плоть. Как цвет с райского древа жизни, срывает их сладкая буря зачатия, – и они падают на землю. Падение – наслаждение для них, но и преступление, «первородный грех»: падают, рождаются – умирают. XXIV Так пал Озирис в ковчег Сэтов, в тело-гроб, 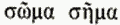 : родился – умер. Но души невольно рождаются, падают, а Озирис – вольно: «он знает день, когда его не будет». Рождение – «падение»,  , а воскресение – «восстание», ?????????, по тому же учению орфиков. Озирис пал, чтобы восстать и восставить павших; умер, чтобы воскреснуть и воскресить мертвых. XXV Египетский гроб есть деревянная или каменная оболочка мумии, повторяющая с точностью не только облик тела, но и черты лица умершего. Тело узнается по гробу, как душа – по телу; гроб есть мера тела, а тело – мера души. Вот почему и Сэтов гроб-ковчег изготовлен по мере тела Озирисова, мере особой, единственной, личной и различающей. Это и есть «начало различения», principium individuationis – начало мира, по Шопенгауэру. «Растерзанный» Бог – множественный мир. «Я – одно, ставшее Двумя, Четырьмя, Восемью». Вот почему растерзывает Сэт Озириса. XXVI Но если Озирис – Бог, то кто же Сэт? Дьявол? Нет. «Совершенство бытия во мне и небытие во мне. Я – Сэт, небытие среди богов. Остановись же, Гор! Сэт сопричислен к богам», – говорит Озирис Гору, сыну своему и мстителю (Кн. Мертв. VIII, 3). Это значит: Озирис и Сэт – одно. Сэт и Озирис суть две ипостаси Единого Бога. «Он знает день, когда его не будет»: это «не будет» и есть небытие в Боге – Сэт. По Шеллингу, «три потенции» в Боге изображаются алгебраически так: + А – А ± А. Небытие и бытие, отрицание и утверждение, гнев и любовь – два начала, соединенные в третьем: Сэт и Озирис в Горе. «Я начал быть, как Бог, Единый, но Три Бога были во Мне», – говорит бог Нун в книге «Апофиса». Или, как мы теперь сказали бы: три Ипостаси в Боге Едином – Тайна Трех, Пресвятая Троица. Вот к какому богопознанию ведут эти символы. XXVII Св. Климент Александрийский, до обращения в христианство, посвящен был во многие языческие таинства, между прочим и в Озирисовы. Он, может быть, о них вспоминает, когда говорит: «И варварская, и эллинская мудрость видят вечную истину в некоем растерзании, распятии – не в том, о коем повествует баснословие Дионисово, а в том, о коем учит богословие вечного Логоса» (Strom., I, 13). Так, соединяя растерзание Диониса и Озириса с распятием Логоса, зримую тень с Телом незримым, св. Климент не кощунствует, а славит Господа. XXVIII Под ярким солнцем, на белом песке, черная тень – Озирис. Только тень; тела Египет не видит. Мы видим, и неужели не узнаем, чья это тень? Озирис, тень воскресшего I Озирисова мумия прильнула, как бы прилипла, к земле чревом и персями, плоско, мертво, немощно. Земля от земли, прах от праха. Земная куколка небесной бабочки. Тело из диорита светло-зеленого, темно-пятнистого, подобно телу червя: как червь, ползет, пресмыкается. Червь и Бог вместе. Уже воскресает, но еще не воскрес: еще окоченелость в теле, скованность, мертвенность. Но уже приподнял голову, открыл глаза, улыбнулся, и в этой улыбке – вечная жизнь, солнце незакатное. II Во всем христианстве, за двадцать веков, ничего подобного. Над ним надо всем – знамение крестное, смертное, но не воскресное. Мы знаем, что Христос воскрес, но как воскресал, не знаем, не видим, не слышим, не чувствуем. Приближение постепенности к прерыву, необходимости к чуду, тела Умершего к телу Воскресшего, брезжущий свет воскресения – все это невообразимо для нас. Этого мы не знаем и знать не хотим или не смеем. Египет смел. Пять тысяч лет только и делал, что вдумывался, вглядывался в это с неустрашимою пытливостью. III В ряде последовательных образов, как бы в мгновенных снимках для кинематографа, изображается постепенно воскресающее тело Озириса: по телу мертвеца сначала пробегает слабое содрогание, как по телу куколки, в которой шевелится готовая выпорхнуть бабочка; потом медленно-медленно он подносит руку к лицу, как просыпающийся от глубокого сна; сгибает колени, ищет ногами упора; наконец с усилием все тело приподымается выше и выше и вдруг встает из гроба, вскакивает, как бы взлетает с божественною легкостью. Изображения эти так «внушительны», что рождают не мысль в уме, а ощущение в теле. «С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление» («Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого) Кто знает, жизнь не есть ли смерть,((Euripid. Fragm., ар. Plat., Gorg.)) IV Да, это не в уме, а в теле загорается: глядя на любящих – хочется любить, на пляшущих – плясать, а на воскресающих – воскресать. V «Египтяне первые научили людей тому, что душа человека бессмертна» (Геродот. II, 123). Геродот, так же как Платон и все вообще эллины, кроме Гераклита и орфиков, не понимает, что воскресение вовсе не есть бессмертие. Бессмертие души – только идея в уме, а воскресение плоти – опыт. На вопрос, победима ли смерть физически, нельзя отвечать доводами разума, как делает Сократ в «Федоне»; ответить на него можно только опытом. Воскресение плоти – или бессмыслица, или действительнейшая из действительностей, опытнейший из опытов. Весь Египет и есть не что иное, как опыт воскресения. И пусть не удался он или не закончился в самом Египте. Но, если когда-нибудь, где-нибудь удастся, – христиане верят, что уже удался, – то это будет не без Египта. Вот почему: «от Египта воззвал Я Сына Моего» (Матф. II, 15). VI Хорошо это или плохо, мудро или глупо, но не метафизики «бессмертья», а «воскресной физики» ищет Египет; воскресению плоти у самой плоти учится. Понимает, может быть, не хуже нашего, что физика эта – порядка нездешнего, в котором все неизреченно и немыслимо для нашего слова и разума; мыслится только в безумных «радениях», оргиях, изрекается только в безмолвных таинствах. VII В плоти ищет и находит Египет три тайны воскресные. Первая тайна – в плоти космической. Заходящее солнце, ущербный месяц, убывающий Нил – умирание Бога; солнце восходящее, полнолуние, половодие – воскресение. Вот почему Озирисово тело зелено, как лунный свет; и четырнадцать частей растерзанного тела его – четырнадцать дней убывающего месяца; а семьдесят два заговорщика, убийц его, – дни зимней засухи, когда воды Нила падают до самого низкого уровня, и Озирис нисходит во гроб. VIII Вторая тайна – в плоти растительной. «Египтяне говорят, что Озирис хоронится, когда съемный плод скрывается в земле, и что снова оживает, является, в прорастающем семени» (Plutarch. De Iside et Osiride). «Озирис есть владыка жизни, сущий в хлебном семени» (Кн. Мертв., 147). Озирис есть Душа Хлеба, Bata: вот почему сеять хлеб – значит «хоронить Озириса». На празднике жатвы царь пожинает серпом первый сноп, убивает Озириса, и убитым богом, хлебом, живут, питаются люди. «Я – Озирис, я – пожинаемый Нэпра» (бог пшеницы), – говорит о себе умерший в надгробной надписи. На острове Филэ, в одной из часовен храма Изиды, изображены колосья, прорастающие из мертвого тела Озирисова; жрец поливает их водой из сосуда; рядом надпись: «Вот образ того, кого не должно знать, Озириса тайного, исходящего из вод возвратных» (наводнения). А на другом изображении – гробница, осененная деревом, с надписью: «Озирис, прозябающий из семени». Это и значит: тайна прозябающего семени – тайна воскресающего тела. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет… Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (Перв. Кор. XV, 36, 44). IX Подобие не доказательство, и магия не механика. Но живые подобия иногда принудительней всех доказательств, и магия жизни сильнее мертвой механики. Мы не знаем, что происходит в оживающем семени; но если бы узнали, то, может быть, это показалось бы нам таким же чудом, неизреченным и немыслимым, как то, что происходит в воскресающем теле. Возможное в семени почему не возможно и в теле? Разве тело не значительнее семени? Х Во многих египетских гробницах (Тутмеса III, Иуйи и Туйи, Мегарпири) найден «Озирис прорастающий». На низкой раме натянуто полотно; на полотне начертан облик Озирисовой мумии, покрыт тонким слоем чернозема и густо засеян ячменными или пшеничными семенами. Семена увлажняются, пока чуть-чуть не прорастут; тогда проросшие стебли подстригают и равняют гладко, как травку на газонах наших садов. Так, в могиле, рядом с телом покойника, образуется ярко-зеленое, весеннее, воскресное тело Озириса. Живые как бы учат мертвого: «Вот, ожило семя – оживай и ты». XI В погребальных таинствах, пока неистово вопят вопленицы, так же неистово пляшут плясуньи, голые девушки: стоя в ряд, на одной ноге, подымают другую, все вместе, опускают и опять подымают, все выше и выше. Это значит: так высоко, как подымаются ноги, да взойдет из земли колос, да восстанет мертвый из гроба. XII В Абидосских мистериях, замешивается в золотой квашне тесто из пшеничной муки, фиников, ладана, мирры, воды, земли и драгоценных каменьев; из теста вылепливаются в золотых полых складнях все части растерзанного Озирисова тела и соединяются в маленькую, в пол-локтя, мумию, которая сушится, печется, как хлеб на солнце, полагается на ложе, «плащаницу» Озирисову, среди бесчисленных лампад и курильниц, и затем погребается. «Люди едят плоть твою», – сказано в Книге Мертвых, и в лейденском «магическом папирусе»: «Видно сие да будет кровью Озирисовой». XIII В Деир-эль-Бахари (Фивы) найдены христианские мумии. Рядом с символом таинств Озирисовых, изображены на них чаша и колос, вино и хлеб Евхаристии. Так тень соприкасается с телом: тень – Озирис – падает к ногам Господним. XIV И, наконец, третья воскресная тайна – животная. Уже в древнейших наагадетских, допирамидных могилах (VII–VIII тысячелетия), овальных или прямоугольных ямах, человеческие костяки лежат на левом боку, в положении согнутом, как младенцы в утробе матери, чтобы легче было родиться – воскреснуть. XV В похоронных таинствах позднейшего Египта закалывается жертва – антилопа, газель, бык или другое животное – и в свежесодранную кожу облекается покойник или ложится жрец, согнувшись тоже, как младенец во чреве матери. Эта кожа, meskhent, есть гроб-колыбель, «место становления», «превращения», cheper. «Через кожу-колыбель прошел Озирис. Таинство кожи есть колыбельное таинство», – говорится в Книге Мертвых. Впоследствии кожа заменяется пеленою мумийной. Полежав под ней, жрец выходит из нее, как младенец из чрева матери: умерший воскресает – рождается. XVI В Озирисовых праздничных шествиях, на древках священных знамен, предносится «сэдшед», shedsched, изображение савана, в виде женской матки в последней степени беременности. Во врачебных папирусах shed значит vulva, матка, или foetus, человеческий зародыш – иероглиф этого слова изображает довольно точный анатомический разрез матки. XVII Воскресающий человек отожествляется с Амоном-Ра, восходящим солнцем, рождаемым от Небесной Телицы, Гатор: «Ты чист, ты чист, Амон! Уста твои, как уста молочного теленка, в день рождения телицею-маткою» (Книга Мертвых). Непостижимый для нас предел божественной ласки – в этом обращении к умершему: молочком от тебя пахнет, как от теленочка. XVIII По Гераклиту: «смерть есть рождение» (Heraclit. Fragm., 21). «Путь вверх и вниз – один и тот же.  (Fragm., 60). Это значит: умирая, мы туда рождаемся; рождаясь, приходим оттуда. XIX «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая сила… Он чувствовал, что мучение его в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее… Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок; еще сильнее сдавило ему дыхание; он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то» («Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого). Эта «черная дыра» или «мешок» есть египетский «сэдшед», трансцендентная «матка», vulva, в которую просовывается рождающийся и умирающий; одна дверь туда и оттуда, один путь вверх и вниз. XX «Я – Вчера и Завтра. Я – беременный. Я – снова рождаемый» – эти слова из Книги Мертвых (64), столь непонятные для нас, умирающий Иван Ильич понял бы. Сын Озириса, Гор, воскрешает, «рождает отца своего». Смерть – рождение обратное. «Все, что у вас, есть и у нас» (Достоевский), – только перевернуто, опрокинуто, как в зеркале. XXI «Он искал своего прежнего страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет» («Смерть Ивана Ильича»). По Гераклиту (Fragm., 26): «Человек, в смертную ночь, свет зажигает себе сам». Вот почему «в конце дыры засветилось что-то»: засветился тот свет. XXII Гераклит, за двадцать пять веков, как бы вторит Л. Толстому, а Л. Толстой как бы вторит Египту допирамидному. И неужели не принудительнее всех доказательств эти живые подобия, живые голоса, которые перекликаются над такими безднами веков и народов все об одном и том же? XXIII Три тайны воскресающей плоти – животная, растительная, космическая – соединяются в одно таинство. И все молитвы, обряды, богослужения – вся религия сводится к нему же. Иного таинства нет в Египте. Каждый день, во всех храмах, царь, воплощенный Гор, сын Озириса, или жрец, наместник царя, совершает одно и то же богослужение – воскрешение людей и богов, ибо все боги и люди суть Озирисы умершие. XXIV Не только Бог человеку, но и человек Богу помогает воскресать. Человек и Бог взаимно-дополнительны. Между ними происходит постоянный обмен воскрешающей силы, как бы непрерывный ток искр между двумя электрическими полюсами. Одним и тем же воздухом дышат люди и боги: боги выдыхают, люди вдыхают. XXV Царь – воскреситель богов и людей. Отсюда безграничная власть его над людьми. Так как в Египте почитание богов людьми тождественно с почитанием умерших отцов сыновьями, то царь становится сыном всех богов-отцов, Сыном по преимуществу, воплощением богосыновства, как начала имманентного миру, а богосыновство становится основой боговластия, теократии. Весь Египет строится, как пирамида, и высшая точка пирамиды – царь-бог. XXVI Что же это, в последнем счете, – богочеловечество или человекобожество? Ни то ни другое; и то и другое. Сам Египет не сумел разделить этих двух начал. Тут еще несознанное и потому невинное смешение. XXVII Царь-бог – высшая точка, острие пирамиды; вся она к ней возносится. Последний раб участвует вместе с царем в воскресении. Каждый умерший, даже самый бедный, получает свой участок земли на «Островах Блаженных», в полях Jalu, в «Египте втором», совершенном подобии первого. XXVIII У мемфисских жрецов было сказание о нищем, который, после смерти, воссел одесную бога, на Озирисовой вечери, в одежде из белого льна, «потому что бог Тот (Thot, Измеритель) засвидетельствовал о нем, что не получил он в веке сем части своей». Вот почему бедные люди изготовляют деревянные куколки-мумии, пишут на них свои имена, кладут в маленькие гробики и зарывают в песке, у входа в большие гробницы, чтобы в воскресении участвовать и малым вместе с великими. XXIX Геродот повествует о «празднике лампад», когда в память умерших, в воскресную ночь Озириса, 17-го числа месяца Атира, по всему Египту, от Саиса до Элефантины, зажигались бесчисленные лампады внутри и вокруг домов; к маслу прибавлялась соль, чтобы пламя горело ярче и тише под открытым небом. Многозвездное небо отвечает земле многоогненной, и в каждом огоньке – душа умершего. Живые соединяются с умершими в эту святую ночь. XXX Человек не может воскреснуть один; он воскресает только вместе со всем человечеством и со всею плотью мира. Ибо вся плоть, вся тварь «совокупно стенает и мучается доныне, с надеждою ожидая откровения сынов Божиих» (Римл. VIII, 19–22). Вместе с человеком вся совокупно стенающая тварь – животные, растения, земля, небо, солнце – пробивается сквозь смерть к воскресению. XXXI «Все звери полевые и птицы небесные собрались в доме Господнем, и Господь весьма радовался, что все они были хороши, и возвратились в дом Его» (Книга Еноха. ХС, 33). «Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие» (Ис. X, 5). Всякая плоть – не только человеческая, но и космическая, растительная, животная. Вот почему «египтяне живут вместе с животными» (Геродот, II, 36), – живут, умирают и воскресают. XXXII Египетскую мысль о воскресении человека вместе со всею плотью мира, мысль, которая кажется нам такою нелепою, невозможною, ненаучною, несовременною, высказывает один из самых научных, современных философов, Бергсон. «Все живые друг за друга держатся и все увлекаются одним и тем же ужасающим порывом. Животное находит точку опоры в растении, человек в животном; и все человечество, в пространстве и во времени, есть великое войско, скачущее рядом с каждым из нас, и впереди и позади каждого, в стремительном натиске, способном сокрушить все, что стоит на пути его, и опрокинуть многие преграды, может быть, даже смерть» (H. Bergson. L’Evolution Creatrice, 1913, III, 293–294). Бергсон говорит: «может быть», а Египет говорит: «наверное», вот и вся разница. XXXIII Бергсонова «творческая эволюция» есть египетский nemanch, «обновление жизни». Мы все признаем «эволюцию»; вопрос только в том, действительно ли эволюция – «творческая»; ведет ли она куда-нибудь; катится ли по какому-то пути к какой-то цели это мировое колесо, орфический цикл, ?????? подобно многоочитым колесам колесницы Иезекиилевой: «куда Дух хотел идти, туда шли и они» (Иез. I, 20), или слепо, бесцельно и безмысленно вертится, подобно проклятому колесу Иксионову, орудию адской пытки? XXXIV В египетских гробницах ставились каменные сосуды, «канопы» с набальзамированными внутренностями умершего; крышки канопов изображали головы различных животных, между прочим, павиана, одного из наших предков, по Дарвину. Здесь, в Египте, павиан тоже предок, но в смысле ином. По современной эмбриологии, человеческий зародыш – в утробе матери, а по учению или только предчувствию египтян, в трансцендентной vulva, матке, умерший проходит все ступени мировой эволюции, между прочим, и ступень от обезьяны к человеку, и еще выше, от человека к Богу. А наш путь обратный: наверное – не от Бога к человеку и, может быть, – от человека к обезьяне. XXXV Всякий умерший, воскресая, становится Озирисом. «Как жив Озирис, так жив и он; как не умер Озирис, так не умер и он; как неуничтожаем Озирис, так неуничтожаем и он». Сам Озирис говорит устами умершего: «Я восстал богом живым; я блистаю в сонме богов. Я, как один из вас, боги!» (Кн. Мертв., IV). И еще дерзновеннее: «Ты (воскресший) повелеваешь богам» (Пирамидная надпись фараона Пэпи II). «Я есмь Единый. Бытие мое – бытие всех богов в вечности» (Кн. Мертв., VII, 4). «Захочет он (воскресший), чтобы вы, боги, умерли, – умрете; захочет, чтобы живы были, – будете живы». Боги «приходят к тебе и падают ниц, дабы лобзать прах у ног твоих» (Пирам. надп.). Что это, кощунство? Да, если не помнить, что воскресший человек есть «Озирис», и не знать, Чья он тень. Но если это знать, то уже не кощунственно, а благоговейно то, что говорит, вместе с воскресшим человеком, Озирис, тень – о теле своем: «Он есть – я есмь? я есмь – Он есть». И еще яснее, в лейденском, позднем, эллино-египетском папирусе: 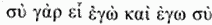 Ибо Ты еси Я, и Я есмь Ты». Нет, не кощунство, а слава Господня – то, что все боги, как тени, падают к ногам Тела своего, умирают, как тень, в лучах Солнца Единого. «Бог стал в сонме богов, среди богов произвел суд… Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете» (Псал. LXXXI, 1–6). «Захочет Он, – и умрете; захочет, – и живы будете», – как бы вторит Египет Израилю. XXXVI Вторит сердцем, но умом не разумеет. В стенных изваяниях пирамид иероглиф, изображающий змею, почти всегда разрубается на части, чтобы, в воскресении мертвых, ожившая змея не ужалила покойника. В гроб кладутся зеркала, дощечки для румян, куклы, игральные кости и книги сказок, чтобы на том свете покойник мог поиграть и почитать от скуки. Бог скучает, играет в куклы, смотрится в зеркало, румянится, боится змеиного жала; по таким противоречиям, диким и детским, видно, что Египет не соединяет, а смешивает человека с Богом, этот мир – с тем. XXXVII Вообще египтяне только дикари и дети, по сравнению с нами, «взрослыми», «просвещенными». Это так очевидно, что много говорить об этом не стоит. Но вот что удивительно: эти дикари и дети знают о христианстве, за три тысячи лет до Христа, больше нашего. Определить с точностью меру этого знания мы не умеем не только потому, что оно слишком смутно, бессознательно – «многое можно знать бессознательно» (Достоевский), – но и потому, что самый способ египетского мышления чересчур отличен от нашего: сила нашей мысли – в уме, а египетской – в сердце; недаром для «сердца» и «ума» у них одно слово: «сердце». XXXVIII Как дикари и дети, смешивают тот мир с этим? Да, смешивают, но не совсем. «Когда время будет вечностью, мы снова увидим тебя (умершего), ибо ты отходишь туда, где все едино». Не значит ли это: в мире здешнем, во времени, воскресение только начинается, а кончится в вечности? Тут уже разделение двух миров почти сознательно. XXXIX Одно можно сказать с точностью: египетское воскресение плоти ближе к воскресению христианскому, чем к бессмертию души, языческому и нашему. В воскресении тот мир с этим соединяется: «время будет вечностью»; оба мира взаимно утверждаются; а в бессмертии – взаимно отрицаются так, что если довести до конца эту линию взаимного отрицания, то получится уничтожение обоих миров, совершенное небытие, Нирвана. Платоновский Мэон, Бог Несущий – уже отец Будды. Вот почему все тяготение современной Европы, мэонической, буддийской, по преимуществу (Шопенгауэр – Эйнштейн), есть тяготение от Египта к Индии. Можно сказать, что Египет наиболее противоположен Индии, Озирис – Будде. Египет – сильнейшее противоядие от яда буддийского, от нашей мнимой «теософии», столь невежественно и кощунственно смешавшей Христа с Буддою, величайшее «да» с величайшим «нет». Давно уже началось это смешение: Аполлоний Тианский, первый теософ, мечтавший упразднить единственность Христа, – уже ученик индийских «гимнософистов». От Будды к Озирису, к Египту от Индии, – вот путь нашего спасения, и вот почему Египет так современен, апокалипсичен. XL Как трудно поверить в бессмертие души, мы знаем по собственному опыту. Кто из нас верит, хотя бы так, как Сократ – перед чашей с цикутою? Но насколько труднее поверить в воскресение плоти! Для этого нужно было явление самого Бога, да и то не поверили. «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа; но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это – Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лук. XXIV, 37–39). Из всех человеческих слов это самые непонятные, невозможные, неимоверные. Только что люди поверили в них, как уже опять усомнились, перешли от слишком трудной веры в воскресение плоти к более легкой – в бессмертие души. XLI Египтяне знали, может быть, не хуже нашего, что такое смерть, и как неодолим ее физический закон. Почти все народы, древние и новые, торопятся сжигать трупы или прятать их в землю, чтобы не видеть тления и спокойно верить или не верить в бессмертие души. Египтяне сохраняют их тщательно и борются, – пусть детски, дико, беспомощно, – но все-таки борются, лицом к лицу, с тлением. «Дикари» и «дети», но ведь все-таки люди: если ненаучно, как мы, то чувственно, опытно знают, может быть, опять-таки не хуже нашего, что такое тление. «Господи, уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе», – это и они могли бы сказать. Но вот, не сказали – поверили. О, конечно, сомневались! И даже очень, это мы знаем по многим свидетельствам. Но не то удивительно, что сомневались, а то, что все-таки верили, и от каменного века до христианства, через восемь тысячелетий, пронесли эту безумную, дикую, детскую, невозможную, неимоверную веру – пронесли и сложили у ног Воскресшего. XLII Мы знаем, как трудно возненавидеть смертное тело, этот мир, землю, чтобы возлюбить бессмертную душу, тот мир, небо, – но насколько труднее возлюбить сквозь смерть смертное тело, этот мир, землю! А ведь именно так возлюбил их Египет. Можно сказать, что никогда не бывало такой любви к жизни сквозь смерть, пока Бог не сошел на землю, и, может быть, надо, чтобы Он сошел снова, чтобы повторилась такая любовь. XLIII «Восстань, восстань, Озирис! Я, сын твой, Гор, пришел возвратить тебе жизнь, соединить кости твои, связать мышцы твои, совокупить члены твои. Я – Гор, образующий отца своего. Гор отверзает уста твои… дарует очи тебе, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, ноги, чтобы ходить, руки, чтобы делать». С этими словами жрец совершает над мертвым обряд apra, «отверзание уст и очей»; обнимает мумию, приближает к ее лицу лицо свое и передает из уст в уста дыхание жизни. «Ты – бог среди богов, но имеешь и все, что имел на земле… Плоть твоя растет, кровь течет в жилах, и здравы все члены твои… У тебя – сердце твое, твое настоящее, прежнее сердце». – «Я есмь, я есмь! Я жив, я жив!» – отвечает умерший (Кн. Мертв., гл. 154). XLIV Этот материализм пугает нас, закоренелых «духовников», спиритуалистов. Нам кажется, что тут для детской и дикой веры египтян нет воскресающего тела, а есть только оживляемый труп. Но это не так, или не совсем так. Как луковица состоит из многих кожиц, так человек – из многих оболочек, телесных, душевных и духовных: одна оболочка в другой, более тонкая – в более грубой. Их соотношение – предмет очень сложной трансцендентной «физиологии», которую мы плохо понимаем. Это, впрочем, и неважно, а важно то, что египетская мистика пытается установить целый ряд ступеней между физическим телом, которое должно умереть, и духовным, которое должно воскреснуть. Еще важнее, что для этой мистики, так же как для христианства, не подвластное смерти существо человека – личность – заключается не в теле и не в духе, а в соединении духа и тела, в «духовном теле», sahu. Только это тело и воскресает. Тут первая, может быть, еще бессознательная, но уже несомненная, религиозная воля Египта к Абсолютной Личности, и вместе с тем глубочайшая противоположность Индии, так же как всей современной Европе, с их волей к безличности, ибо воля к небытию, к нирване, и есть не что иное, как воля к абсолютной безличности. XLV Уже доисторические египтяне Наагадетского некрополя, чертя облик sahu, «светлой тени», «духовного тела», может быть, предчувствуют, что оно больше, чем тело только физическое, и что, проходя сквозь твердейшую твердь, «хрустальное небо», оно возносится к звездам. Недаром впоследствии тот мир, Другая Земля, Tuat, – уже не на земле, а на небе, а Острова Блаженных, Jalu – в Млечном Пути. XLVI Но земля не уничтожается, а преображается в небе. И как бы высоко душа ни возносилась в небо, она все-таки сходит и на землю. Жизнь умерших есть «подобие тех дней, когда еще дышали они на земле». XLVII «Да гуляю я каждый день у пруда моего; да порхает душа моя, как птица, по веткам деревьев моих; да отдыхает в тени сикиморы моей… Да восхожу я на небо и нисхожу на землю, ничем не удержанный. Да будет мой Двойник свободен» (Кн. Мертв.). Именно в этой свободе, полете от земли к небу и от неба к земле – особенность воскресения египетского. XLVIII «Да будет мне дано совершать все превращения, какие пожелаю», – говорит умерший (Кн. Мертв., I, 20). Он может быть всем, чем хочет, – светилом, человеком, богом, животным, растением. «Я – чистый лотос, расцветший на краю неба, ноздрям бога Солнца благоухающий». «Я – Змея, дочь земли». «Я – крокодил, царь ужаса». «Я – ласточка, я – ласточка. Я – скорпион, сын солнца». «Я – пребывающий в Оке Солнечном» (Кн. Мертв., LXXI–VIII). XLIX Жизнь во многих телах – казнь за грехи, «карма» для индийцев, а для египтян награда. Но эти «превращения» – не «переселение душ», как полагал Геродот (II, 123). Душа человека не может войти в новое тело и снова родиться, потому что тело, проекция личности, так же неповторяемо, единственно, как личность. Одна личность – одно рождение, одна смерть. Метемпсихозы не могло быть в личном Египте, как в безличной Индии не могло ее не быть. И мы действительно знаем, что это учение, цвет индийской мистики, занесено в Европу с Востока (баснословный поход Диониса, путешествие Пифагора в Индию). L «Сердце», ав, есть узел, связующий тело с духом, трансцендентный узел личности, единственной, божественной: «Ты есмь Я, Я есмь Ты». Вот почему душа, после всех превращений, возвращается к своему телу. От «нетленных Созвездий Севера», сходит в могилу и смотрит с любовью на свое земное тело, в свое земное лицо, положив обе руки на сердце мумии: «сердце рождения моего, сердце матери моей, сердце земное мое, нужное мне для моих превращений, не покидай меня!.. Ты – Я во мне. Ты – мой Ка (Двойник) в теле моем. Ты – Хнум (бог Ваятель), изваявший члены мои» (Кн. Мертв.). Это и значит: тело есть проекция духа, личности. Вот почему и абсолютное утверждение ее не есть бессмертие души, а воскресение плоти. LI Душа не рождается в новом теле, а только проходит сквозь него – «превращается». Эти превращения нужны ей для того, чтобы участвовать, вместе со всею тварью и самим Творцом, в творческой эволюции. Не в покое пребывают мертвые, а в вечном делании – «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» – борются со смертью и побеждают ее не только в себе, но и во всей космической плоти: и мертвые с живыми жизнь творят. LII Так как плоть человека может воскреснуть только с плотью мира, то их надо соединить. Для этого в тело умершего вкладывается, вместо вынутого сердца, изваянный из драгоценного камня Скарабей, Священный Жук (Ateochus sacer), изображающий сердце – малое солнце в теле человека, и солнце – большое сердце в теле мира. Имя Скарабея – Cheper – «становиться», «превращаться». Это превращение и есть «творческая эволюция», тот «стремительный натиск, который способен сокрушить все, что стоит на пути его, и опрокинуть многие преграды, – может быть, даже смерть». LIII С тою же целью кладется в гроб, под голову мумии лист папируса с молитвою к богу солнца, Ра: «О, Сокровенный, Амон, бодрствующий в небе! Обрати лицо твое к телу сына твоего… Имени его не забудь. Прийди к Озирису такому-то (имя умершего). Даруй теплоту под голову его. Он есть душа великого тела (Бога Ра), погребенного в Гелиополе. Имя его – Светозарный, Сущий, Ветхий деньми. Он есть Ты» (Кн. Мертв.). LIV Воскрешающее солнце должно согреть затылок, мозжечок умершего. Тут опять «материализм»; но за материализмом кажущимся – символизм подлинный. Сокол могучий, ширококрылый, Это из молитвы восходящему солнцу, а вот из другой молитвы солнцу заходящему: Когда за край неба нисходишь ты, LV Думать, что воскрешающая сила солнца – только физическая, значит ничего не понимать в египетском воскресении. Тут физическому, внешнему отвечает внутреннее. Недаром имя Озириса, солнца ночного: «Самый тайный из тайных богов», а имя Ра, солнца дневного: «Сокровенный». Для того чтобы воскресение могло завершиться вовне, в плоти человека и мира, оно должно начаться внутри, «в духе и истине». Вот почему мертвые, на Страшном суде, судятся перед лицом Истины, богини Маат. На одну чашу весов кладется сердце человека, а на другую – изваяньице Маат или перо легчайшее. И человек говорит сердцу своему: «Сердце мое, сердце матери моей! не восставай на меня, не свидетельствуй против меня…» Если стрелка на весах не дрогнет, чаша с сердцем не опустится, то человек оправдан и сам произносит свое оправдание перед лицом Озириса: «Я не делал зла, не насильничал, не крал, не убивал, не лгал… не прелюбодействовал… не гневался до ярости… Я никого не заставлял плакать… не отнимал молока у грудного младенца… не принуждал людей работать сверх сил… Я был отцом для сирот, мужем для вдов… Я питал алчущих, поил жаждущих, одевал нагих… я чист, я чист» (Кн. Мертв., 125). – «Войди в таинственную дверь Аменти» (загробного мира), – отвечает Озирис. И человек входит – воскресает (Кн. Мертв., 126). Десятисловие Моисеево не выше этого, и вообще выше нет ничего, до Нагорной проповеди. LVI Если же чаша с сердцем опустится, то человек осужден. Сердце – существо от человека отдельное, не эмпирическая, а трансцендентная личность, некий Бог, живущий внутри человека. Само оно грешить не может и восстает, свидетельствует против человека, если он согрешил грехом смертным, и тогда уже не возвращается к нему, отходит в «Обитель сердец», особую часть загробного мира, обрекая человека на «смерть вторую», без воскресения. «Умереть смертью второю» – величайший страх египтян. Так отвечает внутреннее внешнему, внутреннее солнце Истины, Маат, – внешнему солнцу мира, Амону-Ра. Но мертвых воскрешает не истина, а иное солнце, лучезарнее. LVII Когда скорпион укусил младенца Гора, сына Озирисова, то мать Изида возопила к солнцу, и оно не взошло, и ночь была на земле, пока бог Тот не сошел с неба, не исцелил Гора и не отдал его матери. С той поры читается над больными детьми молитва-заклятие Изиды: «Остановилось солнце и не сдвинется, пока дитя исцеленное не возвратится матери, так же как Изиде – Гор» (Меттернихова стела). Таково чудо любви – закон сверхъестественный, повелевающий законам естества. LVIII И самого Озириса что воскрешает? Изида плачет над ним: «Я – сестра твоя, я люблю тебя. Приди к своей возлюбленной! Приди к сестре-супруге твоей… Когда я увидела тебя, то возрыдала, возопила голосом громким, до самого неба, а ты не услышал… Я – сестра твоя, на земле тебя любившая; никто не любил тебя больше, чем я». LIX Ты побеждаешь любовью… Это говорит величайший царь Египта, Ахетатон-Уаэнра, «Сын Солнца Единородный», почти современник Моисея и, может быть, не меньший пророк, чем он, – тот, кто первый сказал Отцу: «Никто не знает Тебя, кроме Сына Твоего, Уаэнра». LX Сердце мира – солнце любви. Тайна сердца– любовь, тайна солнца – любовь, а тайна любви – Воскресение. LXI «Верующий в меня не увидит смерти вовек», – это мог бы сказать Озирис – тень Воскресшего. Тайна двух в Озирисе I «Не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их и сказал: будут два одна плоть» (Матф. XIX, 4–5). Так было в начале, в Завете Отца; так должно быть и в конце, в Завете Сына, ибо недаром же Сын повторяет слово Отца. Так должно быть, но, на самом деле, не так. «Не читали ли вы?» Да, читали, но не поняли. Именно здесь, в тайне пола, в Тайне Двух, всего ощутительнее, при совпадении обоих Заветов в неподвижном догмате, в статике, их расхождение в движущей воле, в динамике. II «Неужели христианин должен совершать половой акт вне молитвенного озарения, как бы во славу Велиара?.. Нет, признаю и исповедую, что и в момент совокупления с женою своею я так же должен мысленно, умом и сердцем, предстоять пред Богом, как предстою пред Ним, когда, во время священнослужения, нахожусь пред престолом алтаря Господня», – пишет протоиерей Устинский, благочестивый русский священник, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства, В. В. Розанову, едва ли не первому мыслителю, за две тысячи лет христианства, поднявшему религиозный вопрос о поле (В. Розанов. В мире неясного и нерешенного, 231). «Супруги ставят над изголовием кроватей, рядом сдвинутых, образ Божией Матери с неугасимо теплящеюся лампадою… Лампада не гасится, когда супруги приступают и к совокуплению… Св. Лик сверху близко взирает на них», – продолжает Розанов мысль о. Устинского. Но тот недаром прибавляет: «Да не назовет кто-либо этих слов моих кощунством». Казалось бы, где же кощунство, если брак есть таинство, и если «будут два одна плоть» есть слово Отца, повторенное Сыном? Да, в догмате так, но не так в святости. Св. Лик, взирающий на половое совокупление, это даже не кощунство, а трансцендентное безвкусие, смешение двух порядков, разноголосица, столь же невыносимая для религиозного уха, как для физического – скрежет гвоздя по стеклу. «Я должен в половом совокуплении предстоять пред Богом». Должен, но вот не могу. Разум соглашается, но все существо мое, весь телесный состав молитв: не надо! Этих двух огней соединить нельзя: один из них потухает – или огонь пола, или огонь святости. III Человек – стыдящееся животное. Но что такое стыд, откуда, зачем? Тайной стыда как бы задан вопрос уже в самом естестве пола, о природе его сверхъестественной загадана Божья загадка. IV У ассиро-вавилонской богини любви, Иштар, на лице покрывало с надписью: «Кто подымет покрывало с лица моего, – умрет». Стыд – покров лица Божьего в поле. V «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Адам, где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг“ (Быт. III, 9). Вот из какой глубины этот страх наготы, трансцендентный страх пола – стыд. „Будут два одна плоть“, сказано еще до грехопадения; когда же человек согрешил, пал, то пал на него и покров стыда и уже не подымется, пока человек не увидит „нового неба и новой земли“. Только здесь, на этой глубине, в этой первой точке, сходятся оба Завета, а потом чем дальше, тем больше расходятся, и больше, чем где-либо, именно здесь, в поле, в Тайне Двух. VI По учению пифагорейцев, существует земля и «противоземие»; так существует пол и противопол. Это как бы два полюса одной силы: половое притяжение и половое отталкивание, Эрос и Антэрос. Отношение обоих Заветов к этим двум полюсам противоположное. В Завете Отчем к Богу относится пол; в Сыновнем – противопол. Первый Завет обращен лицом назад, к райской невинности, к наготе человека до грехопадения, а Второй – вперед, к искуплению, к «одеждам, убеленным кровью Агнца». И можно сказать, что все содержание обоих Заветов, здесь в Тайне Двух, есть бесконечное борение пола с противополом, Эроса с Антэросом. VII Христос благословляет брак. Исполнение Церкви есть брак Христа-Жениха с Церковью. Но для нас все это алгебра без арифметики, отношения возможных чисел без данных, орех без ядра. Никто не может себе представить Христа иного, как безбрачного. Самая мысль о физическом поле в теле Христа, доведенная до конца, есть невообразимое кощунство. Тут половое отталкивание, сила противопола достигает крайнего напряжения. Сын Человеческий рождается, но не рождает; чтобы только помыслить, что Иисус родил, надо сойти с ума или ниспровергнуть Евангелие. Если даже пол и Евангелие, как две параллельные линии, сходятся в бесконечности, то это схождение непредставимо для нас. VIII Возможно ли богоощущение в поле, слияние половой чувственности с чувством религиозным? Невозможно, – отвечает опыт всей Сыновней святости; возможно, – отвечает опыт всей святости Отчей. Это и значит: два Завета сходятся только в неподвижной точке догмата, в статике, а в откровении движущем, в динамике, расходятся. На то, что о. Устинский утверждает в догмате: «в половом совокуплении я должен предстоять перед Богом», св. Григорий Богослов возражает в святости: «плотское рождение есть дело тьмы, рабское и страстное… Не иное что делает совокупляющийся, как уступает только наглым требованиям плоти» (В. Розанов. В мире неясного и нерешенного, 249). «Сквернави вси есьмы пред Тобою», – молится Церковь об очищении родильницы. Такова скверна пола, что само рождение сопровождается как бы временным отлучением от церкви родившей матери. Метафизически брак освящается, но не физически: половое совокупление, совершенное в церкви, есть невообразимое кощунство. IX И со св. Григорием Богословом соглашается в этом древнем опыте новообращенный в христианство иудей, Отто Вейнингер: «Все, что, кроме любви платонической, называется любовью, есть просто свинство» («Пол и характер», русск. перев., 299). «Половое совокупление есть действие животное, свинское, гнусное, не говоря уже о возведении его на степень глубочайшей мистерии» (Ibid., 353). «Половое совокупление отдаляет душу человека от Бога на расстояние безмерное», – замечает один протестантский богослов с простодушною точностью. Так слово Отца и Сына: «будут два одна плоть», забыто окончательно; пол побежден противополом, Эрос – Антэросом. X «Изображение гнусного члена сего ставили в праздничные дни бога Либера (Вакха) на телеги и везли в город с великою почестью», – сообщает св. Августин о фаллофориях, ношениях священного фалла, в языческих мистериях (De civit. Dei, VII, 21). И со св. Августином опять соглашается Вейнингер: «Мы ощущаем фалл, как нечто в высшей степени гнусное. Потому-то он и представляется всегда в каком-то отношении к сатане: средоточие Дантова ада (центр земли) занимают половые части Люцифера» (Ibid., 367). Это значит: в тело человека, созданное Богом, пол вкраплен дьяволом. Так ветхозаветная статика ниспровергается новозаветной динамикой: Сын против Отца. XI По тайному учению орфиков, «пуп земли», средоточие мира, есть омфал дельфийский – надгробный фалл, над растерзанным и погребенным богом Дионисом-Загреем (Philosophorum, V, 20). А для христиан фалл – средоточие ада. Так земля и небо опрокинулись. XII В христианской динамике пол и противопол сначала борют друг друга, а потом уничтожают. Наступает небытие пола в религии, половое безбожие, может быть, корень всех остальных безбожий, личных и общественных. «Знаменитый вопрос одного из героев романа Чернышевского „Что делать?“ касательно верности в супружестве: да почему не дать приятелю покурить из своей трубочки? – в сущности, так и остался без ответа» (В. Розанов). Это ниже зверства, – ведь и самец ревнует; это бездушный автоматизм пола. Тут «средоточие ада» выходит на поверхность земли, бездна становится плоскостью. И насколько это ужаснее всех половых ужасов! Адские огни их – ничто перед этою холодною мерзостью. XIII «Дух вынут, и умершее тело пола заражает зловонием своего разложения цивилизацию». «Я думаю, не можно ли эту цивилизацию послать к черту на рога, как несомненно от черта она и происходит» (В. Розанов. Люди лунного света, 268). Нет, не от черта, или не только от черта и не только от людей. Тут силы небесные колеблются; ось мира сдвигается, солнце поворачивается от лета к зиме; как предсказано: «В конце мира охладеет любовь». Любовь охладела – обледенела земля; наступила полярная ночь, ледниковый период пола. XIV Солнце Завета Отчего есть обрезанный, освященный Божьей печатью запечатленный пол. Ибо что такое «обрезание»? «И взял Моисей жену свою (Сепфору) и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю Египетскую… Дорогою, на ночлеге, случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови – по обрезанию» (Исх. IV, 20–26). Обрезание есть жениховство человека Богу, кровное, плотское. Завет брачный, брачный союз, половое совокупление человека с Богом. Это странно и страшно. И как об этом говорить нашими проклятыми словами, бесстыдно-дикими или анатомически-трупными? Тут, в самом деле, «язык прилипает к гортани, и бумага под чернилами горит, тлеет, проваливается» (В. Розанов). Но разве менее страшно и странно Боговкушение, питание человека Телом и Кровью Бога? «Какие странные слова! Кто может это слышать?» – ужаснулись ученики Его, когда услыхали об этом впервые. XV Кольцо обрезания – кольцо обручальное. «В обрезании устанавливалось вечное и невольное созерцание Бога, как бы через кольцо здесь срезанное» (В. Розанов. В Мире неясн., 124). «Крайняя плоть», самая огненная точка плоти, пол, посвящается Богу. Кольцом обрезания плоть мира к Богу возносится. …Цепь золотую спустив от высокого неба,((Ил. VIII, 19–26)) Звенья цепи – кольца обрезания, все равно, плотского или духовного, не только в Израиле, но и во всей языческой, Отчей древности. XVI Обрезание нашел Моисей на пути в Египет. Египет – первоисточник пола освященного. «Финикийцы и сирийцы, живущие в Палестине (т. е. Израиль), сами сказывают, что обрезанию научились они у египтян», – сообщает Геродот (II, 104). На одной шифровой дощечке (палитре) прэтинитской, додинастической древности (V–VI тысячелетия), воины из полудикого племени северо-восточной Африки, враги Египта, уже обрезаны. А у самих египтян существовало обрезание еще с каменного века. Вот почему и Сепфора употребляет не новый, железный (железо – начало войны – от Сэта и Каина, братоубийц), а древний, мирный, каменный нож. XVII В том же каменном веке египтяне хоронят мертвецов в согнутом положении утробных младенцев, чтобы легче им было рождаться в тот мир – воскресать. Так первая мысль Египта о воскресении соединена с мыслью о поле, и уже никогда эти две мысли здесь, в Египте, не разлучатся. XVIII Однажды фиванец Памилий услышал из глубины святилища Амонова таинственный голос: «Возвести людям рождество Озириса, великого царя, спасителя мира» (Plut., Isid. et Osir.). В память этого благовещения, по всему Египту, установлено празднество «памилий», фаллофорий, торжественных ношений фалла Озирисова. Геродот повествует о них: «Египтяне, вместо фалла, делают человеческое изображение вышиною в локоть, приводимое в движение бечевою. Жены носят их по городам и селам; мужской член у этих изображений не меньше всего остального тела… Впереди идет флейтщик, и жены следуют за ним, воспевая Вакху (Озирису). А почему эти изображения имеют член столь великий и почему жены приводят в движение только этот член, о том есть у них святое слово, 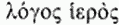 ; но мне не должно его открывать» (II, 48). XIX Плутарх объясняет: «Озирис итифаллический (с поднятым фаллом) знаменует плодородие» (Isid. et Osir., 51). Современные ученые этому поверили и в египетской религии фалла не увидели ничего, кроме полового натурализма, грубого и плоского. Сведение религиозной глубины к плоскости свойственно современным ученым. Но ведь связь пола с деторождением столь очевидна, что тут ни скрывать, ни открывать нечего; о чем же тогда «святое слово» Геродота? И, наконец, деторождение относится не к смерти, а к жизни. Почему же все боги Египта в изображениях итифаллических – только мертвые? Вот Озирис, выходящий из гроба, по рукам и ногам обвитый пеленами смертными, с поднятым фаллом, прорывающим эти пелены, как бы итифаллический Лазарь. Что это значит? Как могли дойти египтяне, «самые благочестивые» и «самые здоровые» люди в мире, по Геродоту, до такого противоестественного и кощунственного образа? XX Когда христианские копты-монахи увидели итифаллического Озириса на стенах гробов и святилищ, то кинулись с отвращением и ужасом соскабливать, разбивать молотками, уничтожать «сей гнусный член», «средоточие ада». Адом сделалось для них египетское небо; земля опрокинулась. Но как ни противоположны эти два полюса, само ощущение на том и на другом одинаково – половое ощущение трансцендентного. XXI Тут-то и начинается 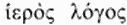 , «святое слово» Египта о поле. «Пол выходит из границ естества; он вне-естествен и сверх-естествен… Это пропасть, уходящая в антипод бытия… образ того света, здесь и единственно здесь, выглянувший в наш свет» (В. Розанов, ibid., 110). В сплошной стене, отделяющей тот мир от этого, пол есть единственное окно, открытое место: сам Бог открыл его в плоти Адама и опять «закрыл плотью», но уже иною, более прозрачною, как бы стеклом в окне. Через это-то стекло мы и заглядываем из этого мира в тот. Пол – единственное кровно-телесное «касание мирам иным». XXII Половая жажда есть жажда познания, любопытство к трансцендентному. Адам вкусил от древа познания, древа смерти – «познал» Еву и умер. Так и мы познаем в любви смерть; в восторгах любви умираем заживо, уходим «туда», на краткий миг, и опять «сюда» возвращаемся. Но, чтобы вернуться, надо забыть то, что мы видели там. Мы забываем окончательно; египтяне смутно помнят. Смерть сквозь пол, пол сквозь смерть – вот богоощущение, богопознание Египта глубочайшее и наиболее противоположное нашему. XXIII «Будут два одна плоть» – будут, но еще не суть в любви рождающей, смертной, ибо умирает все, что рождается; будут – в любви бессмертной, воскрешающей. Нет, не «плодородие», не рождение и смерть знаменует фалл Озириса, а воскресение. XXIV «Вы, боги, из фалла исшедшие, руки мне ваши подайте!» – молит мертвец, восстающий из гроба (Кн. Мертв., 18). Боги изошли из крови фалла первичного бога Атума, себя самого оскопившего, потому что для Египта бессознательно не только пол, но и противопол в Боге: тут уже смутно предчувствуется соединение Отца с Сыном. XXV «О, фалл Озириса, восстающий для истребления мятежных (врагов Божиих)!.. Я фаллом твоим крепче крепких, могущественнее могущественных», – исповедует умерший-воскресший. Это и значит: пол есть орудие силы воскрешающей. Как смертью смерть, так полом пол побеждается; через пол, через смерть – к воскресению. XXVI В «Книге Мертвых», в заглавном рисунке к CLIV главе: «О том, чтобы не дать телу истлеть», на лежащую Озирисову мумию нисходит солнечный диск с тремя лучами над областью пола, и средний луч образует как бы прямо стоящий фалл: умерший совокупляется с солнцем воскрешающим: «Я не познаю тления; червь не коснется меня. Я есмь, я есмь. Я жив. Я расту, я расту. Я не познаю тления». XXVII В другом изображении прорастает жатва из тела Озирисова: все оно, с головы до ног, колосится густою щетиною копьевидных колосьев, как бы поднятых фаллов (Champol., I v., pl. XCIX). Из современной биологии мы знаем, что пол заключается не только в половых частях, но и во всем теле, в каждой клетке. Пол шире тела; не в теле пол, а тело в поле. В «Книге Мертвых» фалл бога Озириса отожествляется с самим богом. Вот почему и все воскресающее тело фаллично, насыщено полом, но не грубым, земным, а тонким, «астральным», как силой воскрешающей, ибо умерший должен воскреснуть, зачать и родить себя самого в вечность. XXVIII Что значит «астральный» пол? «Пол уже не есть вовсе тело… Тело клубится около него и из него, как временный фантом, которым он скрыт, как неумирающий и по-ту-светный ноумен, как лицо порядка «Сый» в нас: «Сый» («Сущий» – Иагве), так будешь ты называть Меня» (В. Розанов. В мире неясн., 123). «Самый ком земли, из которого образовано это место (половое), вовсе иного происхождения, чем прочие части тела, и относится к ним, например, как метеоритное железо к обыкновенному» (ibid., 111). Пол есть «инкрустация в тело» (ibid., 318). Вот почему египтяне иногда отрезают фалл у покойника – вынимают «инкрустацию» – бальзамируют отдельно и кладут рядом с мумией, в маленький деревянный позлащенный обелиск – солнечный луч – фалл. И здесь опять половое совокупление умершего с солнцем. Вот почему и богиня Изида находит все части растерзанного тела Озирисова, кроме фалла: «инкрустация» выпала; фалл исчез, ушел туда, откуда вышел – из этого мира в тот. И богиня заменяет недостающий земной, эмпирический фалл неземным, трансцендентным – «священным изображением из сикоморового дерева». Оно-то и знаменует воскресение в египетских фаллофориях. XXIX Сын отвращается от пола Отчего; это для Сына в Отце – самое страшное, тайное, непостижимое, невидимое, трансцендентное. Так и для нас, находящихся в Завете Сыновнем, пол в Отце невидим. «И приходил Я (Господь) мимо тебя (дщери Израиля), и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Ты выросла… и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волосы у тебя выросли… И вот это было время твое, время любви; и простер я воскрылия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою… и ты стала Моею» (Иезек. XVI, 6–8). Мы это глазами читаем и глазами не видим. Брачный союз Бога с Израилем, – вот что значит: «жених крови по обрезанию». Бог – Жених, Невеста – Израиль. Обрезывается мужской, эмпирический пол (обрезание – «Оскопление» малое), выявляется пол трансцендентный, женский: по Вейнингеру, весь Израиль есть «Абсолютное Ж» (Пол и характер, 377). И «огнь поядающий» в Боге есть огнь половой ревности. «Ты стала блудить… и сделала себе мужские изображения (фаллы) и блудодействовала с ними… и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего… За то вот, Я соберу всех любовников твоих… и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой… и предам тебя кровавой ярости и ревности» (Иезек. XVI, 17–38). Опять глазами читаем и глазами не видим, а если видим, то ужасаемся, отвращаемся. Так, впрочем, и должно быть: для погруженных в эмпирическое все трансцендентное ужасно и отвратительно. Но стоит только сравнить написанное здесь с изображенным на стенах египетских гробов и святилищ, чтобы понять, что бог Египта, Амон-Ра-Озирис, и Бог Израиля, Иагве – Элогим – один и тот же Бог итифаллический, и что религия фалла есть религия всей Отчей древности. XXX Зачем же все это? Зачем пол в религии? А вот зачем. Весь древний Египет под знаком святого пола; мы под знаком пола проклятого; и смысл Египта – бесконечный мир, воскресение мертвых; а наш смысл – убиение живых, война бесконечная. Заповедь Египта: «воскресни», наша: «убей». Если мы хотим вернуться от смерти к жизни, то должны вспомнить о Завете Отчем, о святом поле. XXXI «Озирис» по-египетски – Usiri; «Изида» – Usri. Одно слово с двумя окончаниями, мужским и женским: Озирис и Озириса, Он и Она – Андрогин, Мужеженщина. XXXII Скарабей, священный жук солнца – тоже Он и Она, самец и самка вместе. Имя его cheper – «быть», «становиться» – самозарождаться, рождаться без отца и матери. Скарабей – сам себе отец и мать; с самим собой совокупляется, складывает семя в земле, и, смесив его с нею, наподобие яйца или шара, катит, как солнце, от востока к западу. Старый жук умирает, а новый из яйца вылупляется, как душа из мумии, и летит, окрыленной, к солнцу. Это окрыление – исступление любви совершенной, двуполой. XXXIII В «Повести о двух братьях», древнейшей повести мира, Бата-Озирис, соблазняемый женою брата своего, Анупы-Сэта, оскопляется. Бата говорит жене своей: «Я – женщина, как ты». «Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного», – это слово как будто услышал Бата. Но Бата-Озирис оскопившийся, и Озирис итифаллический – один и тот же бог. Это мнимое «скопчество» есть фаллизм подлинный, только обратный, как бы на оси своей повернувшийся: эмпирический пол ущербляется, трансцендентный – выступает. Скопчество для царства небесного есть самый огненный пол в противополе. Эрос в Антэросе. Тут не пустота, а полнота пола, как бы нерасплесканная, до Бога донесенная чаша любви. XXXIV По данным современной биологии, «в мире человеческом, так же как в мире животном и растительном, нет однополых особей, все промежуточны между двумя полюсами, мужским и женским» (Вейнингер, ib., XV). В каждом мужчине есть тайная женщина; в каждой женщине – тайный мужчина. Неземная прелесть мужчины – женственность; женщины – мужественность. Эмпирический пол противоположен трансцендентному. Вот почему в Египте всякий умерший, как мужчина, так и женщина, есть Озирис, и к подбородку женской мумии приставляется узкая, длинная плетеная бородка Озирисова. С такою же бородкою, в мужском одеянии, изображается, по вступлении своем на престол, царица Хатшопситу, супруга Тутмеса III – настоящая Venus Barbata. И вот почему в теле растерзанного бога исчезнувший фалл заменяет богиня «священным изображением» – своим собственным, трансцендентным фаллом. Это смешно и нелепо? Да, но для погруженных в эмпирику все трансцендентное нелепо и смешно. XXXV И здесь, как везде, Израиль вторит Египту. «И сотворил Элогим человека по образу Своему; по образу Элогим сотворил его; мужчину и женщину, сотворил их» (Быт. I, 27). Сначала: его, а потом: их. Образ Божий в человеке – два в одном, не Адам, а Адамо-Ева, потому что сам Бог – два Бога, Элогим, Он и Она – Мужеженщина. И Талмуд объясняет Бытие: «Муж и Жена были в начале одно тело и два лица; тогда рассек господь тело их надвое и каждому дал хребет» (Midrasch Bereschit Rabba). Точно так же, в Платоновой сказке, Зевс рассекает Андрогинов, «как яйца, когда солят их впрок и режут на две равные половины волосом» (Plato. Sympos.). XXXVI Тайна Одного в Тайне Двух есть личность в поле. «Личность есть равноденствие обоих полов» (В. Розанов. Люди лунного света, 285). «Пребывать в половой разделенности – значит пребывать на пути к смерти… Кто поддерживает корень смерти, тот вкусит и плоды ее. Бессмертным может быть только целый человек» (Вл. Соловьев. Смысл любви. Собр. соч., VI, 393). Пол есть половина личности, мужская или женская. Корень смерти есть половой расщеп, распад личности. Сквозь это-то «открытое место» в теле, где прошел «волос, яйцо разрезающий», и входит смерть. А смерть победить, воскреснуть – значит восстановить целую личность, исцелить зияющую рану пола. Целая, исцеленная личность для смерти закрыта, замкнута, как совершенный круг или шар – «солнечный шар» Скарабея, «двуполый шар» Андрогина. XXXVII Половая любовь есть неконченный и нескончаемый путь к воскресению. Тщетно стремление двух половин к целому: соединяются и вновь распадаются; хотят и не могут воскреснуть – всегда рождают и всегда умирают. Половое наслаждение есть предвкушение воскресающей плоти, но сквозь горечь, стыд и страх смерти. Это противоречие – самое трансцендентное в поле: наслаждаюсь и отвращаюсь; то да не то, так да не так. XXXVIII Первый человек, бессмертный, до грехопадения, есть Адамо-Ева, Мужеженщина; и Последний, Воскресший – тоже. «Взгляните на изображение Его… Нежное, прекрасное лицо, прекраснейшее на земле… Девство, нежность, женственность, просвечивающая сквозь мужские признаки… Две природы в нем, и полнота в Нем человечности, закругленная, завершенная, чего и не может быть только в одном мужском или только в одном женском» (В. Розанов, ib., 189). Так и должно быть в Том, Кто смертью смерть попрал, и полом – пол. XXXIX Св. Климент Александрийский сохранил не записанное в Евангелиях изречение Господа, аграфон: «Спросила же Его Саломея: Когда придет Царствие Твое? И сказал Иисус: Когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского» (Clemens Alexandr. Stromata, III, XIII, 92). Что это? Половой ужас, безумие, тьма, или нечаянная радость, неведомая мудрость, невидимая часть солнечного спектра, ультрафиолетовый свет, темные лучи? XL Пол есть радий, источник темных лучей, темное солнце в теле человека и мира. Радий жжет, язвит, мертвит, но и живит, исцеляет, воскрешает. Если вынуть из мира это ночное солнце, то и дневное потухнет. XLI Один ожог темных лучей Египта – в божественной двуполости, другой – в кровосмешениях божественных. Союз братьев с сестрами для египтян – святейший союз. «Сестра моя, жена моя», вот самое чистое для них слово любви. Цари Египта – суть «сыны бога Солнца», и только дети, рожденные от священных, кровосмесительных браков, сохраняя в жилах своих чистоту «солнечной крови», могут наследовать царский престол. XLII Женился ли Рамзес II на двух дочерях своих, мы хорошенько не знаем, но знаем наверное, что в царском роду Псамметихов, царей египетских, а также Селевкидов, царей сирийских, находившихся под влиянием Египта, существуют «богоподобные» браки отцов с дочерьми, сыновей с матерями. Селевк I разводится с женой своей, Стратоникой, и отдает ее в супруги сыну. Антиох обручается с родной матерью, Клеопатрой-Селеной, бог Солнца – с богиней Луны. XLIII В кровосмешениях люди подражают богам, потому что все браки богов кровосмесительны. Каждое утро бог солнца, как младенец, рождается от небесной богини Нуит; каждый полдень, как муж, зачинает от той же богини, матери своей, новое солнце, себя самого. «Я – Амон, который мать свою сделал беременной». Изида – сестра, супруга и мать Озириса: он рождается от нее в тот мир, воскресает. «Возьми в уста твои сосец Изиды, сестры твоей, и соси устами твоими молоко матери твоей» (надпись на пирамиде Унаса). Тут уже не простые числа, а логарифмы половых беззаконий, лестница кровосмешений. И, наконец, метафизический предел их. «Ты – Скарабей со сложенными крыльями, как собственный сын свой, рождаешься», – говорится первичному богу, Атуму-Ра, Мужеженщине. Так восходящая лестница кровосмешений есть путь к божественной двуполости, к целой Совершенной Личности: «Когда будут два одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского, придет Царствие Небесное». XLIV В одной из самых «магических» повестей Гоголя («Страшная месть»), писателя, кажется, вообще наиболее «магического» во всемирной литературе, потому что наиболее насыщенного «половым радием», – старый колдун влюблен в дочь свою, Катерину. «Страшно, страшно!» – повторяет Гоголь, но сам не понимает, что с ним происходит; соблазняется этими «чудесами радия», как будто смутно предчувствует сверхъестественное в противоестественном. От этих-то соблазнов он и погиб, испепеленный ожогами темных лучей. XLV Колдун, влюбленный в дочь свою, – «чертов брат», «антихрист». Но вот, по наблюдению Вейнингера, невинные отроки, в сновидениях, испытывают половое влечение к матерям своим (Вейнингер, ib., 264). Первые ангельские грезы любви кровосмесительны. Так, в естестве пола заложена противоестественность, а может быть, и сверхъестественность. Кто-то здесь прошел и оставил во тьме светящий след: прошел оттуда, из вечности во время, и след – закон деторождения; прошел туда, из времени в вечность, и след – половое беззаконие в религиях. XLVI Кровосмешение Эдипа – безысходная трагедия, неразгаданная тайна Сфинкса (Египта), потому что здесь уже потерян смысл «божественных кровосмешений»: трагедия есть непонятая мистерия. XLVII В половых беззакониях «пол идет против естества и рушит законы его… Чрево мира как бы пробуравливается, и в узенькую воронку потрясающего случая мы разглядываем еще второе над или под миром чрево; еще землю и опять небо – звездное же, но уже не с нашими созвездиями, – лилейное, но где цветы уже не наших садов» (В. Розанов. В мире неясн., 116–117). Как же полу не идти против естества своего, не рушить законов своих, когда эмпирический закон пола – рождение и смерть, а трансцендентная воля его – воскресение? XLVIII В чем ужас кровосмешения? Сим и Иафет, «шли задом», пятились к отцу своему Ною, чтобы покрыть наготу его (Быт. IX, 23); отворачивались, рожденные от родившего, по естественному течению пола во времени, ибо таков основной закон бытия: все уносится вниз по течению времени. Но вот, в кровосмешении, этот закон ломается: рожденное поворачивается лицом к родившему; рождает оттуда, откуда само родилось, и тем самым как бы поворачивает время назад, заставляет реку течь вспять. Происходит как бы трансцендентный, в самом теле человека, вывих времени. В этом ужас кровосмешения, а в чем соблазн? Закон времени, закон пола: рождение – смерть. В беззаконнейшем из половых беззаконий, в кровосмешении, человек восстает на этот закон: не хочет рождаться, потому что не хочет умирать. Если все уносится вниз по течению пола и времени к смерти, то надо повернуть течение назад. «Последний враг», смерть, гонит человека, и он бежит; но вдруг останавливается, поворачивается лицом к врагу, чтобы сразиться и, может быть, победить. Сам человек этого сделать не может, но за него делают боги в кровосмешениях, и он подражает богам. О, конечно, в древнем Египте это не сознавалось и не говорилось так, как я сейчас говорю! Там все темно, слепо и немо. Но тем изумительнее, что глаз еще не видит, а рука уже осязает, находит во тьме ощупью. XLIX Надо ли говорить, что загадка Сфинкса разгадана, закон «кровосмешений божественных» отменен для нас Тем, Кто сказал: «Я и Отец одно?» L И, наконец, последний, сильнейший ожог «темных лучей» – половая любовь живых к мертвым. Гоголь знал и об этом. Прекрасная панночка-ведьма скачет верхом на молодом бурсаке Хоме Бруте; но он отмаливается, сам вскакивает на нее и, загоняв до смерти, влюбляется в мертвую. «Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей – и не мог, несколько вздрогнувши, не зажмурить глаз… Такая страшная, сверкающая красота!.. В чертах лица ничего не было тусклого, мутного, умершего: оно было живо» («Вий» Гоголя). Жизнь сквозь смерть, пол сквозь смерть – вот в чем соблазн этого ужаса. Тут, в самом деле, «чрево мира пробуравливается, и сквозь узенькую воронку потрясающего случая мы разглядываем второе небо, но уже не с нашими созвездиями, – лилейное, но где цветы уже не наших садов». LI «Жен именитых мужей (в Египте), когда умирают они, не тотчас отдают бальзамировать, особенно тех, которые славились красотой своей, но дня через три или четыре (когда начинается тление). Делают же это для того, чтобы не совокуплялись с ними бальзамировщики», – повествует Геродот (II, 89) уже почти с нашею, медицинскою, юридическою и теологическою грубостью, ничего не понимая в этом «потрясающем случае». Ничего не понимаем и мы, «христиане», терпящие проституцию, совокупление живых с живыми трупами. Но Данте, лобзая последним лобзанием Беатриче в гробу, может быть, понял бы: истинною любовью любят живые только мертвых; только в разлуке смертной понимает любящий, что любовь есть путь к воскресению. «Сыны воскресения не женятся, ни замуж не выходят, ибо равны ангелам» (Лук. XX, 35–36). Но что же такое любовь-влюбленность, самое небесное из чувств земных, как не греза о небе на земле уснувшего Ангела? И почему сыны воскресения суть «сыны чертога брачного»? Уничтожен ли грешный пол святым, или преображен, – в этом, конечно, весь вопрос. LII И вот опять не знаю, как говорить о святом проклятыми словами; опять «язык прилипает к гортани, бумага под чернилами горит, тлеет, проваливается». В Абидосском храме фараона Сэти I, и на гробнице Озирисовой, саркофаге из черного базальта, в Абидосском некрополе, и в тайном притворе великого Дендерахского святилища, повторяется одно изображение: на смертном ложе лежит Озирисова мумия, окутанная саваном, – воскресающий, но еще не воскресший мертвец с поднятым фаллом; и богиня Изида, ястребиха, парящая в воздухе, опускается на него, живая совокупляется с мертвым (Mariette. Danderach, IV, р1. 68–70, pl. 90 – A. Moret. Rois et Dieux d’Egypte, 136, pl. X). «Лицо Изиды светом озарилось, обвеяла крылами Озириса и вопль плачевный подняла о брате… Воздвигла члены бездыханного, чье сердце биться перестало, и семя извлекла из мертвого» (Гимн Изиде. Wallis Budge. Osiris and Egypt. ressurection, 94). Сестра совокупляется с братом, мать – с сыном, животное – с трупом. Какое нагромождение половых ужасов и мерзостей, и это – в самом сердце Египта – святыня святынь! О, разумеется, никто из нас, безбожников, скопцов и распутников, не способен задуматься, как благоуханнейший, небеснейший цветок земли – Египет – мог вырасти из этого «ужаса» и этой «мерзости»! LIII Приди в твой дом, приди в твой дом, Возлюбленный! Так плачет Изида над мертвым телом Озириса. LIV И Песнь Песней вторит Египту: * * *На ложе моем, ночью, * * *Пленила ты сердце мое, Положи меня, как печать, на сердце твое, Две тысячи лет Церковь Христова поет эту песнь торжествующей любви, а мы не слышим, не понимаем. Несчастные безбожники, жалкие скопцы и распутники! Воистину, надо иметь в жилах кровь мертвеца, чтобы не понять, что нет на земле и не будет большей любви, чем эта. «Никто на земле не любил тебя больше, чем я!» – «Крепка, как смерть, любовь». Это и значит: любовь сквозь смерть, сквозь смерть воскресение. LV Первый Озирис, растерзанный, есть тень Распятого, второй, воскресающий, – тень Воскресшего; а третий, тот, кого назвать, на кого мы даже взглянуть не смеем, – чья тень? LVI С бытием соединен Апокалипсис больше, чем Евангелие, и как бы над Евангелием, ветвями Древа Жизни, с «листьями для исцеления народов» (Апок. XXII, 2). Для исцеления всех ран – и зияющей раны пола. В Евангелии – «скопцы, которые делают сами себя скопцами для Царства Небесного»; в Апокалипсисе – «Жена, облеченная в солнце, имеющая во чреве» (XII, 2). В Евангелии – Жених без Невесты; в Апокалипсисе – брачная вечеря Агнца; «и Дух и Невеста говорят: прииди!». «Приди к твоей Возлюбленной, приди к Сестре твоей!» «Положи меня, как печать, на сердце твое», – это слово Невесты услышал весь Отчий Завет, от Египта до Израиля. Но, пока не услышит его и Завет Сыновний, от Евангелия до Апокалипсиса, не кончится начатый путь – от Тайны Одного, через Тайну Двух, к Тайне Трех. Конец Египта I «Так говорит Господь: опустеет Египет среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что Я – Господь» (Иез. XXX, 6–8). Это пророчество исполнилось и доныне исполняется. Над другими землями опустошение проходит однажды, а над Египтом всегда. На другие народы смерть дохнет, и умирают, а на Египет дышит – и смерти нет конца. II Багрово заходящее солнце на великой Фиванской равнине, затопленной половодием Нила, отражается в воде длинным столбом между двумя колоссами Мемнона; каждый из них – исполинская глыба песчаника – фараон, сидящий со сложенными на коленях руками, в торжественном покое; а там, на краю пустыни, караван верблюдов тянется, так же как во дни Авраама и Иосифа. Когда же сходит вода, то по всей равнине, в высоких травах, видны разбросанные члены других низверженных колоссов, как на поле битвы гигантов. Такое поле битвы – весь Египет. III В Бибан-эль-Молуке, Долине Царей, бесчисленные мумии разбросаны, раздеты, раздроблены. Стопы проходящих топчут члены некогда тщательно набальзамированных тел, или напитанные драгоценными смолами ткани, в которые они были закутаны. «Бедуины мои выбрасывали копьями тысячелетние трупы» (А. Норов. Путешествие в Египет, II, 91). Весь Египет – такой обесчещенный труп. IV «Я – Озимандий, царь царей. Кто хочет быть велик, как я, да узрит, где я покоюсь, и да превзойдет создания мои», – так гласила надпись на одном колоссе, поверженном в Мемнонии (Диод. Сицил.). Но от величия царя Озимандия не осталось даже имени. V «Я никогда не забуду, как на восходе солнца вдруг две гигантские тени быстро потянулись от колоссов Мемнона по всей долине разрушения и полегли главами своими на хребте Ливийских гор, там, где погребен их фараон» (А. Норов, II, 91). Такие тени – все тысячелетия славы египетской. VI «О, Египет, Египет! одни только предания останутся о святости твоей, одни слова уцелеют на камнях твоих, свидетелях благочестия твоего… Наступят дни, когда будет казаться, что египтяне тщетно служили богам так усердно и ревностно, потому что боги уйдут на небо, и люди на земле погибнут. Ты плачешь, Асклепий?.. Но придут еще горшие бедствия: сам Египет, некогда святая земля, станет примером несчастия, и тогда отвращение к миру овладеет людьми, и мир перестанет внушать им благоговение… Так наступит ветхость мира». И мир истребится огнем (Hermes Trismeg. Asclepios, XXIV). VII «Тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (Вт. Петр. III, 10). Dies irae, dies illa VIII «He знаю как, но Гермес предугадал почти всю истину», – говорит отец церкви, Лактанций, о пророчестве Гермеса (Divin. Instit. IV, 9). IX Конец Египта – конец мира, по Гермесу. Если корень есть Египет, а дерево – человечество, то корень исторгнется только вместе с деревом; и если Отчий Завет, от Египта до Израиля, есть начало мира, то это начало до конца останется. Египет не только был в веках, но и будет в вечности. Не позади, а впереди нас – вечный Египет. Все наше движение вперед, весь «прогресс» оказался мнимым: думая идти вперед, мы шли назад, и вот куда зашли – в антропофагию. Если уже созрел этот плод «прогресса» у одного христианского народа, то почему бы не созреть ему и во всем человечестве? Озирис, бог мира, уничтожил антропофагию, а Сэт, бог войны, возобновил. Мир начался Египтом и нами кончается. Какое славное начало и какой презренный конец! Х Да, мнимым оказался «прогресс». По сравнению с Египтом, мы дики и скудны. Но при всей нашей скудности мы могли бы иметь в прогрессе, не мнимом, а подлинном, то, чего нет у Египта; мы пали ниже, но могли бы восстать выше, чем он; мы погибаем, но могли бы спастись вернее, чем он. XI Казалось бы, исходная точка Египта есть борьба двух непримиримых начал, злого и доброго, Сэта и Озириса. Казалось бы, так, но так ли на самом деле? Кто Озирис, Египет знает; но не знает, кто Сэт: зло или добро, отрицание или иное утверждение, диавол или иной Бог? Этого Египет не знает, не может или не хочет знать; не делает между Богом и дьяволом окончательного выбора. Тут в религиозном знании, в религиозной воле Египта – неразрешимая двойственность. XII Нет одного Египта, есть два: Нижний и Верхний, полуночный и полуденный. Красный и Белый, Сэтов и Озирисов (или Горов, потому что Гор – Озирис воскресший). После поединка Сэта и Гора отец их, бог земли, Гэб, разделил между ними Египет поровну. «Так примирились они, сделались братьями и больше не спорили» (Roeder. Urkunden, 168). «Примиритесь же, – говорит им богиня Изида. – Это лучше для вас, чем друг друга терзать. Воистину, бог Тот (бог меры) слезы ваши высушит» (ib., 166). Вот почему средоточие Египта – святилище Пта, Мемфисского верховного бога, именуется «Весами Обеих Земель»: на одной чаше весов – Египет Верхний, царство Горово, на другой – Нижний, царство Сэтово (ib., 168). И равновесие весов есть вечная недвижимость Египта. XIII Сэт-Гор или Сэт-Озирис, с двумя головами на одном теле, воплощает эту религиозную двойственность (Lepsius. Denkm. III, 234 b). И царь – тоже: на челе его две короны, белая и красная, Горова и Сэтова, соединяются; имя царя: Set neb, Hor neb, «совершенный Сэт, совершенный Гор». Двойственность – не только в мире этом, но и в том: умершего берет за одну руку Гор, за другую – Сэт, и оба возводят его на небо (пирамида Унаса). Сэт – «ужас» только для слабых: после борьбы и победы умершего Сэт примиряется с ним. Для нас этот двойной бог – Usiri-Seti, Hor-Seti – из всех богов самый невозможный, немыслимый – Бог-Диавол. XIV В самом Египте отвращение и тяготение к Сэту борются: недаром Сэт – брат Озириса и братоубийца. Воинственные цари Тутмесы и Рамзесы возобновляют богопочитание Сэта. А Сэти I – имя его от бога Сэта – в своей гробничной надписи именуется Usiri (Озирис), дабы не называть слишком страшного имени Сэтова; слишком страшного или святого, этого Египет не знает, не может или не хочет знать. Тут как бы «темная вода» в глазу Египта. Проклинает Сэта, но не до конца; благословляет, и тоже не до конца. Только что начертанное Рамзесами и Тутмесами имя его последние цари Нового Царства стирают, соскабливают, разбивают молотом. Неодолимо отвращается от бога войны египетская милость, мирность, невоинственность. Братство или братоубийство, мир или война, Озирис или Сэт? В этом вопросе безответном – весь смысл Египта. XV Равновесие весов Мемфисских неустойчиво; ненадежен мир Бога с диаволом: только что помирившись, возобновляют войну. Каждое утро Сэт побеждается Гором; каждый вечер Гор – Сэтом, и битве нет конца. XVI Сэт не диавол: вообще в египетской религии нет диавола, нет последнего зла, а потому и нет последней борьбы, динамики, цели, конца. Нужен ли вообще конец, Египет не знает: в этом его бессилие. XVII Как будто здесь, в Египте, человек уже вкусил от древа познания, но яд еще не разлился по жилам; человек уже просыпается от райского сна, но еще не проснулся; уже изгнан из Эдема, но еще стоит на пороге и смотрит назад. XVIII Человек вышел из рук Божиих. Источник света – позади. От света отходит Египет, и свет для него умаляется. Религиозная двойственность Египта и есть это умаление света, наступающие сумерки. В свете изначальном воскресение совпадает с концом этого мира, началом того, а в наступающих сумерках идея конца потухает, оба мира не соединяются, а только смешиваются, и воскресение становится «повторением жизни» – nemanch. Все, что было в веках, повторяется в вечности с совершенным тождеством. Вот сухой лист падает, кружится в воздухе; так падал и кружился он, будет падать и кружиться бесконечное множество раз, из вечности в вечность. Вдруг мелочи жизни сцепляются, как стеклышки в калейдоскопе, незнакомо-знакомо, чуждо-родственно, и я ощущаю с трансцендентною ясностью: Все это уж было когда-то, Мировые круги, циклы, повторяются; конец каждого старого есть начало нового; или не начало, не конец, а только продолжение, возвращение вечного круга. XIX Египетский nem-anch есть орфический «апокатастазис» (возобновление мира). «Через бесконечно долгие промежутки времени светила небесные уклоняются с пути своего, и тогда все на земле истребляется огнем»; происходит апокатастазис; то положение звездного неба, какое было при начале мира, восстановляется, и мир начинается сызнова («Тимей» Платона). В мире новом душа вселяется в старое тело, опять живет, опять умирает – и так без конца. Колесо катится не по земле, а вертится в воздухе – движение недвижное. Ужас дурной бесконечности – ужас египетских сумерек. XX Озирис – вечная мумия, воскресающий, но не воскресший мертвец. Воскресения окончательного нет – есть только усилие к нему бесконечное. XXI Тайна о трансцендентности божеской еще сохраняется в мудрости жреческих школ, а в вере народной уже потеряна. Меркнет сознание Бога, сущего над миром. Грань между миром и Богом стирается, происходит не соединение, а смешение двух порядков. Что человек будет Богом, помнится, а что он еще не Бог, забывается. Не в существе между ними разница, а только в мере, в степени. Богоподобие людей подменяется человекоподобием богов. Боги те же люди: стареют, болеют, умирают и воскресают – воскрешаются. Все египетское богослужение есть не что иное, как воскрешение умерших богов. Изваяние бога есть мертвое тело его. Подобно Озирису, все боги Египта – вечные мумии, мертвецы не воскресшие. Когда царь-жрец вступает в святилище, то всякий бог есть труп Озириса, убитого Сэтом: так же растерзано тело его, раздроблены кости, голова отрублена. Два обряда, богослужебный и погребальный, тождественны: тем же орудием, в виде солнечной змейки-урея, отверзаются уста обеих мумий, человеческой и божеской; теми же мастями обе умащаются; теми же курениями окуриваются; те же румяна для щек и сурьма для глаз предлагаются обеим. Обнимая умершего бога, жрец вдыхает в него дыхание жизни. И цель богослужения достигнута, когда божеский труп оживает в объятиях жреца. Но ненадолго: опять умирает, опять воскрешается – и так без конца. XXII Смертные боги Египта – слишком люди. Приступая к священнодействию, жрец успокаивает бога: «Я пришел не для того, чтобы бога убить; воистину, пришел я для того, чтобы оживить бога». Что же это за Бог, которого нужно так успокаивать? XXIII Обожествление человека, очеловечение Бога – между этими двумя пределами мысль Египта кружится, бьется, изнемогает. Полный свет Египта – в богочеловечестве, сумерки – в человекобожестве. «Царь есть Бог», на этом строится весь Египет. Можно сказать, что нигде никогда не бывало такой совершенной теократии. Это уже хилиазм, «тысячелетнее царство Божие», но в смысле обратном христианскому: хилиазм в настоящем, а не в будущем; в статике, а не в динамике. Там, где Апокалипсис говорит: «будет», Египет говорит: «есть». XXIV Человекобожество ассиро-вавилонских царей, римских кесарей, византийских императоров есть только наследие фараонов – египетская вечность в веках. И что такое наш социализм, как не опрокинутый хилиазм, царство человеческое вместо царства Божиего? – «Я не понимаю, как можно сказать: нет Бога, и в ту же минуту не сказать: я Бог» (Кириллов, у Достоевского). «Я Бог», начал Египет; «нет Бога», кончили мы. Вот где конец Египта. XXV В Египте совершаются три тайны, тремя лучами светит свет изначальный: в Озирисе воскресшем совершается тайна Одного, Личность; в Озирисе итифаллическом – тайна Двух, Пол; в Озирисе теократическом – тайна Трех, Общество. Три Озириса в одном; три тайны в одной. Но это еще не последнее соединение, а только первая слиянность. Три луча – три меча: как мечи, пронзают, режут нас антиномии Личности, Пола и Общества; бесконечно расходятся, раскрываются в нас три листа божественного Трилистника, в Египте еще не раскрытые, свитые, как лепестки подводного лотоса, где спит Младенец Бог. XXVI «Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я почти заплакал: да вот, чтобы слушать его, я хочу еще жить, а главное, друг должен жить. Потом мысль: неужели он, друг, на том свете не услышит вентилятора? И жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол. – Глубокою ночью» (В. В. Розанов. Уединенное, 265). Глубокая ночь сгустилась над миром после египетских сумерок, и в этой ночи «схватывает за волосы» мир египетская жажда воскресения. XXVII «Могила, – знаете ли вы, что смысл ее победит целую цивилизацию?.. То есть, вот равнина, поле; ничего нет, никого нет… И этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти слова: „зарыт человек“, „человек умер“, своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стенающим, – преодолевают всю планету и важнее „Иловайского с Атиллами“. Те все топтались. Но „человек умер“, и мы даже не знаем, кто: это до того ужасно, слезно, отчаянно, что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим „Атиллы и Иловайского“, а только сесть на горбик (†) и выть на нем униженно собакой» (ib. 279). Из горбика, где зарыт человек, выросла пирамида Хеопсова, а из «собачьего воя» – эта надгробная песнь времен Птолемеевых: Зодчие зданий гранитных, творцы пирамид богами не сделались, Это и значит: «Египтяне тщетно служили богам». XXVIII И за тысячи лет до времен Птолемеевых, старый певец-арфист Антэфа царя уже поет: Что значит величие живых, что значит ничтожество мертвых? Но вот, не радуется тот несчастный, в глубокой ночи, под свистящим вентилятором, которого «схватывает за волосы жажда бессмертия», или тот «воющий собакою» над могильным горбиком. XXIX По Геродоту (II, 78), песнь Манероса (сына Менесова) была древнейшей и единственной песнью египтян; воспевали же ее за трапезой, в сонме пирующих, обнося гроб с мертвецом: Запад – страна усыпления, тьмы тяготеющей, Начало Египта – воскресение, а конец – «всесмерть». XXX Такой небесной радости земли, как в Египте, нигде не бывало, но и такой печали тоже. Творение мира – смех Бога: Бог смеется и смехом творит; шесть дней творения – шесть смехов божеских; а в седьмой раз засмеялся – и воскорбел, пролил слезу: слеза Божия – душа человека (Hermes Trismeg). Вот откуда печаль Египта. XXXI В одной фиванской гробнице, тело неизвестной царевны тлеет тысячи лет, источая выпотение смрадного гноя. Таков конец Египта: сквозь солнечный лик Озириса – черный лик тлеющей мумии; сквозь песнь воскресения – песнь Всесмерти: «Приди!» XXXII В подземном царстве Туат есть кладбище богов. Когда в восьмом часу ночи бог солнца Ра, в ладье своей, проплывает мимо этого кладбища, мертвые боги чуть-чуть оживают, шевелятся, хотят встать и не могут, и отвечают зовущему Ра только шепотом, шорохом, подобным жужжанию пчел над цветами или звону стрекоз над водой, в затишье полуденном. XXXIII И, наконец, последний вопль отчаяния: «Ныне смерть для меня, как благовоние мирры и лотоса, как путь под дождем освежающим, как возвращение на родину». – «Скорей бы конец! Не зачинать бы, не рождать, – и замер бы всякий звук на земле, и всякая распря затихла бы!» Тут уже конец Египта – конец мира: сесть на «горбик», где зарыто все человечество, и «выть собакою». Конец Египта – наш конец, и суд над ним – над нами суд. «Вот, Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем» (Ис. XIX, 1). «О, Египет, Египет! одни только предания останутся о святости твоей, одни слова уцелеют на камнях твоих… Наступят дни, когда будет казаться, что египтяне тщетно служили богам…» XXXIV Нет, не тщетно. Вся сила Египта – бессилие, вся мудрость – безумие, все величие – ничтожество перед единою каплею Крови, пролившейся на Голгофе. Но «от Египта воззвал Я Сына моего». И можно сказать, не кощунствуя, что Египет нужен Сыну, так же как Сын – Египту. Christo jam tum venienti((Prudent. Contra Symmach., II)) Весь Египет – путь к Господу. Землю вспахал для сева Господня египетский плуг. Тишина Египта – тишина ожидания. «Ей, гряди, Господи!» – шепчет он – и замер, застыл, окаменел в ожидании. XXXV Все, что Египет получил даром, мы покупаем страшной ценой, и это – благо: даром дастся во времени, покупается в вечности. XXXVI «Сам Египет, некогда святая земля, станет примером нечестия, и тогда отвращение к миру овладеет людьми», – предсказал Гермес первых христианских подвижников, проклявших землю именно здесь, в первых монашеских общинах, скитах Фиваиды. «Не мир пришел я принести, но меч», и это благо: чтобы до конца соединить, надо разделить до конца. Три меча разделяющих – три листа божественного Трилистника. В первой весне мира, в Египте, этот Трилистник закрыт, в последней весне раскроется. Не Изида Трехвенечная Когда мать Изида с младенцем Гором скрывалась от Сэта в Нильских заводях, то на зеленую стену высоких папирусов упала тень Младенца и Матери. «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет». Иногда в мертвой пустыне Египта зеленеют одинокие смоковницы: корни их питаются в песке просочившимися водами Нила. Посвященные в древности Изиде, ныне посвящены они Богоматери. Весь Египет – такая смоковница. XXXVII «Снова начинается Египет.  (Pseudo-Calisthen., II, 27), – так говорили накануне первого пришествия Господа; и, может быть, так же скажут и накануне второго. «Беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Матф. II, 13). Однажды Египет спас Младенца от Ирода и, может быть, снова спасет. XXXVIII На святой земле Египта целую след Младенческих ног и плачу от радости. Милостив буди мне, Господи, за то, что я нашел Твой след! |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
