|
||||
|
|
ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ БОГАТЫРЬ Могучее, как бы отлитое из металла лицо, с крупными чертами, очень русское. Высокий, с залысиной, лоб. Мощная раздвоенная борода. Твердый прямой взгляд. Это была внешность военачальника, полководца. Писал он очень ровным, как по линейке, четким, уверенным почерком — не надо быть графологом, чтобы при взгляде на исписанную им страницу сразу сказать: да, так и должен писать этот богатырь, человек сильный и цельный, которому нечего вилять и что-то прятать в себе, чуждый дряблых колебаний и, очевидно, превосходно знавший, что ему делать и куда итти. Жить бы такому до ста, горы своротить! Но не так сложилась жизнь Василия Васильевича Докучаева, исполина науки русской и мировой, с именем которого для нас, потомков, давно уже сроднилось слово: великий. Подобно Ивану Петровичу Павлову, он был сыном священника в захолустном сельце Милюкове, Сычевского уезда, Смоленской губернии. Родился 17 февраля 1846 года и, подросши немного, был отправлен в бурсу. Это была еще почти та самая бурса, о которой поведал Гоголь, пересказывая достопамятные приключения, случившиеся с философом Хомой Брутом, в чьих карманах, «кроме крепких табачных корешков, ничего не было»; и уж во всяком случае бурса Помяловского, где все прозывались не именами, а кличками, играли в «тесную бабу», прописывали «вселенскую смазь», где старшие жестоко тиранили младших и все — новичков, а «профессора» никак не могли вбить в бурсацкие головы богословие и латынь, лак ни щедро прописывал:) для этого «березовую кашу». На святках бурсаки отправлялись домой. Кому близко — верст полсотни или сотню, — шли «пешей командой». Дальние отыскивали земляков, складывались, рядили возчика, — он вез их за рубль верст двести, а там опять пешком: «поход, стоящий полярного путешествия», заметил в начале девятисотых годов первый биограф Докучаева. Летом все это было проще. На каникулы, или «вакации», как их называли тогда, шли нивами и перелесками, в лесу слушали птиц и подсвистывали им; мужички в деревнях укладывали спать в овине или на сеновале, давали похлебать горячего, на прощанье хозяйка совала в торбу краюху теплого ржаного хлеба. А дома ожидали Василия Докучаева друзья — крестьянские ребята: с ними он ходил по ягоды, удил рыбу, ловил птиц, а как поспевала уборка, помогал делать в поле крестьянскую работу. Кончена бурса; прошло детство. Куда дальше? Отец полагал — дорожка ясная: в духовную академию. — Станешь не как я: в городе приход получишь. В губернии. А сбудется мечта моя… Он не договаривал и, не давая ответить сыну, внушительно подымал палец, произнося умиленно, словно любуясь звуком слов: — «Отец Василий, благочинный…» Он говорил это так, точно и на себя примерял то, чему не суждено было сбыться. Его ведь тоже звали Василием… Молодой Василий поехал в академию, в Петербург. А там произошло вовсе не чаемое рачительным родителем, но как раз то, что предсказал бы всякий, кто дал бы себе труд хоть немного ознакомиться с интересами молодого Докучаева, с его ясным, точным умом и характером решительным, не склонным ни к умилению, ни к мистическим туманам, ни к велемудрому плетению словес. Василий Васильевич Докучаев, поучившись малое время, категорически объявил, что в духовную академию он больше не ходок, и оказался студентом Петербургского университета. Для бурсака это было не так уж легко. Нужны были блестящие способности, страстная любовь к знаниям, да и доказательство, что есть сами эти знания (и когда только он нашел время их приобрести?!). Иначе не стать бурсаку студентом, да еще естественником: ведь физико-математический факультет и духовная академия — это противоположные полюсы. Да и многое было для Докучаева совсем нелегко: душила страшная, беспросветная бедность, проще сказать — нищета. Вспоминая о своих первых университетских годах, он не вдавался в подробности, а выделял одну черту, которая представлялась ему почти юмористической (до конца жизни этот могучий человек сохранил пристрастие к юмору, тоже очень простому и ясному, иногда грубоватому, даже озорному): — Да мне вовсе тогда неизвестно было употребление чулок! А когда его спрашивали, что он успел изучить в духовной академии, он совершенно серьезно басом отвечал: — Гуммиластику! «Гуммиластикой» была в его глазах не только гомилетика (учение об искусстве церковных проповедей), но и вообще любая «наука» из числа тех, что входили в «академический» курс. Свою летнюю практику в 1870 году он решил проводить дома. Из «достопримечательностей» там была только речка Качня. Выбор места для практики изумил многих сокурсников. Качня! Они мечтали если не о каньонах Колорадо, то о зубцах Ай-Петри, Кунгурской пещере, заоблачном Памире, вулканах Камчатки. Земля казалась им интересной только там, где обнажен ее гигантский костяк, где вздыблена и окаменела она в родовых содроганиях. Но обыкновенное ее лицо — тысячи речек Качней, как две капли похожих одна на другую!.. А этот деревенский кряжистый парень Докучаев как раз находил, что тем Качня и интересна, что их тысячи, что на миллионах квадратных верст земля вот такая, и ею-то, именно ею, живут все люди, она, вот такая, родит хлеба, весело зеленеет кудрявыми лесами, а копнешь ее — конца не сыщешь жирному чернозему… И еще находил поистине удивительным Докучаев, что о каких-нибудь глетчерах Гренландии и гейзерах Новой Зеландии наука имеет сказать гораздо больше и нечто значительно более вразумительное, чем об этой неоглядной, со всех сторон нас окружающей земле, которую народ называет святым словом: Мать. Итак, он занялся Качней. А в товарищи себе взял старого друга, односельчанина Андрея Пиуна. В главном Андрей, милюковский крестьянин, и Василий, петербургский студент, отлично понимали друг друга. Реферат «О наносных образованиях по речке Качне» был прочитан в 1871 году в Санкт-Петербургском обществе естествоиспытателей. То была первая научная работа Докучаева. Нищету снес. Университетский курс наук пройден блестяще. На все достало сил, да, казалось, что они еще не початы. Они играли, бродили в этой богатырской натуре, требовали дела по себе. Где оно? Три «регулярные» дороги открывались в то время перед геологом, окончившим естественное отделение физико-математического факультета: минералогия — наука о минералах, находимых в земной коре, петрография — наука о горных породах, из которых состоит земная кора, и историческая геология. Ни одна из трех не влекла Докучаева. Напрасно смотрели на него с надеждой и палеонтологи, считавшие его почти «своим» после того, как он прогремел сделанной еще студентом замечательной находкой: он нашел костяк мамонта все на той же Качне, где, по убеждению тогдашних авторитетов, его никак не могло быть, и заставил-таки всех заинтересоваться этой смоленской речкой! Сам же он, когда при нем поминали о мамонте, принимал наивно-удивленный вид и с озорным огоньком в глазах вопрошал самым глубоким своим басом: — Ах, вы все про ту допотопную корову? Вероятно, пренебрежительный тон был наигранно-преувеличенным, но в конце концов мамонт представлялся ему тоже «судорогой земли», чем-то вроде аризонского кратера… А то, что его интересовало единственно и всепоглощающе, — это была поверхность земли, обыденная, необъятная, с которой так Тесно сплетена жизнь человека: наносы, овраги, реки и почвы, почвы. То, чем он только и хотел заниматься и что считал важнейшим для миллионов людей, — это была наука, которой не существовало. Не существовало не только в России, но и — «посудите сами — ни в Париже, ни в Оксфорде, ни в Берлине, ни в Иене!» Так уверяли его. И смысл этих уверений был тот, что науки такой не просто не существовало, но и не могло существовать. Почва? Но с какой стороны его занимает этот тоненький горизонт земной коры? С точки зрения его происхождения? Так ведь геология может сказать, что надо, и об этом, урвав время от разбора, конечно, гораздо более сложных и важных вопросов о свитах девонских песчаников и триасовых рухляков. Какие тут секреты, в этик скучных отложениях, возникших чуть не на глазах, сегодня или вчера, во всяком случае в ту самую аллювиальную эпоху, в какую и мы живем? В них нет даже ни одной руководящей окаменелости. Отложения, которым исполнилась едва одна минута по часам, отмеряющим историю Земля! Или состав почвы? В общем он чрезвычайно монотонен. Минералоги могут исчерпать его на двух-трех страницах своих учебников. Но есть к тому же и агрохимия. Либих… А Докучаев, выслушивая все это, дивился, почему вещь, такую понятную Андрею Пиуну, он никак не может убедительно растолковать умным, дельным, очень много знающим и любящим свою науку исследователям: что есть коренное, резкое различие между почвой и бесплодным камнем и что различие это как раз и касается самого главного в них. — Я понимаю вас, — говорил ему седой кристаллограф или специалист по доломитам, — вполне понимаю. Пахотный слой имеет огромное значение в жизни человечества. И в жизни нашей родины в особенности… Но, — тут голос старика наполнялся непреклонным металлом, — никогда не путайте, молодой человек, необходимость хозяйственную с необходимостью логической. То, чему единственно подчинена наука, нельзя подкупить никакой нашей земной нуждой. Пахотный слой — только одна из горных пород. Одна из тысячи. Одна из десяти тысяч. Нет никаких оснований для принципиального выделения его из этого ряда. Запомните это. Александр Гумбольдт объехал полмира и убедился, что почвы, как и все горные породы, раскиданы в беспорядке по земному шару. Над ними властна не география, а геологический произвол. Лава Геклы сходна с лавой Везувия. Гомельский огородник легко отыщет на Канарских островах точное подобие своей грядки для огурцов. Тот, кто хочет стать служителем в храме Истины, должен уметь побеждать самые прельстительные миражи. Докучаев предпочитал более простые слова, чем такие, слишком уж высокоторжественные: храм. Истина. И он вовсе не был уверен, что кочет стать «служителем». Тогда, усомнившись в годах, проведенных в университете, он подумал, что, может быть, еще раз надо начинать жизненный путь. Не стать ли врачом, хирургом? Ясное, без лжемудрствований, очевидно нужное дело… Потом он хлопочет о месте учителя в Москве. Период сомнений был непродолжителен. У Докучаева было достаточно сил не только для того, чтобы снова начать жизнь, но и для того, чтобы пробить свою дорогу в науке. Его поддержал А. А. Иностранцев. Знаменитый геолог понял, что в голове юноши бродят не просто миражи. — Будущее покажет, чего стоит то, что вы говорите, — сказал ему Иностранцев. — Надо уметь делом доказать истинность того, во что веришь. Прежде всего беритесь за работу. Докучаев стал хранителем университетского геологического кабинета. Хранитель, или, как это официально называлось, консерватор. Тихая жизнь, священнодействие у полок и витрин, проверка этикеток, вероятно ранняя близорукость, незаметное и почтенное старение, с появившимися чудаческими замашками, ворчливыми нотками в голосе, в старомодном сюртуке. «Вертеть в руках какую-нибудь чурбашку и кричать по этому случаю караул», грубовато острил сам Докучаев. Нет, это не была его программа жизни. Он ездит по Руси. По Руси крестьянских полей и светлых берез, по Руси дубрав и темных боров, среди которых медленно текут северные реки. Он шагает по финским гранитам — родным братьям того, похожего на высоко поднявшуюся и плещущую волну, на котором недвижно скачет Медный всадник. Он ездит по поручению Общества естествоиспытателей — с 1874 года он в этом обществе секретарь отделения геологии и минералогии. Жизнь его полна до краев кипучей деятельностью — теперь ясно, на какой неустанный, какой напряженный и многообразный труд он способен. Он изучает реки, их отложения, извивы их долин: и всюду он пристально наблюдает, запоминает, изучает землю, почву; собирает образцы. Как не сходны, как бесконечно различны они для внимательного глаза! Почвы цвета золы, каштановые, рыжие, тускло-желтые, белесые, почвы, черные мертвой, болотной чернотой, и почвы, черные другой, живой, жирно-густой, плодоносящей чернотой. Однообразие? Монотонность? Так думали, потому что только скользили по этой радуге небрежным взглядом. Постепенно все яснее делается для Докучаева то, в чем раньше он был убежден скорее каким-то чутьем. Теперь бы у него нашлись доводы, если бы ему пришлось еще раз выслушать поучение об Александре Гумбольдте и о почвах — отходах распри между Вулканом, Нептуном и Эолом, богом ветров? Александр Гумбольдт! Человек, проживший почти столетие, тот, кого высокопарно именовали «Аристотелем девятнадцатого века», чье путешествие на Ориноко прославили, как «второе открытие Америки», человек, кому льстиво приписывали самое создание тучной географии, — этот человек, столько написавший о ландшафтах, не видел основы основ их: земли. Он знал, что живой мир не случайная накипь на нашей планете: этому научили его леса Кассиквиари. Это он знал. Но живой мир он все-таки отторг от неживого. Он думал так: если смахнуть долой драцены Африки и лапландские мхи, то родину жирафов мы не отличим от страны песцов. Потому что как отличать мертвые скелеты, если уничтожено тело? Костяки случайны. Песок Замбези может быть и у Белого моря. Так рассуждал Гумбольдт. И «ландшафты» возникали у него в некоей пустоте. Как бы подвешенные над землей, на которой только и живет и растет все. Хороша «научная география»! Две планеты, живую и неживую, Гумбольдт так и не сумел понять как одну. А существует только одна. Свою магистерскую диссертацию Докучаев защитил в 1878 году. Он договаривал то, что начал студентом. Диссертация называлась: «Способы образования речных долин Европейской России». Он уже не был юнцом, развивавшим странные и смутные идеи. По университету разнеслось, что этот консерватор геологического кабинета, возвращавшийся из долгих поездок с ящиками коллекций, строит в самом деле новую науку. Аудитория, где выступал диссертант, была полна. Защита превратилась в триумф. Молодые научные работники слушали с горящими глазами. Для самого же Докучаева и магистерская диссертация была все еще «присказкой». Года два назад он присутствовал на докладе об «агрономическом путешествии по некоторым губерниям Центральной черноземной полосы России». Путешествие совершил Александр Васильевич Советов, пятидесятилетний человек, спокойный, широколицый, в темно-русой, уже посеребренной бороде лопатой, — первый русский доктор земледелия. В свое время наделал шуму тот докторский диспут, где он, защищая диссертацию «О системах земледелия», вступил в спор с оппонентом Менделеевым, с самим Менделеевым… Докучаев тогда был с головой погружен в составление почвенной карты Европейской России. И работа чад этой первой в мире по тому научному методу, которым она составлялась, картой приносила все новые опровержения учения о «беспорядке почв». Но Советова он слушал с особенным вниманием. 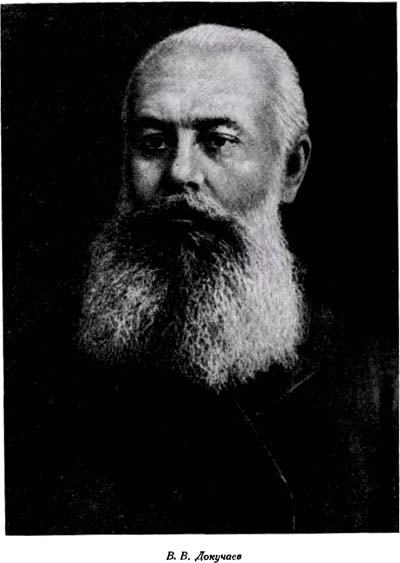 Черноземы — гордость России, самые изумительные среди почв: то рассыпчатые, то мягкие, как масло, с их цветом, настолько необыкновенным, настолько отличающим их ото всего на земле, что он кажется цветом самой насыщающей их силы плодородия, — что они такое, русские черноземы? Докучаев понял, что отныне жизнь его на долгие годы определена. Разгадать, понять, изучить черноземы, великое богатство нашей родины. На них, через них выяснить и показать общие законы, управляющие почвенным покровом земного шара. Книги мало чем могли помочь Докучаеву. Впрочем, на недостаток их нельзя было пожаловаться. Необычайная «черная земля» издавна влекла внимание и воображение ученых. Скорее всего, именно воображение. Паллас первым решил в XVIII веке, что чернозем — это ил отступившего древнего моря. И некогда он был соленым. «Ледникового моря», уточнил лет через 60–70 англичанин Мурчисон. Он предлагал взглянуть на карту дилювиального периода: разве не ясно, что язык ледника на Средней Волге впадал в морской залив? «Соленый ил, который стал пресным! В этом нет разумного смысла, — горячился Вангенгейм фон-Квален. — Просто ледник принес из северных болот торф и раскидал по нынешним степям». «Отлично! Хорошо! — подхватывал Эйхвальд. — Торф. Именно торф! Но зачем искать древние болота только на севере? Конечно, у кромки ледника, где теперь степи, тогда вовсе не росли ковыли и эти колокольчики, чарующие сердце поэтов. Тут как раз и тянулись черные трясины». «Похожие на те, среди которых у древних греков зияли врата Аида? — язвительно опрашивал желчный профессор Штукенберг. — В трясинах позволю себе усомниться. Но, во всяком случае, заметьте: интересующий нас горизонт сложен пресноводными отложениями. При чем тут соль и море?» Немец Орт, вояжировавший по России, коротко определил чернозем, как «мергелистый гумусовый суглинок». Шмидт из Дерпта полагал, что раз чернозем горная порода, то никакой тайны в нем заключаться не может. Что такое эти прославленные почвы Украины? «Продукты размельчания и выветривания верхнего слоя днепровской гранитной возвышенности»! Была не слишком значительная группа ученых, которая брала под сомнение все эти экстравагантные родословные чернозема. Гюльденштедт, Гюо, Эверсман и особенно Рупрехт считали, что черный «гумус» — это в самом деле перегной: накопившиеся остатки отмирающей органической жизни. Взгляды этих ученых внимательно изучал Докучаев. Он убеждался, однако, что у них больше догадок, чем прямых доказательств, несомненных фактов им недостает, и в результате рядом с их взглядами могли совершенно спокойно существовать воззрения прямо противоположные. Тем более, что, бродя ощупью, как во тьме, сторонники органического происхождения чернозема забредали иногда в весьма странные теоретические закоулки. Рупрехт различал чернозем, образовавшийся на месте и «просочившийся» (неведомо, как и откуда!), и рассуждал о каких-то древних черноземных «материках». Докучаев не знал, что первым подошел к разгадке чернозема ясный и трезвый ум Ломоносова. «Итак, нет сомнения, что чернозем не первообразная и не первосозданная материя, но произошел от согнития животных и растущих тел со временем…» Это цитата из «Первых оснований металлургии», написанных в 1742–1743 годах, почти за полвека до Гюльденштедта. Один вывод, с очевидностью вытекал для Докучаева из его усердных занятий в библиотеках: мало фактов. И он составляет «программу исследования чернозема». Конечно, и А. В. Советов принимает участие в составлении этой программы и еще двое: А. И. Ходнев и М. Н. Богданов. Участие второго, зоолога и путешественника, кажется неожиданным. Но Богданов принадлежал к той плеяде старых замечательных русских натуралистов, которые были не только отличными исследователями в какой-либо своей узкой области, но и философами естествознания, и страстными общественными деятелями, и поэтами своего дела. Книги Модеста Николаевича «Из жизни русской природы» и «Мирские захребетники» живут уже скоро три четверти века. Несколько поколений детей и юношей читало их. Немного существует более поэтических рассказов о наших полях и лесах, о простой природе средней русской полосы, о птицах и садах простого русского города. Это город на Волге, родина Богданова, Симбирск — примерно того времени, когда там родился Владимир Ильич Ленин. То, что сделал Докучаев в ближайшие годы, было открытие наново громадной полосы земли, земли, на которой жили и не одно тысячелетие трудились миллионы людей; это было открытие чернозема. Докучаев не просто теоретизировал на основании двух-трех десятков или сотни фактов. Нет, прежде всего это было исследование и описание «где, как, что» — так описывает географ новую страну. Районы и провинции черноземной «страны», ее «острова», прослеженные впервые «изогумусные» линии, подобные «изотермам», которые проводят метеорологи, соединяя местности с одинаковой температурой, или «изобарам» — линиям равных показаний барометра… Докучаев изучает старательно границы чернозема, эти ломаные линии, за которыми лежат «серые лесные земли» на севере, а на юге, примыкая к «шоколадным» почвам степей Причерноморья, земли «каштановые с бурыми». Он изучает чернозем «горовой», предельно черный, косые пласты черноземов склонов, мощный коричневатый чернозем долин, местами саженной толщины. Белгородские песчанистые черноземы, солонцеватые — на Харьковщине и Полтавщине, скелетные и грубые — с южного Урала, золовый, ветром навеянный чернозем рыхлых холмиков и почвенных «дюн» из-под Бердянска… В степях стоят курганы — скифские, батыевы. Черный, еще тонкий слой земли уже нарос на них. Какова же быстрота этого роста? Докучаев карабкается на сложенные из валунов седые стены Староладожской крепости, чтобы измерить толщину праха, покрывшего их. Пять дюймов. И травы, даже кусты гнездятся тут. Крепость выстроена в 1116 году. Пять дюймов наросли за 770 лет. Геолог, исследователь почв, он пристально присматривается к этим древним следам человеческих рук, к старым людским поселениям на земле. Он отыскивает, описывает стоянки каменного века. Собирает коллекции первобытных орудий. Впоследствии, в 1889 году, на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей, Докучаев сделает сообщение о доисторическом человеке окских дюн. Потомки очень высоко оценят заслуги Докучаева-археолога. Но для современников великие главные открытия Докучаева заслоняли его археологические находки. И вот он закончил, наконец, свою энциклопедию. В ней география, химия, история развития чернозема. Да, эволюция, генезис его! Ибо что такое почва? Почва — это особое природное тело, вернее, целая самостоятельная категория тел. От горных пород они отличаются резко. Есть свои определенные законы развития их, и по этим законам их и надо познавать; есть своя закономерность и в распространении почв. А факторы, которые своим совместным действием образуют почву, — это органическая жизнь (прежде всего растительность и низшие организмы), климат, рельеф и высота местности; Докучаев добавляет еще, что надо знать, конечно, исходную «материнскую породу» и «возраст» (почвенный и геологический) страны. А чернозем? Он образован накоплением перегноя травянистой степной растительности. «Материнскими породами» тут были лес, мел, глины, выветренные граниты… То, что многим казалось парадоксом, — это важнейший, основной факт: лес с его гигантскими массами отмирающей растительности не только не создавал чернозема, но останавливал его образование всюду, где вторгался в степи. И Докучаев с классической ясностью и полнотой показывает, что отгнивание растительности в лесу и не может дать чернозема, а лишь иные, «серые», гораздо менее богатые перегноем почвы. Он доказывает это не общими рассуждениями, но цифрами, мерой и весом, которые, по знаменитому изречению, суть «познание природы». Черноземная полоса отграничена сложным комплексом природных условий. Слишком мало перегноя накапливают знойные, сухие, бедные жизнью степи крайнего юга. Во влажном холоде севера не возникнуть гумусу; там отлагается тяжелая, мертвая масса торфа. Северный рубеж чернозема совпадает в общем с изотермой июля + 20°. Защита диссертации «Русский чернозем» состоялась в 1883 году. Эта работа, решительно порывавшая со всеми принятыми, идущими главным образом от немецкой геологической школы воззрениями на почву, открывала перед наукой новый мир фактов и явлений. «Восприемниками» ее в Петербургском университете явились официальные оппоненты А. А. Иностранцев и, как у Советова, Д. И. Менделеев. Менделеев! Его называли грозой диссертантов. Но чуть сутулый, могучий человек с нависшими бровями и львиной гривой по плечи на огромной, тяжелой голове — человек, так не похожий ни на кого другого, словно резкой чертой отделенный ото всех окружавших его, был на этот раз неузнаваем. Великий химик и универсальный естествоиспытатель на диспуте Докучаева, по воспоминаниям современников, «рассыпался в похвалах». Было очевидно, что родилась новая наука. И — тоже вразрез с традициями — она получила не греко-римское, а русское имя: почвоведение. Пословица говорит: «Один в поле не воин». Докучаев, мы видели, не был «одним». Он подхватил и необозримо развил то, к чему стремился агроном Советов. Зоолог Богданов помогал ему в подготовке к исследованиям. Химик Менделеев ставил агрономические опыты; и в них участвовал (под Симбирском в 1867 году, в том же году, когда Советов получил степень первой доктора земледелия) 24-летний ботаник Тимирязев. Труд Докучаева, сделавший эпоху в науке, поднялся на гребне этой волны. Чернозем исследовал в то время также и другой замечательный ученый. То был Павел Андреевич Костычев, почти ровесник Докучаева по летам. Книга Костычева «Почвы Черноземной области России, их происхождение, состав и свойства» появилась в 1885 году. Костычевы, кстати окажем, — русская ботаническая «династия». Сын, Сергей Павлович, стал академиком и — уже в наше советское время — автором основоположных для мировой науки работ по самым сложным и таинственным процессам физиологии растений. А в те годы, о каких здесь рассказывается, русская наука словно считала своей гордостью и честью изучить почвенную сокровищницу своей родины, «разгадать» черноземы. Четыре часа длился докторский диспут. Декан факультет? Н. А. Меншуткин, известный химик, торжественно провозгласил Докучаева «доктором геогнозии и минералогии». … Зимними утрами, когда еще темновато и сумрачно на полупустынной набережной и ветер рвет на мостах над невским льдом, профессор Докучаев являлся в университет. Еще издали было видно его гигантскую фигуру, чьей спокойной и ровной поступи не могли нарушить никакие порывы ветра. В гардеробе он неторопливо снимал шубу и меховую шапку — тоже огромную. И вот по знаменитому бесконечному коридору Петербургского университета, здания петровских «двенадцати коллегий», величественно шествует, широко шагая, возвышающийся над всеми гигант. И многим казалось — холодом веяло от него. Но несокрушимая сила всем была очевидна в нем. Встречные почтительно уступали ему дорогу. Он входил в аудиторию. Начинал читать. Без всяких красот. Но — странное дело! — полет мухи был бы слышен в аудитории. Он говорил со страстным убеждением, которое заставляло слушать, потом захватывало и покоряло без остатка слушателей. По манере чтения его сравнивали с Менделеевым. Те, кто судил о Докучаеве, оставаясь за дверями аудитории, — ничего не знали о настоящем Докучаеве! Редко кому было дано так неотразимо привлекать к себе молодые души и сердца, создавать по-настоящему преданных учеников, как этому громоздкому, внешне суровому, даже грубоватому человеку. Человеку, который вовсе не был «нараспашку». Давно уже Докучаев отметил худенького, очевидно болезненного, слабогрудого юношу, коротко остриженного, в очках. Полная противоположности лектору во всем, кроме, может быть, того, что тот юноша тоже учился до университета в духовной семинарии — только в Архангельске. Юношу Докучаев всегда видел на первой скамье, очевидно, он стремился сесть поближе, чтобы не проронить ни слова. — Что собираетесь делать? — спросил Докучаев, когда юноша кончал университетский курс. — Думаю готовиться к профессорскому званию… — Хотите работать со мной? Два неровных пятна румянца выступили на бледных щеках юноши, он схватил и крепко пожал протянутую руку учителя. Так Николай Михайлович Сибирцев стал до конца своей жизни ближайшим помощником и другом Докучаева. Но была у Докучаева еще важная и прекрасная черта: он никогда не подавлял индивидуальность своих учеников. Сибирцев быстро вырос и сам в замечательного исследователя, о котором уже в недавние годы так, например, упоминал академик Вильямс: «Учение о почвенном покрове, как о самостоятельной категории природных тел, возникло в России в результате творческой работы трех русских ученых — В. В. Докучаева, П. А. Костычева и Н. М. Сибирцева». Тогда, в 1882 году, Докучаев сразу определил молодого Николая Сибирцева к делу. Дело это было новым и очень большим, и затевал его Докучаев, который был тогда лишь приват-доцентом, — оставался еще целый год до того, как Докучаев защитит свою докторскую диссертацию «Русский чернозем». Что же это за новое дело? Идея Докучаева, как мы знаем, заключалась в том, что почва возникает и развивается в результате сложного взаимодействия ряда факторов, ряда «причин». Значит, изучать ее нужно способом, охватывающим всю эту сложность, совокупными усилиями ряда специалистов, методом комплексным. Знаменитый комплексный метод Докучаева сам по себе был важным открытием. Этот метод никак не для ученого-одиночки, Только коллектив ученых мог сладить с таким исследованием. Дело прямо вело к возникновению тесной и дружной школы. Итак, 1882 год. Год первой из числа прогремевших в истории науки докучаевских комплексных экспедиций. Нижегородская земская управа обратилась с просьбой обследовать и оценить грунты губернии (чтобы уточнить обложение налогом; остальное управу мало интересовало). Это можно было выполнить старательно, честно и даже выпустил затем на земский счет книжечку с таблицами, несколькими рассуждениями о тревожном разрастании оврагов в нижегородской лесостепи, чересполосице, деревенской нищете, Макарьевской ярмарке и сетованиями о том, что опыт «культурных хозяев» распространяется крайне медленно. Что же сделал вместо этого Докучаев? Биограф его говорит, что «тут развернулся во всей полноте его необыкновенный организаторский талант». Среди учеников его, привлеченных им к работе, были П. А. Земятченский, А. Н. Краснов, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Н. М. Сибирцев, А. Р. Ферхмин. Каждый из них стал потом крупным ученым. Тут, в нижегородской экспедиции 1882–1886 годов, зародилась русская школа почвоведения, первая в мире. Ночевали в избах. Петербургский профессор чувствовал себя отлично: он вспоминал Качню и Андрея Пиуна. Но в помещичьих имениях изыскателей встречали хмуро и старались поскорее спровадить со двора. Докучаев, сторонник разрубания узлов, подверг прямому допросу одного из тех «культурных хозяев», на которых возлагали столько надежд иные нижегородские земцы. Тот хмыкнул: — Да что — мужичков мутите. Землю забираете в мешочки, с собой увозите, а они думают: начальство разберет да всю землю им и отдаст. Четырнадцать томов материалов явились результатом экспедиции. Это не было только самое подробное, какое можно вообразить, описание части поверхности земного шара, именуемой «Нижегородской губернией», — тут была стройная наука о почвообразовании, завершение идей «Русского чернозема». Чернозем становился на свое место в той «радуге почв», которая поразила некогда Докучаева. В четырнадцати томах раскрывалось и объяснялось то, что географы просто отмечали, а геологи тал и не находили возможным объяснить: холмы и овраги, возникновение рельефа, самого облика страны, какой мы видим ее вокруг себя. Докучаев знал цену сделанному. Но все это, все сделанное должно было послужить лишь началом подлинного изучения русских земель, «самопознания» родины. Это были лишь камни для фундамента, так думал Докучаев, дела огромного и неотложного для России. И вот начинаются годы настойчивых и бесплодных хлопот Докучаева об учреждении в Петербурге штаба этого дела — Почвенного комитета. Между тем докучаевская «коллекция русских почв» едет в Париж и там на знаменитой Всемирной выставке под Эйфелевой башней получает золотую медаль. В том же 1889 году не надолго отправляется за границу сам автор коллекции. Париж, Берлин, Вена… Он возвращается. У него по горло работы. Он главный организатор VIII съезда русских естествоиспытателей и врачей. Ему сорок три года; имя Докучаева называют рядом с именами Менделеева, Тимирязева, Иностранцева, братьев Ковалевских. Силы его кажутся неисчерпаемыми. Он секретарствует в Петербургском обществе естествоиспытателей, участвует в работах Геологического комитета, вместе с Советовым редактирует «Материалы по изучению русских почв». Новая докучаевская комплексная экспедиция направляется в Полтавскую губернию; оттуда будут привезены 16 томов трудов, а в Полтаве, как раньше в Нижнем, останется учрежденный Докучаевым естественноисторический музей. В полтавскую экспедицию поехал еще один ученик Докучаева — Владимир Иванович Вернадский, будущий великий ученый, создатель геохимии… Докучаев будет уточнять и изменять свою «генетическую классификацию почв», общую картину распределения и закономерного чередования почв по великой русской равнине; но в главном, в основном эта картина уже сложилась у него. Область северных боров, лугов с кислыми травами. Бугры, ледниковые гряды, котловины — «моренный ландшафт». Огромная область «светло-серых» почв… Южнее ее сменяет лесостепь. Мягкие холмы, серебристые извивы рек в зеленых долинах, березовые перелески — то, что так знакомо и дорого миллионам жителей средней России. Голубенькие цветочки льна, рожь и овес на «серых лесных» землях… Мы знаем уже, что ими окаймлен с севера степной чернозем и что широкая полоса его к югу переходит в каштановые почвы знойных типчаковых степей.[23] Еще жарче лето. Еще выше солнце. Еще сожженней земля. Скудная полынь на ней. Вихри подымают бурый песок; иссушающее дыхание близкой пустыни. Это пятый почвенный пояс — область бурых солонцеватых почв. Пять поясов, пять главных типов. В каждом из них можно найти свой вариант и супесей и суглинков. Но, кроме того, существуют болота. Земли, которые возникают при затрудненном доступе воздуха. Существуют намывы и наносы — и водяные и ветровые. Да, Докучаев еще во многом будет менять эту картину. Но стройный порядок уже заключен в смелом очерке, сочетающем воедино климат, ландшафт, жизнь и землю. Чего тут не хватает? Человека, обрабатывающего землю и пересоздающего ее. Эту брешь заполнят те ученые, которые придут позднее и в наше советское время небывало двинут вперед развитие почвоведения; среди этих ученых будут ученики Докучаева. Но и в 1886 году, когда была опубликована его классификация, она была уже не просто итогом открытий, но и величественной программой действия для науки, прежде всего русской науки. Он яснее всех понимал это. Пятнадцать лет он не прекращал попыток добиться учреждения Почвенного комитета, постоянного штаба русского почвоведения. Ведь изучение почв, русской земли, было только начато, только намечено! Впрочем, кое-чего со своей нечеловеческой энергией он добился. В городе Новая Александрия Люблинской губернии был сельскохозяйственный институт. Другой был в Москве. Немного на всю Россию! И Новоалександрийский хотели закрыть — он был захолустным, нищим, без профессуры, без ученых пособий, почти без студентов. В министерской комиссии Докучаев потребовал, чтобы подождали закрывать, дали ему попробовать, что можно сделать. И ему дали. Он добился, он вырвал это. Он заново пересоставил всю программу института: придал ему профиль, какого не было нигде в мире. С этим поехал в Новую Александрию. Увидел запущенный дом, в два крыла, похожий на усадьбу, пустынный — еле на третьем курсе не шли, а плелись какие-то занятия с горсткой студентов. «О, тут хватит работы…» Он перестраивал все. Вернее, почти все строил на пустом месте. Он «прямо кипел», говорят свидетели. Дней ему казалось мало; он работал и ночами. И словно забыл, что такое усталость. Раскаты его помолодевшего голоса отдавались в коридорах, в аудиториях. Походка стала быстрой и легкой. Однажды после ночи, когда не дали заснуть срочные бумаги и телеграммы, он усмехнулся: — Хорошо жить. Ух, как хорошо! Точно сбросил с плеч долой лет двадцать. Тут была учреждена первая в мире кафедра почвоведения. Кому поручить ее? Ну, конечно, ближайшему ученику — Сибирцеву. Связь с ним у Докучаева не прерывалась. Сибирцев был старшим помощником учителя по новой экспедиции, занятой «испытанием» лесного и водного хозяйства в степях. Но постоянно жил Сибирцев в Нижнем — там он заведывал естественноисторическим музеем, докучаевским музеем. Когда первый на свете профессор почвоведения приехал в Польшу, он держался сутуловато; кашлянув, касался груди и зачем-то поправлял очки в тонкой оправе, близоруко и виновато улыбаясь. — Все такой же, Николай Михайлович, — сказал ему Докучаев и покачал головой. Спохватись, нахмурился и протрубил: — Дело-то, дело какое! А? Наша кафедра! Дорвались! Живо молодцом станете. Вместе кашу заварим, вдвоем у тагана веселей, как там у вас волгари говорят, а?! В эти годы докучаевского управления Новоалександрийским институтом — 1892–1895 годы — не было, казалось, ничего, на что не достало бы сил у человека-богатыря. Он оставался и профессором в Петербурге. Начальствовал в особой экспедиции Лесного департамента. Возглавлял комиссию для «физико-географического, естественноисторического, сельскохозяйственного, гигиенического и ветеринарного исследования С.-Петербурга и его окрестностей». Он мечтает даже о своей газете — большой газете для «русского общества», «для всех честных людей в России». Жизнь его в зените. Он счастлив. Его почвенные коллекции стяжали новые лавры за океаном — в Чикаго, на Всемирной Колумбовой выставке, посвященной четырехсотлетию открытия Америки. «Кто бы думал, что в конце девятнадцатого века мог быть открыт новый континент в наших знаниях о природе!», писали американские газеты. Докучаев полон новых проектов. Он деятельно готовится к Всероссийской нижегородской выставке 1896 года — там будет почвенный отдел, рядом с «вегетационным домиком» Тимирязева. А Новоалександрийский, его институт теперь, по общему признанию, — одно из лучших высших учебных заведений в России. Есть профессора, есть студенты! Не только русские, но и поляки, и евреи: он добился, чтобы всем был открыт доступ в институт. Восторженный гул доносится из аудитории, где читает Сибирцев. Как любят этого «архангельского мужика», его, Сибирцева! А тот колюч. Он уже спорит с учителем. Многое хочет по-своему. Пусть. Еще кто кого переспорит! Но молодец: садится писать курс почвоведения. Очень хорошо! Сам учитель так и не сделал этого. Это будет первый в мире курс новой науки. Докучаев счастлив. Может быть, впервые в жизни он так счастлив. И все эти годы назревала катастрофа. В Варшавском учебном округе было некое «значительное лицо». Первый биограф Докучаева, один из преданных его учеников, зашифровывает это лицо инициалом «А». В 1903 году он не решился полностью наименовать попечителя округа. А мы думаем, что и незачем называть его, незачем писать и запоминать имя этого мерзавца рядом с именем Докучаева, славы русской науки. Гоголевский персонаж патриархально считал, что учебные заведения округа составляют его вотчину. В нищем и тесном здании Новоалександрийского института он отвел себе великолепно отделанную половину: там проводил лето на институтских хлебах. И милостиво принимал свиную тушу и яички из институтского хозяйства на святки. Докучаев церемонию подношения туши прекратил, а в «половине» устроил учебные кабинеты. Конечно, в бумажках из Варшавского учебного округа об этом не стали упоминать — зачем, храни бог! — но пристально заинтересовались докучаевскими учебными реформами. Вдруг все застопорилось, все «заело». Он скачет в Варшаву. «Вы? Очень кстати. Я… должен сказать вам, мой милый… э-э… профессор… что я недоволен вами». Он еле дослушал. Он почувствовал прилив бешеной ненависти к этому бархатно-ленивому, растягивающему слова и грассирующему баритону. «Война»? — подняло брови «значительное лицо». Выходя, Докучаев с изумлением увидел свои трясущиеся руки. Мерзавец был тщеславен, энергичен и дотошен. Докучаев был жестковат и властен, юлить и дипломатничать не умел. Дело было соткано из пустяков, с безжалостным и несравненным бюрократическим мастерством. Каждое неловкое оборонительное движение Докучаева запутывало его еще больше. Гнусная травля великого ученого велась упоенно, с рассчитанным искусством. Докучаев писал в Петербург. Писал тем, кто год за годом хоронил его проекты Почвенного комитета. Ответом было глухое молчание. Он почувствовал себя загнанным зверем. Он озирался с яростным и беспомощным отчаянием. Выхода не было. И он не выдержал. Он ушел из института, им созданного, им превращенного в единственный на свете. Богатырь был сломлен. Биограф замечает, что в 49 лет могучий человек был выведен из строя. Он не обрел в себе той внутренней стойкости, той точки опоры, какую безошибочно находил при любых обстоятельствах Тимирязев. Довершили дело личные невзгоды. Изменило здоровье. Тяжело, от рака, умирала любимая жена Анна Егоровна… Некогда, в студенческие годы, он искал себя и, не видя приложения своим силам, начинал пить по-бурсацки — распущенно и беспорядочно, точно эти огромные силы, не направленные на ясно очерченное дело, тяготили его… И теперь он не сумел противостоять случившемуся. Не сумел и понять, что те, кто вышвырнул его, не олицетворяли ни России, ни ее науки, не с ними был близкий уже завтрашний день русской земли. Докучаев не увидел другой, настоящей России, о которой всегда знал Тимирязев, — именно это уверенное знание поддерживало Тимирязева в самые тяжелые минуты. К бездействию Докучаев не привык. Он едет в Бессарабию, в Закаспийскую область, на Кавказ: там он изучает вертикальные почвенные зоны, им предсказанные и открытые. Организует в Петербурге частные курсы по сельскому хозяйству. Читает публичные лекции «О главнейших законах современного почвоведения, обязанных своим открытием почти исключительно трудам русских ученых». Он мечтает даже об «обществе распространения в России сельскохозяйственных знаний и умений». Садится за книгу о самом главном в своей науке, о новом слове ее: о взаимоотношениях между живой и мертвой природой. Начинает составлять «общую почвенную карту России»; ее закончили ученики Сибирцев, Танфильев, Ферхмин. Но все это представлялось близким Докучаеву людям «отчаянными движениями утопающего». Прошло пять лет. Лопата, бур и молоток — эмблемы почвоведа — выбиты на глыбе лабрадора, под которой лежал скошенный туберкулезом Сибирцев. Докучаев жил. Он прожил еще три года, борясь с развивавшейся нервной болезнью. Последнее письмо его похоже на крик: «Как хорош божий мир, как тяжело с ним расставаться!» 26 октября 1903 года в Петербурге скончался Василий Васильевич Докучаев. Он любил природу. Но не пышность экзотических пейзажей прельщала его. Душу его наполняла радостью простая и прекрасная природа средней полосы. Он мог подолгу останавливаться перед каким-нибудь речным извивом («часами», пишет его ученик П. В. Отоцкий, первый редактор журнала «Почвоведение»). Часто вспоминал Украину, годы своей полтавской экспедиции — какое-нибудь раннее утро, косые красноватые лучи на еще спящей листве тополей, крик лелеки: так по-украински называл он аиста. Любил Короленко, Чехова. Прочтя «Степь», сказал: — Вот уметь бы так описывать! Как и многие интеллигенты того времени, он плохо разбирался в окружавшей его общественной действительности. Так до конца и не понял, что именно с ним произошло в 1895 году. Внешне он казался суровым, «сухо-деловитым», В своих служебных и даже личных отношениях, в отношениях к студентам и ученикам стремился руководиться меркой: «Людей надо судить по тому, сколько и как они в жизни сделали». Примером и образцом считал Петра. — Вот Петр Великий, — труженик на пользу общую. Учиться надо!.. Люди разделялись им на «полезных» и «бесполезных», последние для него не существовали. За «пользу общую» должна была ратовать задуманная им газета. В честности и работоспособности видел он лекарство от всех бед России. Опыт его собственной жизни мог бы показать ему, что просто этого было еще далеко не достаточно… Поросль наук пошла от Докучаева и его комплексного метода. Геоботаника (одним из виднейших представителей которой был Г. И. Танфильев) — учение о растительном покрове в связи с той «средой», той землей, на которой находит его исследователь. Знаменитая наша геохимическая школа во главе с основоположником ее — академиком В. И. Вернадским. Геологи докучаевского времени гораздо легче могли объяснить кристаллический щит на «древнем темени» Азии, чем бугры, пригорки, овраги. Докучаев рассказал о законах развития привычных и всеобщих черт рельефа; и тогда быстро двинулась вперед геоморфология — учение о формировании земли. Некогда старинные геологи считали почву малозначительной деталью земной коры. Но оказалось, что выводы докучаевского учения о почвах исключительно важны самим геологам, для их собственной науки: ведь почва — «зеркало местного климата и притом климата как современного, так и, особенно, давно минувших времен». Преобразилась и выросла вся старая географическая наука. Докучаев придал новый смысл центральному ядру ее — учению о ландшафтах. Его горизонтальные и вертикальные зоны гораздо конкретнее, яснее, богаче содержанием прежней идеи о климатических поясах. Докучаев обратился с призывом к русским агрономам: «Оставить нередко почти рабское следование немецким указкам и учебникам, составленным для иной природы, для иных людей и для иного общественно-экономического строя». И сам работой и творчеством своим показал, как это сделать. Мировая наука о почве стала на ноги после Докучаева. Ее создала русская школа почвоведов. Докучаев говорил о работах этой школы и о своих, в частности, как об открытии четвертого царства природы. И не случайно с тех пор именно наши русские термины: «подзол», «солонец», «чернозем» — звучат с кафедр университетов и институтов всех стран, всюду, где изучают почву. «ИЛИАДА» ПЛАНЕТЫ Тимирязев читал публичную лекцию. Стоя внизу на ярко освещенной кафедре и оглядывая подымающиеся вверх, как по стенке кратера, ряды скамей огромной аудитории Политехнического музея, он говорил ровным голосом, размеренными, отточено-изящными фразами о непобедимости жизни. «Выступит ли из воды океана подводный утес, оторвется ли обломок скалы, обнажив свежий, не выветрившийся излом, выпашется ли валун, века пролежавший под землею, — всегда, везде, на голой бесплодной поверхности» — появляется жизнь. Вот появился лишайник, «разлагая, разрыхляя горную породу, превращая ее в плодородную почву…». «Ему нипочем зимняя стужа, летний зной…» Истершись в белый порошок, он, пионер жизни, опять оживает, как только смочат его первые капли дождевой влаги. И найдет себе пристанище даже на гладком стекле — осмотрите какой-нибудь заброшенный, давно необитаемый дом с остатками стекол в полуразрушенных, обомшевших окнах… Вездесущность, непобедимость жизни! Несколько лет спустя мысль об этом выросла в представление о планетарном значении жизни. Родилась грандиозная тимирязевская концепция космической роли растений. Какова площадь Земли, всей Земли? Пятьсот десять миллионов квадратных километров. Но есть у Земли другая поверхность, измеряемая несколькими миллиардами квадратных километров. Это поверхность зеленых листьев на суше, пленок водорослей в океане. Плащ, окутывающий всю Землю, подставленный солнечным лучам. Он преграждает им путь. И, пойманные в зеленую сеть, они трансформируются, превращаются в химическую энергию. Какая же неисчерпаемо-колоссальная сила властно впряжена живым растительным миром, в работу на Земле! Можно подсчитать ее. Энергию лучей, ловимых и «связываемых» растительным миром, принимают равной 162 тысячам биллионов калорий в год. Это в 25 раз больше, чем энергия всего угля, сжигаемого человечеством, и почти в 3,5 раза больше, чем вся энергия текучей воды. Если только представить себе размер работы, совершаемой этой силой, и еще помножить то, что едва вообразимо, на миллиард-другой лет (срок существования жизни на Земле), то легко понять, что вся Земля должна быть изменена ею… Прошли годы. Советский ученый, академик В. И. Вернадский рядом замечательных исследований обосновывал учение о биосфере. «Биосфера» — так была озаглавлена его книга, изданная в 1926 году. Эта маленькая, отпечатанная в Ленинграде книжка, написанная с поэтической и торжественной простотой, многим из читавших ее показалась безданной: словно целый мир с континентами и океанами был заключен в ней. Если бы когда-нибудь пришлось выбирать из всей необозримой научной литературы всего несколько десятков книг, отмечающих поворотные моменты в развитии человеческого знания, то в число таких книг-вех попала бы и маленькая книжечка с заголовком «Биосфера». Живая оболочка Земли — рядом с каменной, водной и воздушной… И даже не рядом, нет! Всеоживленность Земли. Пока мы остаемся на нашей планете, нам не уйти от жизни. Ее печать стоит на каждой пяди земной поверхности. Вся она преобразована, пересоздана жизнью: и воздух, которым мы дышим, и суша, по которой мы ходим, и даже вода, падающая дождем, размывающая известняки, тихо струящаяся в мягких долинах, океанским прибоем рушащая скалы. Ни в чем, может быть, ни в одном штрихе не была бы похожа на нашу та незнакомая нам, угрюмая планета — планета, смертоносная для всего живого, какой была бы Земля без жизни. Чем была бы она? Возможно, что колоссальным подобием Луны, но с тем отличием, что, бороздя мировое пространство, Земля влекла бы за собой саван ядовитых и удушливых газов. Потому что только жизнь сделала Землю обитаемой для нас, для всей современной нам жизни! Этот круг идей был великим открытием. Это было особенное слово русской науки. На Западе крупнейшие ученые все еще повторяли дешевую, мнимо глубокомысленную мудрость XIX века: «Жизнь — случайная плесень на земном шаре…». «Налет на головке сыра», меланхолически развивали метафору другие. После работ русских исследователей стало очевидно, что найден почти неведомый раньше род отношений, притом касающийся самого главного на нашей планете, без чего не понять ни жизни, ни Земли. Нельзя «убрать» жизнь с Земли, оставив Землю «саму по себе», нельзя вычеркнуть жизнь из двух миллиардов лет земной истории, не зачеркнув самой истории. Вот цифра, иллюстрирующая всепроникновенность Земли жизнью: в каждом гектаре почвы находится не менее трех тысяч биллионов микроорганизмов. Три миллиона миллиардов: 3 ? 1015! Вокруг себя мы видим луга и леса, камыши у рек за ковром злаков: лицо Земли — это лицо жизни. И почти неправдоподобным могуществом обладают эти мириады живых тел. Невидимый глазу, один-одинешенький шарик-кокк мог бы, если бы ничто не ограничивало его размножения, менее чем в полтора суток образовать сплошную пленку, которая заволокла бы все материки. Крошечный живой комочек за 36 часов произвел бы столько подобного себе вещества, что оно покрыло бы Землю! Пусть это только возможность, пусть в действительности, как мы знаем, множество причин сдерживает реальное размножение живых существ, но ведь все же речь идет о химическом процессе поистине необычайном! Вернадский говорил о «геохимической энергии жизни». О силе лишайников мы слышали от Тимирязева. Ничто в мертвой природе не может разрушить чистую глину — каолин. Ни вода, ни кислород, ни углекислота. Только в доменной печи каолин начинает «сдавать». Грибы разрушают каолин. Но тут не разрушение просто, а тут именно преобразование, созидание. Потому что жизнь так изменяет окружающую среду, что отныне она делается способной стать домом для новой жизни. К чему ни прикоснется живое дыхание, всюду производящая сила вселяется в грубую породу: где ни пройдет жизнь, следы ее становятся животворными. Земля зеленая и цветущая, великая производительница жизни, сама создана ею. Мать, порождающая детей, в свою очередь, порождена ими! Научное творчество того человека, о котором сейчас будет рассказано, также шло в струе, в истоке этих открытий. Можно ли сказать, что оно увенчивало их? Во всяком случае, оно прибавило к ним такие особенности, какие стали возможны только для советской науки, науки сталинской эпохи. «Земля и жизнь» — решающие открытия были сделаны в этом ряду. Но все же это еще слишком общий ряд. В нем следовало вычленить звено: «Земля и человек». И не отвлеченный человек, а человек, трудящийся на Земле, общественный человек. Землю, почву уже изучали. Следовало посмотреть на человеческий общественный труд как на участника в формировании облика Земли, самых свойств ее и, во главе их, такого свойства, как плодородие, «рождающая сила» почвы… Термин, неведомый почвоведам еще недавно, — «культурная ночва» — теперь должен был стать центральным в учении о развитии почв. К этому моменту советские геологи и геохимики заговорили о великом рубеже в истории Земли. Законченной надо признать и последнюю «чисто природную» геологическую эру — кайнозойскую. Начинается совсем новая, отличная ото всех предыдущих — человеческая эра. Сам автор учения о биосфере провозгласил это. Книга того исследователя, о котором мы ведем здесь речь, позволяла точнее понять, что это такое. Но опять она не просто «отмечала факт». Она исходила из опыта социалистического общества, социалистического труда. И вся была направлена к тому, чтобы научить человека полностью взять в свои руки создание рождающей Земли, жизнь почвы, биографию планеты. Эта книга, одна из самых изумительных в истории науки, была руководством для космической роли человека в делах природы. А посвящена она была памяти Василия Васильевича Докучаева и Павла Андреевича Костычева. Автор книги писал в предисловии к первому изданию ее, что это попытка «подвести техническую базу под организационные принципы сельскохозяйственного производства Союза Советских Социалистических Республик». А в предисловии к четвертому (последнему прижизненному) изданию, написанном в 1938 году, автор характеризовал содержание книги как выяснение «условий непрерывного и беспредельного повышения урожайности культур», ссылался на опыт новаторов агрономии, стахановцев земледелия в нашей стране и говорил о том, что, работая над книгой, он «стремился возможно лучше решить те задачи, которые поставлены перед нами нашим великим учителем, вождем, вдохновителем новых побед Иосифом Виссарионовичем Сталиным и его ближайшим соратником и другом Вячеславом Михайловичем Молотовым». Книга эта — «Почвоведение» академика Вильямса. Василий Робертович Вильямс умер в 1939 году. Те, кто не видел его лично, знают по многочисленным портретам и фотографиям облик человека со строгим, крупно вылепленным лицом, внушительным голым черепом, выпуклым лбом, почти без морщин, с красивыми и мощными буграми; сурово, по-старчески выпячена нижняя губа, на прямом характерном мясистом носу — чеховское пенсне. И есть что-то неожиданно орлиное в близоруких глазах, скрытых за стеклами. Лицо не рядовое, «скульптурное», какого нельзя не заметить и которое сразу врежется в память. Вот на фото Вильямс ведет беседу с приехавшими с Алтая мастерами урожая — «ефремовцами». Вот подписывает социалистическое обязательство. Вот он, внимательно наклонив голову и прищурившись, уверенно держит в большой рабочей своей руке с толстыми пальцами крошечную посудинку, дозируя химикалии для анализа перегнойных кислот. Одет он обычно в белую куртку-блузу с открытым воротом, галстуки стесняют его. На куртке — значок депутата Верховного Совета СССР, орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени. «Главному агроному Советского Союза» — за семьдесят. Но очень трудно приложить к нему слова «глубокий старик». У него есть особенность, дивящая и даже возмущающая его сотрудников. Он все не признает ни очередных отпусков, ни домов отдыха. Возможно, что возмущающиеся правы, считая это упрямой причудой. Но для него непереносима самая мысль о «прорыве» в той идеальной организации «рабочего времени», которой он подчинил свою жизнь. Планомерность, ясность и твердость заведенного порядка, аккуратность почти до педантизма — без этого он не представляет себе существования. Он презирает всякую, пусть как угодно романтически приукрашенную небрежность: не прощает рассеянности, безжалостен к забывчивости. Встает в шесть. В восемь входит в лабораторию. В восемь. Ни минутой раньше, ни минутой позже. До десяти он занят химическими исследованиями. Всем известно, что это часы мертвого молчания. Затем вращающийся стул делает полоборота, переселяя Вильямса из уединения лабораторного стола к людям, газетам, журналам и всем «злобам дня». Определенные часы завтрака и обеда. Часы работы в музее, подготовки к лекциям, работы над рукописями. Пунктуально соблюдаемые часы приема посетителей, которые приходят к Вильямсу — депутату Верховного Совета. День его часто заканчивался к полуночи. Он был уверен, что методический порядок намного увеличивает емкость суток. Неуклонный порядок должен быть и в мышлении. «Главное, — твердил он, — это научить людей мыслить, познакомить их с системой мышления в данном предмете, приучить их к систематизации приобретенных знаний, к группировке их, к оценке сравнительного их достоинства…» Создатель учения о культурной почве высоко ставил культуру всякого труда. Сотрудники вспоминают изощренное техническое оснащение лабораторной работы Вильямса. «Тончайшие специальные приборы, редчайшую химическую посуду, сконструированную им самим, автоматическую промывалку, резиновые насадки для смывания почвы с чашек, баллоны, продувалки, заимствованные у зубных врачей, специальные кисти и щетки — у художников, ножи — у кондитеров, молоточки, крючочки…» Это тоже было отрицание работы спустя рукава; разве примитивность не родная сестра разгильдяйства? Отвечая на приветствия в день 50-летнего юбилея своей научной и общественной деятельности, Вильямс сказал: — Мечтаю дожить до того дня, когда колхозный гектар будет давать 50 центнеров пшеницы. Он дожил до семидесяти и до ста центнеров на гектарах ефремовцев. Почвовед Рессель, англичанин, спросил его изумленно: — Вы разгадали секрет элексира молодости? — Я пережил три революции, — сказал ему Вильямс, — и не просто пережил, а активно участвовал в них. В этом, очевидно, и кроется секрет моей молодости. В конце своего жизненного пути, семидесяти шести лет, он написал письмо товарищу Сталину: «… Я как будто не старею. Сознание того, что я состою в рядах великой партии Ленина, работаю под ее руководством и Вашим, дорогой Иосиф Виссарионович, и что имею счастье непосредственно участвовать в строительстве первого, невиданного еще в истории человечества бесклассового социалистического общества — это сознание молодит меня и воодушевляет в моей повседневной практической и научной работе…» Полвека он прожил на территории нынешней Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Но не в теории только и не по опытным делянкам он знал землю. Сын инженера-строителя Николаевской железной дороги и тверской крестьянки, он родился 10 октября 1863 года в Москве. Жестокая нужда подстерегала семью Вильямсов. Отец умер, осталась мать с детьми. Ученик реального училища, Вильямс должен был начать зарабатывать и помогать матери. Он учился упорно, несмотря ни на что. В «Петровку» (сельскохозяйственную академию) ходил пешком с Остоженки — верст за десять. Как Тимирязев, как Докучаев, как Павлов и как очень многие русские ученые, он брал науку с бою. Вильямс кончил «Петровку», ту самую академию, где потом протекали его жизнь и работа. Путешествия его начались рано — научной командировкой по биологическим и агрономическим лабораториям Европы. Это Вильямс организовал в 1894 году пять русских сельскохозяйственных отделов на Колумбовой выставке в Чикаго, где была экспонирована докучаевская коллекция почв. Он исходил пешком поля и виноградники Прованса, дюны и верещатники Северной Германии; он был в Калифорнии и у Великих озер; он изучил канадскую житницу Саскачеван, где пшеницей засеяна распаханная прерия. Он изъездил черноземную полосу России, исследовал истоки Волги, Оки, Сызрани и тургеневской Красивой Мечи. Он участвовал в закладке первых чайных плантаций в Чакве, возле Батуми. Знаменитые подмосковные поля орошения в Люблине устраивались Вильямсом. Он странствовал по Сибири. И вот в его уме встала картина гигантской и единой, от полюсов до экватора, жизни Земли, единого почвообразовательного процесса планеты. Он дает свое, острое определение: «Почва — рыхлый поверхностный горизонт суши земного шара, способный производить урожай растений». Тут не констатация: отчего произошла почва, а сразу быка за рога: каковы функция и значение почвы. Определение смотрит вперед, а не назад. Вильямс видит в почвоведении синтез естествознания. Но все процессы в «четвертом царстве природы» — это особые процессы. Химизм почвы (химизм поражающего богатства и напряжения!) — это вовсе не простой химизм любой минеральной породы. «Весь химизм почвы есть не более, как функции органического вещества ее…». «И когда неумелая обработка распылит строение почвы, когда запаса воды в ней не хватает даже для обеспечения самого малого урожая, когда жизнь в ней замрет, не находя необходимых для себя условий, не вносим ли мы в нее органическое вещество — навоз? Нет, мы вносим навоз только для того, чтобы вновь оживить в мертвой почве те биологические процессы, которые угасли вследствие несовершенной, не отвечающей цели обработки и без которых замирает всякое движение вещества». Вильямс находит в родящей почве настоящую «коллоидальную среду». В «коллоидальном состоянии» находится, как известно, живое вещество организмов. Исследователь поясняет, что влечет за собой это состояние для почвы: «Чрезвычайное развитие внутренней поверхности» — огромная внутренняя емкость этой щепоти земли, которую вы можете взять пальцами; «развитие нового свойства — поглотительной способности…» Обнаженный костяк Земли, высится могучий утес. Время летит над ним. Днем его накаляет зной, студит ночь. Сеть тонких трещин-морщинок пробегает по нему. И странный, не то шелестящий, не то певучий звук рождается в его каменной груди в те часы, когда ночь переходит в день и день в ночь. Ветер бьет по утесу. Бури секут его колючей пылью. Они выбивают в нем подобие пчелиных сотов. Дожди смывают долой измельченную труху его слабеющего, некогда литого тела. В холодные зимние ночи в трещинах замерзает вода. И, как распорка, раскалывает глыбы. И вот рушится член за членом гигант, источенный, истертый временем. Грудой рухляка становится каменный костяк Земли… И всюду, где на поверхности появится рухляк — в морщинах ли скал, под выдутым ли песком, под растаявшим ли, отступившим ледником, — жизнь начинает на рухляке свое дело — созидание почвы. Первичная пленка ее тончайшая. Она результат работы бактерий. «Пустынный загар», говорит об этой пленке ученый, не забывший, что об руку с его наукой о великом мире идет сестра ее — поэзия. Огонек жизни затеплился в мертвой пустыне. И манит он к себе путников, странников живого мира. Первой приходит водоросль. Вильямс знает ее имя. Черная маленькая водоросль — «дерматокаулон ювеналис». Она умножается. «Загара» уже не видно под плотным черным слоем ее. Приходят лишайники. Начинается развитие лишайниковой тундры. Это самая молодая почвенная зона Земли. Где эта зона? На севере? Но Вильямс находит окаменелые остатки тундровых лишайников на привезенных в Москву валунах из лёссов Средней Азии. Значит, не зона это только — это стадия. Через нее прошли все зоны. Надо освоиться с этим изумляющим выводом: «Почвенные зоны и типы почв, которые различаются в почвоведении, лишь статические моменты единого, колоссального по длительности и протяженности динамического процесса». Будто мы рассматривали до этого разрозненные фотографии — и двинулись фигуры, сошлись, налились живой кровью, где был серый плоский фон, закипел сверкающий, гремящий мир. Он открылся нам — мы увидели медленно, как полипы, растущие, до туч громоздящиеся горы и чудовищных летунов над исполинской чащей; а когда сменились миллионы лет, остался только черный налет на ее месте, похожий на след пожарища. И еще сменились сроки. Взглянем: вот птица со странным, похожим на чешую оперением перенеслась, тяжело взмахивая короткими, словно обрубленными крыльями, через светлую реку, которая роется в лиловых берегах; глубоко под пластами земли уже похоронен древний угольный пласт… И опять перевернулась страница в книге жизни планеты. Нет и реки, только неоглядно раскинутый пестрый душистый травяной ковер. Ветер тронул траву, колыхнул медовый аромат, и, как вспугнутая, кинулась, пропала вдали быстрая стайка легких бегунов в полосатых шубках. Почва черна и жирна, она не пылит, на ней ясны отпечатки маленьких копытцев… Земля и жизнь неразрывны. Но нам надо вернуться к началу, к исходному пункту. Перед нами еще только первопочва: лишайниковая тундра. Век за веком, тысячелетие за тысячелетием — всё тундра. Отмирают ржавые слоевища, подушечки моха, тоненькие корешки — «ризоиды» — в почве. И мало-помалу — точно полушка за полушкой в сундуке скупого — накапливается органическое вещество. Морошка начала расти в тундре, расстелилась карликовая ползучая ива. И они кидают в копилку полушку за полушкой. Вот и полна копилка. Но все равно не зазеленеть тут привольному разнотравью. Угрюмый бор, завоеватель тундры, один может использовать угрюмое сокровище нищего скупца. Что происходит под сомкнутым лесным пологом? Недвижимо пронизывают сумрак колонны стволов; столетние темные великаны похожи на обомшелые утесы. И голо на сырой земле у подножья их. Только редкие папоротники, игольчатые мутовки хвощей да «мертвый покров»: бурая, опавшая хвоя, прелая, в массу слипшаяся листва, тронутая тлением древесина. Да «войлок» грибницы… Тут идет «грибной» процесс размножения органического вещества. И накапливается та из перегнойных кислот, которая носит название креновой; это кислота грибного процесса. Светловатая, тяжелая почва образуется под лесной подстилкой: подзол. Неживая, глухая почва — даже воздух не проходит сквозь нее, когда она напитана водой. И в глубине под ней работают не дышащие воздухом бактерии — анаэробы. Они медленно разлагают окиси железа, соли креновой кислоты. Рыжая земля возникает под подзолом, а еще ниже — серый глей. Но проходят годы. Отмирают дуплистые, похожие на изъеденные временем скалы, великаны. Размыкается зеленый полог. Наступает семенной год леса: густая поросль сеянцев выходит из земли. Вместе с ними впервые являются травы. Сеянцы подросли. Теперь лес двухэтажный. Скоро он снова жестоко расправится с травами. Всё, будто как раньше. Только что-то надломилось. Все чаще семенные годы. Зачастили! И каждый раз, вместе с древесными сеянцами, — веселый всплеск травяной волны. Да победимы ли эти пришельцы, дружная армия пигмеев, дерзко штурмующая гигантов? И во многих местах, в тысячах мест гигантам уже не сладить с нею. Тут битва вчерашнего с завтрашним днем. Сейчас на земле — не царство первозданных боров. Готика мамонтовых деревьев, феодальные замки кедров — это то, что было, что отошло в прошлое. На смену пришел дерновый период почвообразования. Один из самых важных в нашу эпоху на Земле. Не бор, а луг. Луг зеленеет до зимы, пока не замерзнет вода в почве. Веснами в земле, насыщенной влагой, принимаются за работу анаэробы — бактерии-«безвоздушники». И все накапливается органическое вещество. Оно влагоемко: уже труднее движется вода к глубинным слоям. Древний лес, если он еще дожил до этого, теперь обречен. Злаки — мятлики, тимофеевки, овсяницы, золототысячник, иван-чай, бобовые, с их замечательным свойством ловить азот и обогащать им почву — вот хозяева луга. И впервые у почвы здесь появится то исключительного значения качество ее, без которого она еще не «настоящая» почва: она приобретает структуру. Она становится комковатой, делается прочной. Без этого свойства почвы люди не знали бы земледелия. Что же такое эта прочность? Разве не прочна желто-красная, мертвая глина? Опустите глыбку ее в воду, говорит Вильямс, она расплывается облачком. Она обладает связностью, но прочности у нее нет никакой. Однако как раз в это время судьба возникающей под луговым дерном, в одряхлевшем лесу, еще бедной почвы колеблется. Она — на распутье. Что будет с ней? Станет она почвой или… Представим себе это непрестанное накопление в ней органических остатков. Мы знаем: это вещество, как губка впитывающее влагу. И вот: оно накапливается слишком изобильно, чрезмерно. Почва закупорена. Воздух — только в верхнем тонком слое. Под ним водяная ванна. Теперь сменятся жильцы луга. Все растения со сколько-нибудь глубокими корнями уступят место поверхностно сидящим — трясунке, зубровке, луговой чине… Рыхлокустовых злаков не видно: одни плотные кустики мокрого луга. Земля чвакает под ногами. Середины кустиков давно отмерли. Они стоят, напитанные застойной водой. Возникают и растут кочки. Стока почти нет. Снова сменяется население. Пухлые дерновины мхов, кусты и кривые деревца, бедные ягоды под ними, плауны, осока и черная вода: перед нами болото. Вильямс отлично понимает парадоксальность своего вывода. «Причина образования болот — недостаток в почве зольных элементов пищи растений, содержание же воды в болоте есть простое следствие большой влагоемкости органического вещества. Этот вывод противоположен очень старому взгляду… что образование болот есть результат скопления воды. Здесь налицо смешение причины со следствием…» Но если вжиться в эту систему идей и выводов, то она покажется наиболее естественной, вполне стройной и понятной. Вещи и явления внешнего мира, которые выглядели случайными и требовали каждый раз особых объяснений, теперь с логической неизбежностью вытекут из общего процесса; самые неожиданные факты станут на свое место. Реки с их особенностями, с формой их долин, с поймами, грунтовые воды, глины и зыбучие пески; папирусное болото где-нибудь в Уганде; светлые осиновые перелески, молодые дубравы, и легкая почва сосновых рощ, и земля «инфузорная», так ценимая садовниками: мы узнаем во всем этом неизбежные результаты той или иной, строго определенной фазы или развилинки одного процесса, «природные проявления» дернового периода почвообразования. Но разве нет последнего, все решающего в растительном мире довода — климата? Даже и на этот довод Вильямс смотрит скептически. Ему известно, какие поправки вносит лес в климат тундр и как пустыню делает не пустынный климат, а вырождение растительного покрова, вырождение почв; сама пустыня делает пустынный климат! Утверждали, что «зона чернозема» будто бы возникает только на месте «вечных степей», вечного «степного климата». Но чернозем попадается от Якутска до Индии, а в Северной Америке эта зона вытянута меридионально, вдоль цепи гор, на тысячи километров с севера на юг, поперек разных климатов. Гораздо больше, чем климатические пояса, занимает Вильямса почвенный возраст. Когда для каждого данного места была нулевая точка, начало почвообразования, от которого следует отсчитывать «почвенное время»? Вопрос может показаться почти излишним: да разве почва не стала образовываться повсюду примерно одинаково с того самого момента, как появились на суше первые растения, что-нибудь с силурийского или девонского периода? Поверхностный и поспешный ответ! Моря отступали и наступали. Волны поглощали сушу и обнажали дно. Разливались лавы. Вот как сложно, со многими перебоями, со многими началами протекал процесс почвообразования! Но сейчас для нас важнее не эти древние перебои. Не они определяют «точку отсчета». Великое оледенение еще совсем недавно, по геологическим часам, в эпоху, непосредственно предшествующую нашей, охватывало почти все пространство, где теперь наша страна. Ледник отступал долго. Это тянулось многие тысячелетия. Первыми освободились места, где жарче припекало солнце. Ледяная броня на севере стаяла последней. Древний материковый лед все еще мощной толщей покрывает Гренландию: там не закончился ледниковый период, и путешественник, поехавший на этот самый большой в мире остров, в сущности, совершает путешествие во времени. Иногда обнажившаяся почва сберегала что-нибудь от своего доледникового возраста. По большей же части это была мертвая минеральная «поддонная» морена: силикаты, глины, истертые кварцы, мергели, мел… И время здесь началось наново… Но мало того, что на юге оно началось раньше, — оно там, на юге, и текло скорей, чем на севере. Тут о климате уже никак нельзя забыть: где теплее, там всегда быстрей идут все органические процессы. И вот перед нами «пояса»: тундр, лесотундр, тайги, лесостепи, степных черноземов. Причудливы границы этих поясов — не изотермами, линиями одинаковых температур, определяются они; это хорошо знал и Докучаев. Все эти пояса разного возраста и все в движении; и движение их тоже разной скорости. В дерновом периоде почвообразования возникает великое сокровище — чернозем. Горовой чернозем, и долинный, и чернозем склонов, исследованные Докучаевым. А на востоке и юго-востоке — тучные глинистые черноземы лугов с раскиданными там и сям березовыми «колками»: это знаменитая «березовая степь». Один из типичных примеров ее — Бараба, или Барабинская степь, на юго-западе Сибири, на водоразделе между Обью и Иртышом. На юге «почвенное время» быстрее бежит, чем на севере. И вот — рано ли, поздно ли — там, где на километры тянулись болота, их уже не найдешь. Они отмирают. Чистой, осветленной водой полны их мшистые «окна». Потом «окна» сливаются. Местами болота высохли совсем. Местами родились синие степные озера. Шумят на просторе все более быстрые весны. Овраги остаются там, где пронеслись вешние воды. Цепочкой «бочагов», прежних омутов пересыхают летом речки. Потом, на месте их, сухая балка; и сухие овраги — верхи, отвершки — впадают в нее. Кончен дерновый период. Наступил степной. Воды куда меньше, а ни лес, ни луг никогда так не размывало, как размывает степи. В чем тут дело? Ясно, во всяком случае, что здесь какой-то переломный момент в развитии почвенного покрова. Высшая точка достигнута в черноземах; дело идет к спаду. Вильямс так представляет себе этот перелом. В черноземах — идеальная комковатая структура. Между комочками глубоко проникает в почву вода; сколько ее ни выпадает, всю поглотит чернозем. Комочки всасывают ее капиллярным, волосным путем, когда она просачивается мимо них по свободным промежуткам. И где-то в глубине она питает грунтовые воды — никогда не упадет сильно уровень и в реках. Все, что нужно растению, все дает черноземная почва; нет плодороднее ее. А луг все откладывает и откладывает органическое вещество. И вот перейдена граница, за которой каждая прибавка перегноя уже не улучшает, а ухудшает почву. Теперь на этой стадии болоту не образоваться: болото может возникнуть в дочерноземной фазе, на «наследстве» подзола. Теперь же получится вот что: перегноем заполнены все промежутки между комочками. И комочки склеиваются; структура исчезает; земля уже не поглощает, а все медленнее всасывает воду. Едва тридцать процентов талой и дождевой воды идет в почву, а семьдесят — стекает прочь. И вода смывает самое дорогое — верхний плодородный слой. Овраги съедают землю. А скупого запаса воды в ней хватает едва до половины лета. Задолго до холодов степь уже высохла. Наступила засуха, хотя дождей, может быть, и не меньше, чем выпадало тут некогда, когда до самых зазимков зеленел и не просыхал мокрый луг. Грунтовые воды иссякают. И обмелели реки. От многих нет и помину. Теперь нацело сменились луговые травы степными. Стоят они куда реже, видна земля; серебряные султаны стелет над ней ковыль. Травы отмирают летом. Бактерии, дышащие воздухом (его вдоволь в сухой почве), — аэробы быстро разлагают их остатки. Беднеет перегноем почва. Но структуру ей не вернуть. Да и весь климат в степи переменился. Пятнами степь высаливается: белеют лысины солонцов, еле прикрытые карликовой полынью и ломкими, суставчатыми, красноватыми солянками. И нетрудно вообразить переход к последнему периоду почвообразования — пустынному, с последней сменой на пустынное сообщество растений, пустынный ландшафт и пустынный климат. Лес появляется не раз и после гибели древнего бора. Белые березы, осинники с их шелестящим шумом, светлые дубравы, в каких охотился некогда Ярослав Мудрый… И в пустыне есть свой, пустынный лес. Не все кончено с древесной формой на Земле! Но эти новые леса, менее массивные, менее «скалоподобные», более гибкие в борьбе с травянистой растительностью, — они и по облику, и по характеру, и по значению своему нечто совсем другое, чем исконный бор — тайга. И еще совсем другое — джунгли тропиков, перевитые лианами, с кипящим, клокочущим изобилием жизни и особыми почвами — красноземами, характерными для них. Тот, кто бывал возле Батуми, в Аджарии, самом тропическом уголке нашей страны, видел, быть может, «малиновые земли» на буйно заросших горных склонах. Тот, кто бывал в Закарпатье, мог увидеть в высоких буковых лесах буроземы. Это все «развилинки» почвообразовательного процесса, и подробнее говорить о них нам здесь нет нужды. Ведь в главных и общих чертах этот великий естественный процесс прошел перед нами. Но из пятисот десяти миллионов квадратных километров земной поверхности на долю суши (о которой шла речь на этих страницах) приходится всего сто сорок девять миллионов. А что же происходит в мировом океане, первой колыбели жизни и ныне величайшем вместилище ее? Вильямс говорит и о нем. Исследователь расширяет поле своего исследования. И вот он показывает нам глубокие связи, которые протягиваются от континентов к глубокому простору, откуда молчаливо катятся вал за валом, чтобы разбиться в жемчужной черте прибоя. Суша и вода, отрезанные друг от друга этой гремящей чертой, «враги», противостоящие друг другу и одинаково несущие на себе жизнь, — не одно ли они и то же? И что такое просторы океана? Почва, отвечает Вильямс. Тоже почва! Все признаки почвы у них. Они плодородны; как и суша, они служат предметом человеческого труда (ведь человек ведет свое водное хозяйство и в естественных и в созданных им искусственных водоемах). Больше того. «В сущности, если шире взглянуть на дело, то всемирным носителем плодородия представляется вода, гидросфера, океан». Чем была бы и суша без воды! Откуда у океана плодородие? Мы уже знаем: всегда плодородие — способность порождать жизнь — есть само результат работы жизни. И это так же верно для «водной оболочки» Земли, как и для «каменной». «Причины плодородия Океана есть обитание его живыми организмами…» Что известно нам о воде древних морей, о первоводе? Во всяком случае, то, что она была мертва. И мы столь же мало узнали бы в ней знакомую нам воду, как в безжизненной каменной пустыне ласковую землю. То было нечто вроде дестиллированной воды аптекарей. Это Жизнь за миллионы лет своего существования насытила ее кислородом и углекислым газом, одарила ее способностью растворять множество веществ земной оболочки, обогатила ее солями. Тут шел также процесс почвообразования. И были у него, конечно, свои периоды. Не раз сменялись «живые формации» моря. Вильямс включает в свое исследование эти поразительные смены. Они зависели и от изменений, происходивших на суше, от того, какие растворимые вещества главным образом поступали в море. Он прослеживает «глубокую диалектическую взаимосвязь между двумя носителями одного общего качественного признака плодородия — почвой и Океаном». Он рассказывает о притоке кремневой кислоты и о сравнительно скудной жизни, какая была тогда: кремневые панцырьки микроскопических радиолярий, диатомовых водорослей; хрящевые рыбы без настоящих твердых костей, похожие на огромных мокриц трилобиты — в их скорлупе был хитин, как у наших насекомых. Шли миллионы лет. На суше возникали новые почвы. Бактерии связывали азот. Явилась азотная кислота, растворитель сильнейший, стремительно ускорилось образование горных пород. В ту пору уже пышная растительная жизнь взошла, как на дрожжах, на новом изобильном питании. Корни отнимали азотную пищу от почвенных химических соединений, в которые входил азот. Разлагали корни растений и кальциево-азотные соли. И частицы кальция, впервые в истории Земли обособленные и окисленные кислородом воздуха, соединялись с углекислотой. Так появилась углекислая известь. И это составило «геологическую эру». Вода понесла известь в океан. «Скачком, как взрывом», говорит Вильямс, смогла развиться новая смена морских существ; гигантские раковины — подобные той, какая стоит вместо купели в «Соборе Парижской богоматери»; мир костистых рыб и колоссальных ящеров. А сам океан «стал регулятором содержания углекислоты в атмосфере», и у атмосферы явилось новое качество: постоянство количества углекислоты в ней. А углекислота напитала воды суши, и дожди, и росы, и стали эти воды могучими растворителями; быстро пошло химическое выветривание рухляков, и все опять стало меняться на континентах, а затем и в морях. Грандиозна эта картина, нарисованная исследователем. Словно впервые открылась перед нами в самом сокровенном своем наша планета, и мы увидели, как подают друг другу руки моря и континенты, и вся Земля превращается в большой дом. Ход колоссального процесса живого созидания открылся перед нами, и Вильямс поясняет торжественным курсивом: «Единого, охватывающего и Сушу и Океан». Не много во всей истории естествознания найдется научных построений такого величия, такой смелости, силы и широты созерцания мира! ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭРА Еще ничего обо всем этом не знали и даже не подозревали люди, еще ходили на охоту и на войну со стрелами и копьями, а на поле — с мотыгами, а уже крепко вмешались люди в дела природы. Природа перестала быть одна, сама по себе: стали Природа и Человек; почва перестала быть продуктом Земли и Жизни: были с тех пор Земля, Жизнь и Человек. Правда, очень долго человек только ощупью вмешивался в дела слепого силача — Природы. И есть два смысла в словах «человеческая эра»: тот смысл, который сопутствовал доброму десятку тысяч лет предыдущей работы людей на Земле, и тот смысл, какой возникает теперь, на наших глазах, в нашей стране, — смысл, обращенный в будущее. И этот второй, гордый смысл был главным предметом исследований Вильямса. Но прежде чем говорить об этой важнейшей стороне работ Вильямса, надо сперва оглянуться назад: без первого смысла не поймешь и второго. Был на памяти многих еще живущих стариков год, когда по-особенному пришлось задуматься о том, что значит хозяйствование человека на Земле. Этот год был 1891-й. За ним осталось имя: «голодный год». Так он и вошел в историю. Голод был частым гостем старой деревни. То там, то здесь крестьяне голодали постоянно. Это проходило незамеченным: дело обычное. Хлеб пополам с лебедой — полгоря. «Не то беда, что во ржи лебеда…» Только когда бедствие ширилось и охватывало губернию за губернией или становилось общенародным, тогда заговаривали о голоде. «Злее нет беды, когда ни ржи, ни лебеды…» И такая беда повторялась частенько, если посчитать, — чуть не каждые пять лет. Голодала не только русская деревня. Во время ирландского голода 1847 года вымер миллион человек. Голодовки посещали Германию, Англию. А про страны Востока и говорить нечего. В Индии из года в год голодает несколько десятков миллионов человек, а во время голода 1869–1870 годов Бенгалия потеряла треть населения. Четверть населения Персии погибла в засуху 1870–1872 годов. В царствование Николая Первого было у нас до десятка голодовок, в шестидесятых годах — голод смоленский, в 1872 году — самарский, в 1880 году — в Нижнем Поволжье, в 1885 году — на юге Украины и в центральных губерниях. Широко открывали ворота голоду деревенская нищета, чересполосица, никудышная обработка земли, не вспаханной, а всковыренной сохами. Даже и после урожайного лета крестьянское хозяйство еле дотягивало до следующей жатвы; запасов не бывало. Чуть недород — уже сразу кормиться нечем. Рядом у помещика прело зерно в амбарах, в нескольких часах езды по железной дороге были губернии, не тронутые бедой, — власти ничего не умели сделать, чтобы помочь голодным. Надеялись больше на частную благотворительность. И разоренные хозяйства не могли подняться, правильно отсеяться даже на следующую весну и осень. И на тучных русских черноземах все умножалось число «вымирающих деревень». Так бывало в любой «обычный» голод. А голод 1891 года был необычным. Он охватил 29 губерний. Никто не помнил такого бедствия. Отяжелено оно было повторением засухи и недорода (хотя и в меньшей мере) и в 1892 году. Напрасно попы ходили с хоругвями по буро-серым полям. Солнце жгло обнаженные головы толпы и младенцев на руках у матерей и оклады икон, поднятых на полотенцах, пыль набивалась во рты людям, нестройно поющим церковные песнопения, молящие небо о дожде. Знаменитая картина Репина «Крестный ход в Курской губернии» переносит нас в то далекое, уже многим поколениям незнакомое и непонятное время… Передовые люди русского общества близко приняли к сердцу народное горе. Известна кипучая, самоотверженная деятельность Льва Толстого в голодный год. За четверть века до этого тяжкого года, когда еще молодой Толстой работал над «Войной и миром», беда также надвигалась на среднерусскую деревню. Тогда Толстой написал Фету сильные и тревожные строки: «… общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше… У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой чорт — голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле, и обдирает мозольные пятки мужиков и баб, и трескает копыта скотины, и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде достанется». Теперь, в 1891-м, бедствие подошло огромное, грозное. И Толстой отложил другие дела. Самое важное было для него — помочь деревне. Он ездит по уездам Тульской, Орловской, Рязанской губерний, учреждает столовые, собирает пожертвования, переписывает дворы, добывает, распределяет по этим дворам хлеб. Обращается с воззваниями, пишет статьи — в них он сурово винит царско-помещичий строй. «Московские ведомости» усмотрели тогда в статье Льва Толстого «Почему голодают русские крестьяне» «открытую пропаганду к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя…» «На голоде» работает Глеб Успенский. В Нижнем Новгороде живой «центр» помощи — Владимир Галактионович Короленко. А русская наука объявила себя как бы прямо мобилизованной на борьбу с бедствием. Что такое засуха? Откуда она? Вправду ли непобедима эта стихия? Что сейчас надо делать? Тимирязев читает лекции, издает брошюру «Борьба растения с засухой», переводит книгу немецкого агрохимика Вагнера «Основы разумного удобрения». В сознании всех тогда неотвратимо и настойчиво встал общий вопрос: Что же случилось с нашими степями? Куда девалась их былая, исполинская производящая сила? Почему запустевают самые лучшие, самые драгоценные черноземные районы? Было живо в памяти знаменитое гоголевское описание степей времени Тараса Бульбы: «Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь Юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений, одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою; вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Чорт вас возьми, степи, как вы хороши!..» Было ли когда-нибудь так? Да, русские исследователи знали, что не фантазия это только Гоголя. Миддендорф, Бекетов, Краснов, Коржинский, Танфильев воссоздали облик прежних травяных морей с раскиданными кустами шиповника, колючего, осыпанного цветами дерезняка — родственника желтой акация, бобовника — родича миндаля, степной вишни. Еще недавно казалась неиссякаемой рождающая сила степей… В 1850 году на выставке в Лондоне как диковинку показывали «арнаутку», выросшую около Керчи: тяжелые зерна пшеницы, we видавшей за все время своего роста ни капли дождя. Была засуха — всегда случались засухи, — но почва сама тогда не только накормила, но и напоила поля. О керченской «арнаутке» вспомнил А. В. Советов в своей докторской диссертации. Уже тогда, в шестидесятых годах, он озабоченно отмечал исчезновение «силы земли». Красные хлеба, твердые яровые пшеницы утрачивают стекловидность; падает содержание в них азота. Почти всюду идут им на смену мягкие хлеба, мягкие пшеницы. А затем дело кончается серыми хлебами — озимой рожью, овсом, меленьким «рязанским», «тамбовским» просом. Где, опрашивал Советов, где теперь «бланжевое оренбургское» и «червонное» просо? А в годы бедствия другой замечательный русский агроном А. А. Измаильский пишет книгу «Как высохла наша степь». «Степь — обыкновенная наша степь… слишком слабо отеняется своей тощей растительностью… солнечные лучи совершенно беспрепятственно нагревают почву степи, а ветер на этой почти голой поверхности, ничем не стесняемый в своем движении, свободно уносит и те жалкие крохи дождя, которые успевают не надолго скрыться в верхнем слое почвы». Какой разительный контраст со степью Тараса Бульбы! Измаильский предостерегал: «Если мы будем продолжать так же беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности наших степей, а в связи с этим и на прогрессирующее иссушение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем наши степи превратятся в бесплодную пустыню». Он напечатал разрядкой это предостережение. Пустыня! Страшное слово произнесено. В чем же причина грозного зла? Общий ответ был уже очевиден русским ученым. Эта причина — в обломовском хозяйничании помещиков, в хищничестве разбогатевших, «садившихся» на землю, чтобы выжать из нее все соки, купчишек (вспомним Лопахина из «Вишневого сада»). И в трехполке да двухполке на лоскутках деревенской землицы. Исследовательская мысль, однако, должна была найти точное естественнонаучное объяснение вредоносности хищнического, бескультурного хозяйничания. Что именно происходит с почвой, когда мы говорим: земля испорчена. То объяснение, которое в течение нескольких десятилетий господствовало в науке, было прямолинейное объяснение немецкой агрохимической школы, возглавляемой знаменитым Юстусом Либихом (им кололи уже глаза студенту Докучаеву). Снимая жатву, утверждала эта школа, мы что-то забираем из почвы: ведь растения, убираемые нами, строили свое тело за счет почвенных веществ. Волшебных кошельков с неразменным рублем не бывает. Растрачивая, надо возмещать. Бесчисленные ученики Либиха видели три пути возмещения. Первый — исконный, с древности известный, еще при залежной системе, когда, выпахав до предела, до дна измотав участок земли, забрасывали его «в перелог» — отдыхать. Другой путь заключался в том, что надо менять растения: потребности у разных растений разные, и при плодосмене почва будет частично отдыхать. Чтобы поощрить плодосмен попестрее, во французских войсках ввели красные шаровары и синие шинели: пусть сеют марену и вайду (из которых добываются красная и синяя краски). В германских казармах кормили гороховой колбасой: пусть сеют горох. Когда выяснилось изумительное свойство бобовых обогащать землю азотом, ученые разбили все полевые растения на истощающие и улучшающие почву. Третий путь восстановления плодородия почвы состоял в возврате ей всего взятого. Либих сам опекал фабрику «специальных удобрений» Олендорфа: там готовились удобрения для пшеницы, для картофеля, для свеклы, составленные по точнейшим научным рецептам применительно к тому, что именно эти культуры похитили из почвы. Однако, несмотря на безукоризненность расчетов, земля отказывалась выдать расписку урожаем, что ею получено все отданное. На полях, обрабатываемых изделиями Олендорфа, иногда даже начиналось выщелачивание слишком ревностно вносимых «туков». И фабрика специальных удобрений закрылась. Потом, вспомнив о временах Юлия Цезаря, рекомендовали еще «сидеральную» систему удобрений. Сидеральный — значит «звездный». Тимирязев не видел в этом термине никакого смысла: сидеральная система была просто система зеленых удобрений. Римляне, применявшие ее, полагали, что на растения таинственно действуют небесные светила. Выращивая после пшеницы и бобов рожь, горчицу или александрийский клевер, чтобы к осени запахать их заживо в землю, римляне думали, что удобряют поля влияниями звезд. Однако, если оставить в стороне астрологию, в зеленых удобрениях был, конечно, толк. Но опять никакого полного восстановления плодородия не получалось. Либиху казалось ясным, что естественный отдых почвы во время перелога зависит от физико-химического процесса, от выветривания, переводящего минеральную массу почвы в состояние, пригодное служить пищей для растений. Истощенная земля — это просто земля, у которой иссякла вот эта уже приготовленная пища. Сама-то земля, сама-то масса осталась. Дайте ей отдохнуть, и она сможет еще кормить и кормить. Итак, если бы ускорить выветривание… И «либиховцы» советовали пахать так, как никто не пахал: не оборачивать пласт, а ставить его почти стоймя, чтобы со всех сторон овевал ветерок. Сметливые английские инженеры построили даже такой плуг, который взметывал узенькие пласты. Увы! На пашне, стоящей дыбом, урожаи падали еще скорее. А что касается плодосменной системы, то была она, бесспорно, для своего времени существенным достижением агрономической мысли. Вместе с широким введением плодосмена урожаи в самом деле значительно увеличились. Надо только сказать, что плодосменная система появилась задолго до Либиха и при своем появлении ни с какими либиховскими теориями не была связана. У нас в России «плодоперемение» в передовых хозяйствах заводили уже в самом начале XIX столетия. В ставшем знаменитым Авчурине, Калужской губернии, Д. М. Полторацкий сеял по-новому на шестистах десятинах; на удивление современникам, он сеял травы. «Четыре поля» завел И. И. Самарин в Ярославской губернии. Можно упомянуть и «плодосменников» В. Г. Орлова и Д. П. Шелехова. А также замечательных огородников-ярославцев, крестьян, которые еще в XVIII веке начали чередовать сахарный горошек, душистые травы с бобами и цикорием. Клевер в Англию был, видимо, вообще завезен из Вологодского края, а в Германию клевер попал уже из Англии. Когда сложились «классические» английские и немецкие плодопеременные севообороты, в них строго выдерживался запрет хотя бы два года кряду держать на полях однородные растения. Ведь надо (так рассуждали авторы этих севооборотов) чередовать требования к земле, чтобы ежегодно земля отдыхала то той, то другой своей «стороной». И «рациональные хозяева» беспрерывно сменяли корнеплоды, клевер, яровые, озимые. Черный пар был начисто изгнан. Это был вечный бег, подгоняемый страхом, как бы не задержаться хоть год лишний на месте. Либиховская арифметика заверяла, что при таком беге сумма «утомления» земли будет полностью компенсирована суммой «отдыха». Вместе с зерном из почвы уходит много фосфора; сняв жатву пшеницы, ржи или ячменя, засевали поля бобовыми, а затем — техническими растениями. Эти растения, учил Либих, добывают из почвы преимущественно известь и калий. Фосфор будет накапливаться, а бобовые еще подарят полям и азот. Арифметика была непогрешимой, а тем не менее кривая плодородия, которая дала скачок вверх при введении плодосмена, в конце концов тоже начинала оползать (хотя и не так, конечно, как при трехполке). Агрохимики находили, что это сползание противоречит здравому смыслу. Слабое утешение! Но, конечно, при всем том плодосмен был делом важным и хорошим, и понятно, что передовые хозяйства старались заводить его. Однако русские агрономы не копировали «английской системы»; они вносили свои существенные поправки. Русские агрономы считали, например, что пар отбросить нельзя. В защиту пара решительно высказался А. В. Советов. «Мы должны создать свою русскую агрономическую науку», — заявлял агрохимик и публицист-народник А. Н. Энгельгардт в своих известных «Письмах из деревни»: он писал их из Смоленской губернии, куда был сослан, и печатал в «Отечественных записках», передовом журнале который редактировали Салтыков-Щедрин и Некрасов. Итак, русская научная мысль уже давно брала под сомнение агрохимическую схему Либиха и его английских поклонников и последователей. И немудрено, что именно русской науке было суждено нанести самый сильный, смертельный удар всему учению Либиха. «Рациональные удобрения» должны были восстанавливать полностью плодородие почвы — они, разумеется, были полезны, прибавку упавшего урожая давали, а полного восстановления плодородия не получалось. В плодосменной системе, очевидно, была какая-то истина, но истина, выраженная приблизительно, — лишь часть истины. Пахота со «взметом» ничуть не облегчала «отдых» почвы. А в залежи, в перелоге почва отдыхала. Во всем этом следовало разобраться. Решающий опыт был поставлен Павлом Андреевичем Костычевым. Костычев взял почву, только что вышедшую из-под залежи, и другую, до конца выпаханную, которую было пора забрасывать в перелог. Казалось ясным, что изобилие пищи должно быть в первой и полное иссякание запасов во второй. Либих считал это само собой очевидным. Костычев сделал точный анализ обоих образцов. Затем он взял новую «пару» образцов. А потом — третью «пару», четвертую, пятую… Костычев прибегал ко всевозможным химическим ухищрениям. Брал пробы почв с того же поля, с двух соседних участков: опыт должен был выйти в самом чистом виде, — почва ведь совершенно одна и та же, только один образец «истощенный», другой «отдохнувший». Десятки раз Костычев проверял свои разительные, невероятные результаты. Потому что они были невероятными. В почвах выпаханных он находил даже больше питательных веществ (и как раз в той форме, в какой их усваивают растения), чем в залежных, отдохнувших, где только посей пшеницу или рожь — и станут они стеной! Стало очевидно, что учение Либиха должно рухнуть. Но что заменит его? Что же такое все-таки плодородие? Одно различие обнаруживал Костычев между родящей и бесплодной землей. Касалось оно физического состояния, строения почвы. Вернее сказать так: у родящей было строение. «Она зернистая», подыскивал слово исследователь. Бесплодная казалась плохо пропеченным, «севшим» тестом. Колеса не вытащить из тяжелой, клейкой грязи. Высыхая, она обращалась в пыль. Это была разрушенная земля. Она противостояла целине — может быть, народ называет так действенную почву не только потому, что она нераспаханная? Разрушенная земля снова «отстраивается» в перелоге — вот в чем суть «отдыха» ее! Итак, наука конца XIX столетия не была беспомощной перед грозным вопросом: — Откуда беда, постигшая черноземное сердце России? Тогда с очень важным ответом на «голодный год» выступил глава русских почвоведов Василий Васильевич Докучаев. Книга, выпущенная Докучаевым (весь доход с нее должен был итти в пользу голодающих), называлась: «Наши степи прежде и теперь». Великий ученый был тогда в творческом расцвете. Как раз начинался его новоалександрийский период. Хорошо, резюмировал Докучаев, мы объяснили засуху: а можем ли мы бороться с ней? Есть ли сила, которая победит непобедимую стихию? — Есть сила! — отвечал Докучаев. — Эта сила — наука. Она может уничтожить засухи, вернуть степям их былое, гоголевское изобилие. Она сделает это… если дадут ей возможность вступить в бой не связанной по рукам и по ногам! «Никакой, даже геркулесовский организм не в состоянии часто переносить таких бедственных случайностей, какая выпала в настоящее время на долю России. Безусловно, должны быть приняты самые энергичные и решительные меры, которые оздоровили бы наш земледельческий организм». И Докучаев выдвигает поразительный общегосударственный, всенародный план (учтем глухую пору Александра III, когда Докучаев сделал это). Надо регулировать реки. Большие — Волгу, Дон, Днестр, Каму, Оку — и малые. Регулировать сечение русла, где нужно — спрямить его, уничтожить мели и перекаты, облесить, засадить пески, устроить водохранилища, перехватив реки плотинами. Надо регулировать овраги. Не распахивать крутые склоны, а засаживать кустами, деревьями — пусть там будут сады и лески. Надо переустроить водное хозяйство в открытых степях, на водоразделах. Нарыть не ставочки, а систему прудов. Посадить полезащитные полосы деревьев, а на бугристых песках и вообще всюду, где нет пашни, — сплошной лес. Отыскать артезианские воды. Надо добиться, а добившись, твердо держаться правильного отношения между площадями пашни, лугов, леса, воды. Надо так обрабатывать землю, чтобы наилучшим образом использовать влагу и не разрушать почвы. Правильно выбирать растения для посева, строить севообороты применительно к местным условиям. Но что из этих пяти замечательных «надо» можно было осуществить в ту глухую пору? О первых трех пунктах нечего было и думать. О последних двух сам Докучаев писал, что и они «не могут быть осуществлены немедленно». Он знал, что его наука связана по рукам и по ногам. Мог ли он примириться с этим? И Докучаев начинает опыт, столь же поражающий, как и его предложения. Он решил сам применить их на малом пространстве. Пусть это будет свидетельством, что может его наука! Этого, тоже с неимоверными хлопотами и трудами, ему удалось добиться. Он предпринимает опыт, вряд ли ожидая увидеть результаты его. Медленно растут деревья… Все равно: увидят потомки! Докучаевский опыт, начатый в 1892 году, длится и теперь. Он все растет, все ширится — живая связь между нами и ученым, почти полвека назад ушедшим из жизни. В ряду «станций», заложенных Докучаевым, была одна наиболее важная. Для нее был выбран не просто «какой-нибудь» пункт, но центр многих засух, и в том числе самой страшной — засухи 1891 года. Была выбрана Воронежская губерния. Немногими годами позднее про нее так писали обследователи сельского хозяйства: «Леса поредели и сократились в площади, реки обмелели или местами совершенно исчезли, летучие пески надвинулись на поле, сенокосы и другие угодья, поля поползли в овраги, и на месте когда-то удобных земель появились рытвины, водомоины, рвы, обвалы и даже зияющие пропасти; земля обессилела, производительность ее понизилась, короче, количество неудоби увеличилось, природа попорчена, естественные богатства истощены, а естественные условия обезображены. Вместе с тем в самой жизни населения появились скудость, обеднение, вопиющая нужда…» В Таловском районе, на водоразделе между Волгой и Доном, лежала Каменная степь. На особенную скудость и бесплодность ее указывало название. На этой земле, изборожденной оврагами, промерзавшей зимами под ледяными сухими ветрами, беззащитно обнаженной в летний палящий зной, взялся за свою работу Докучаев. Он исследовал глубоко ушедшие грунтовые воды. Отрыл пруды. Насадил древесные полосы местами в 16, местами в 30 сажен шириной. Закудрявились склоны оврагов, холмики, водоразделы. Полевое хозяйство отныне должно было итти по строгим требованиям научной агрономии. Так вступила в жизнь великой русской равнины Каменно-стенная опытная станция — 10 тысяч гектаров земли с лесонасаждениями общей площадью 1000 гектаров. Шли годы. Росли саженцы. Миновали десятилетия. Широкая тень ложилась от докучаевских лесных полос. Василий Робертович Вильямс разрабатывал новую систему земледелия. Он говорил о небывалой доселе человеческой власти над землей. Систему эту Вильямс назвал травопольной. В числе основателей ее он считал Докучаева и Костычева. Начал Вильямс там, где кончил Костычев. Костычев отметил важность строения почвы. Он изучил, как восстанавливается оно у почвы «отдыхающей». И уже подсказал, что надо сеять злакобобовые смеси: это восстановители структуры почвы. Вильямс сделал структуру почвы центральным, ключевым представлением всей науки о плодородии. Современник и участник величайшего человеческого вмешательства в дела природы, Вильямс хорошо знал, что сейчас практически нет земель, к которым не приложил бы рук и труда человек. Целина? Ковыльные степи? Тут тоже пахали, хотя, может быть, паше поколение и не помнит этого. Целина — условное понятие. И нет противопоставления почвы девственной и паханной, но есть контраст между почвой, обладающей структурой и утратившей ее. Что такое — точнее — структурная почва? В ней миллионы комочков, каждый по величине — от горошины до лесного ореха. Крошечные влажные островки. Что может с ними сделать сушь? Она опустошит только тоненький верхний слой. И тем прочнее сохранится скрытая под ним влага. Ведь между комочками-островками нет прямого сообщения, нет волосных ходов… Влага в каждом комочке сберегается, как в маленьком сосудике. Но уничтожены, распылились комочки. Теперь волосные ходы пронизывают всю почву. Влага по ним движется очень медленно. Первые же дождевые капли, проникнув в почву, заполнят волосные ходы и загородят дорогу другим каплям. Возьмите тончайшую капиллярную стеклянную трубочку, впустите в нее капельку — капелька остановится в ней и не пустит новую капельку. Дайте набухнуть фитилю, и вы увидите, что он перестанет впитывать влагу, больше не примет ее. Так обстоит дело в бесструктурной почве. А как только кончится дождик, испарение начнет качать из такой почвы жалкие запасы влаги. Даже в самой глубине не спрятаться влаге — и оттуда отсосет ее к вечно жаждущей поверхности сплошная, через всю массу почвы, волосная подача; ведь вся эта почва, как фитиль. Зимой она забита, закупорена ледышками. И весенняя снеговая вода скатится по ней, шумя, роя овраги… Люди не знали, что делать с такой землей, с неотвратимо возникавшей пустыней. Видели: нет воды. Значит — надо поливать. И радовались скоропреходящей зеленой пленке вокруг своих канавок. Люди часто не догадывались, что поливка очень хороша, когда она сочетается с умелой обработкой земли, со всем важным и сложным уходом за ней: тогда поливка действительно становится могучим средством оживления земли. А там, где не было этого (как в цветущих некогда, а потом запустевших оазисах Востока), — там получалось так, что люди поили умиравшую от жажды землю смертельным лекарством. Вечный волосной ток подымал из глубины вместе с испаряющейся влагой соли. Они осаждались наверху день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И почва, орошаемая чистой пресной водой, засаливалась; пухлые белые и пестрые корочки выступали на ней… В рассуждениях Вильямса была — хочется сказать — наглядность чертежа. Земля открывалась перед исследователем так, как машина перед конструктором. И, читая страницы, написанные Вильямсом, я вспоминаю мертвую землю, которую видел в детстве. Как и старшие, среди которых я рос, я не понимал, что вижу то, чего не должно быть. В деревне, где я рос, думали (и даже не думали, а просто принимали, как принимают ветер, ночь, утреннюю зарю, снег зимой), что это обыкновенная земля, вот такая она бывает, а другой нет. Быстро сходили травы и степные цветы. Степь бурела к жатве. Глинисто-бурая, она стлалась до горизонта, чуть седея полынью. Уже отмирал пырей, мыши рыли норки на стерне; было много змей. Они лениво, со слабым угрожающим шипением отступали с накатанной дороги, втягивали свое тело, похожее на струю черного масла, в глубокие иссекавшие землю перекрещенные трещины, куда я, десятилетний мальчик, мог засунуть руку. Начинались ветры. Дули упорно, неделями, не улегаясь и ночью. И непрерывно ныл в ушах унылый звук. Тусклым, слепеньким становилось море, свинцовая чешуя ряби бежала от берега: ветры дули с севера, с земли. А на небосклоне над степью подымалось мутное облако. Оно подымалось, как занавес, буро-желтое, с дымным краем, и задергивало половину неба. То была бесконечная, повисшая над землей, пропитавшая небо туча пыли. По голой степи, появляясь черными точками вдали, быстро вырастая, катились, катились сорванные с корня отсохшие «кусай». Они скатывались по три, по четыре вместе; сухие массы в полчеловеческого роста мчались по степи… И ни дети, ни взрослые не знали, что перед ними земля, безжалостно умерщвленная неумелым и нищим хозяйничаньем, вытоптанная бестолковым выпасом скота на «толоках». Через много лет мне довелось бродить с научным сотрудником Репетекской песчано-пустынной станции по барханам Кара-Кумов. Именно такой я представлял себе пустыню по рассказам и по книгам. Бескрайное море раскаленного песка. Много раз до того я дивился, встречая в Кара-Кумах голубую оторочку саксаульников. Но тут была настоящая пустыня, пустыня моего воображения. Круг почти нестерпимой желтизны. Рябили ровные, бессчетные, неразличимые песчаные холмы. Голос глох среди них — крика не слышно из-за ближнего холма, и стоит отойти немного от людей, от спутников — охватывает почти жуткое чувство: все одинаково, дороги не найти, откуда пришел — не узнать. Здесь, на открытом месте, было легче заблудиться, чем в дремучей чаще. Мой спутник, взобравшись на бархан, заговорил, как мне казалось, неестественно громко: — Труп земли. Вот он. Вы думаете, это пустыня? Пустыня тоже живет. Земля становится мертвой, когда ее убивают! Выбила, вытоптали растительность. Вырубили саксаульники. И пески двинулись, развеялись, нагромоздились… Так дважды, в «черных бурях» (как метко их называют) моего детства и в этом желтом круге, я увидел мертвую землю. Навсегда ли она мертва? Издавна был известен простой рецепт воскрешения, много раз упоминавшийся и на этих страницах. Перелог. Иными словами: оставь землю в покое. И шаг за шагом прослеживает то, что совершается в перелоге, Вильямс. Он разбирает, разнимает на части потайную работу перелога так, как инженер или механик разбирает машину, чтобы хорошенько смазать детали, прежде чем снова пустить машину в ход. На первом году отдыха стержневидные корни высоких, буйно наросших бурьянов давят и уплотняют почву; когда они отомрут, поле усеют полые конические полости-журавчики. И в следующем году уже нет бурьянов: тут будет пырейный сенокос. Лет семь, а то и десять простоит он. Почва покрывается упругой дерниной. Вокруг сети пырейных корневищ образуется, еще грубая, зернистость комочков. А затем пыреи уступают место тонконогам, тимофеевке, костру, житняку.[24] Десять, пятнадцать лет тянется тонконоговый перелог. Комочки за это время становятся тоньше, изобильнее. Бобовые накопляют азот. Типцы, или типчаки, злаки с плотными низенькими кустиками, сменяют тонконогов, чтобы, в свою очередь, перейти в ковыльную степь. Почва уже прочна. Она богата всем, что нужно растению. Только понадобилось для этого лет двадцать. Где человеку ждать столько! Он распахивает перелог раньше. Но надо продиктовать времени свою волю. Человек, получивший точный чертеж перелога в работе, может и должен заставить эту работу совершиться скорее и лучше. Указания Вильямса подробны. Правильная обработка почвы заменит медлительные слепые усилия корней бурьяна и пырейных корневищ. Дело дикорастущих тонконогов выполнит посев подобных им рыхлокустовых злаков. Злакобобовые смеси все завершат. Это не простое подражание Природе. В природе вершина плодородия достигается дерновым процессом. Но вершина остается позади. И, перевалив ее, природа толкает ею же созданную землю к спаду: степь, пустыня. Думали, дурная обработка полей разрушает плодородие, и это было, конечно, верно. Утверждали еще, что, снимая урожай, мы забираем из почвы питательные вещества. И в этом была своя правда. Но даже полный возврат взятого не исправлял дела до конца. Не догадывались о коренной причине: что все наши однолетние полевые растения — хлеба, технические растения, кормовые, корнеплоды, картофель, — все они принадлежат к степной формации. И под ними в почве возникает неотвратимо степной процесс. Чтобы повернуть его на процесс дерновой, надо степь сменить лугом. Отныне задача точна и ясна. И математически точно рассчитывает Вильямс решение — травопольную систему. Это система, при которой человек именно поворачивает развитие почвы, высевая луговые растения — многолетние, рыхлокустовые травы, злакобобовые. В работах Вильямса, где самая вдохновенная поэма о природе сочетается с самой рассчитанной, почти педантической, хочется сказать — хозяйской строгостью указаний, мы прочтем о земле, что она незаменима и может быть постоянно улучшаема. В человеческую эру, в современную нам чудесную человеческую эру, творимую в нашей стране, должна быть создана земля такого плодородия, какого не знала природа. Для этой человеческой земли Вильямс вводит понятие: культурная почва. Она не фантастика. Она существует. На ней выращивали свои урожаи ефремовцы. И Вильямс записывает, говоря о травопольной системе, о ее составных элементах, то, что должно быть, и то, что есть. Она, эта система создания культурной почвы, вовсе не сводится только к севооборотам с травами. Ведь тут полное преобразование и устроение наново земли! Вот неразрывные звенья: докучаевские полезащитные полосы, древесные посадки по водоразделам, по балкам и оврагам, зеленые стены кругом водоемов, облесение песков; правильные севообороты на полях; вспашка, обработка земли, агротехника; удобрения, органическая и минеральная подкормка растений; отборные семена, высокоурожайные, для данной местности особо избранные, выведенные, приспособленные сорта; и наконец — вода, орошение, мобилизация влаги, какая имеется, пруды, водоемы — серебристой цепью через поля… А сами травопольные севообороты тоже нужно и можно строить по-разному. Вот в зерновой полосе после трав посеют, конечно, пшеницу и прежде других замечательную «целинную» твердую пшеницу; в льноводческих районах — лен-долгунец, в Средней Азии — хлопок. Уже сейчас в колхозах есть севообороты с семью, восемью, десятью полями. На них находится место и для твердой пшеницы, и для мягких хлебов, и для картофеля… Да, исключительно важна обработка земли. Но и обрабатывать надо не по-прадедовски. Ведь создается небывалая раньше культурная почва, и требуется для этого культурная вспашка. Люди несведущие могут сказать (да так и говорили в течение десятков лет даже иные агрономы): был бы хороший плуг! А по той или иной «системе» расположены лемехи плуга, — да так ли уж это важно? Ведь десятки «систем» сменились с тех пор, как стали на заводах делать плуги. И в самом деле: две тысячи с чем-то вариантов плугов выпущены капиталистическими фирмами, только чтобы каким-нибудь новшеством заманить покупателя. Ни науки тут не было, ни заботы о земледельце. И вот Вильямс настаивает: важна одна «система», до которой дела не было фабрикантам-конкурентам. Вильямс требует решительно: пахать надо обязательно плугами с предплужником. Именно с предплужником. Почему? В полевой почве есть два горизонта. Строение в верхнем горизонте уже нарушено. Разрушают его и работающие на поле люди со своими лошадьми, машинами, и ручьи воды, и бактерии-аэробы, быстро разлагающие перегной. Раньше часто пахали мелко и только еще больше распыляли землю. Предплужник — как бы маленький плужок, устроенный впереди корпуса плуга. Предплужник срезает и опрокидывает верхний горизонт на дно борозды (оставленной плугом при прошлом заходе). Затем основной корпус плуга прочно заделывает этот верхний горизонт поднятым глубинным пластом. Предплужник пашет мелко, и мелкая вспашка тут же покрывается вспашкой глубокой. Наверху очутилась плодородная земля. В глубину, на «отдых» убран слой, которому надо восстанавливать плодородие. И в глубине прочно похоронены вместе с ним срезанные корни, корневища сорняков. Оттуда они не прорастут, там они сгниют. У нас давно уже принята глубокая вспашка. После исторического пленума Центрального Комитета партии в феврале 1947 года законом стала 20–22-сантиметровая вспашка. А с 1949 года вся пахота будет вестись плугами с предплужниками… А в течение немногих ближайших лет, по великому сталинскому плану, будет завершено введение повсюду, во всех колхозах и совхозах, на необъятных тысячекилометровых пространствах, самого могучего, созданного людьми способа преобразования земли — травопольной системы. Наши социалистические поля не ждут милостей от природы. Они, по слову Мичурина, берут их от нее.  Поле, золотая нива — это самое дорогое в сельском хозяйстве. Но это не все сельское хозяйство. Лесоводу раньше было мало заботы о полях. Землепашец только поглядывал да «промышленные сады» — много, если сам вырастит возле своей избушки две-три яблони. Одно-единое дело разрубалось на части, ничего друг о друге знать не знающие и ведать не ведающие. Но уже Докучаев настаивал, что лес и сад должны составить одно гармоническое целое с полем и лугом. А Вильямс произнес хозяйское слово: цеха. Цех земледелия, цех растениеводства, цех животноводства — вот оно, сельское хозяйство! Все нужны, и все должны поддерживать один другого, и без любого работа не пойдет как надо. Некогда Дарвин указал на простой и прекрасный закон: чем разнообразнее жизнь, тем большую сумму жизни может искормить земля в каждое уголке своем. Лес защитит поля. На водоразделах только лес и может создать устойчивый режим вод — урожаи тут перестанут быть «прыгающими», «стихийными». Поле и луг дадут пищу стаду. Рядом с полевыми и приусадебными будут кормовые севообороты, — Стадо даст удобрение земле. И земля, созданная человеком, подымет такую сумму жизни, столько выкормит растений и животных, служащих человеку, сколько никогда не могла поднять и выкормить ни девственная земля гоголевских степей, ни нива дедов и отцов наших. ЗЕМЛЯ ГРЯДУЩЕГО … Я пришел вечером домой и включил радио. Диктор, очевидно, продолжал какой-то рассказ. К началу я опоздал и поэтому не стал вслушиваться особенно внимательно. Вдруг две-три фразы заставили меня насторожиться. Теперь я слушал. Я боялся слово проронить. Но я все меньше понимал, что я слышу. Передача велась из некоей географической точки, которую я не мог определить. Чем дальше, тем настойчивее у меня возникало странное ощущение, будто незнакомый мне, красивый, звучный голос вообще говорит не из сегодняшнего, а из завтрашнего дня. Я слушал удивительный, то лукаво-шутливый, то простодушно-наивный, почти в манере старинных авторов, рассказ о земле грядущего, видимо раскидывавшейся вокруг говорящего. «…что можно сделать из царства сусликов. Место, открытое четырем ветрам, было словно застелено войлоком. Если брел путник, то по войлоку двигалась одна-единственная тень — тень бредущего путника. Воду, мы полагаем, путник носил с собой — во фляжке или манерке. Узкие и глубокие колодцы походили на шурфы. Были они таким чрезвычайным событием, что их особо помечали составители карт. Пролетные птицы, завидев эту землю, подымались выше. Она, земля эта, работала месяца три и, вырастив реденький овес по щиколотку, рыжий лисий выводок и колючку, называемую верблюжьей, по-старушечьи иссыхала в сознании сделанного усилия, покрывалась сердитыми морщинами и надолго окаменевала под зимней стужей. Скупое, жестокое и вместе расточительное существование! Итак, мы сменили климат. Следовало также подумать о ландшафте, менее противоречащем естественным требованиям человеческого глаза. Среди нас были сторонники степного простора и любители лесов. Казалось разумным удовлетворить тех и других. Мы решили, оставаясь в степи, жить в то же время среди лесов. Физико-географические и климатические особенности, господствовавшие прежде, представляли довольно бестолковое сочетание взаимнопротиворечивых элементов. Пришлось немало потрудиться, чтобы привести это в какую-то систему. Когда был сделан вывод, что во всех случаях достаточно 35–40 процентов обычной скорости движения воздуха, были прекращены сильные ветры, а тем более бури. Зимнее промерзание почвы уменьшено в четыре раза. Испарение понижено на треть. Вместе с тем пришлось увеличить влажность воздуха. Конечно, требовалась новая почва. Прежняя, с ее войлоком и колодцами-скважинами, ведущими в земные недра, почти забавным образом опровергала все представления о том, каким может быть место человеческой жизни. Мы подняли к поверхности грунтовые воды. Уничтожили нелепое стекание трех четвертей выпадающих дождей. Снег мы заставляем таять медленно и равномерно, чтобы всосалась вся талая вода. Нашу землю можно сравнить с цепочкой колец в изумрудной оправе. На их пространстве мы восстановили исконное плодородие степей. Искусственную целину на любом полевом участке мы создаем в 2–3 года. В лабораториях сравнивали ее с природной целиной, сохраняемой в заповеднике. Наша целина состоит на 81 процент из прочных комочков и содержит 9,8 процента перегноя, а в природной целине 83 процента комочков и 9,9 процента перегноя. Вы знаете, что строителям городов прибавилось забот по сравнению с архитекторами прошлого. Следует обдумывать не только фасады и ансамбли улиц и площадей, но и облик всего города при взгляде сверху; прибавилась новая точка зрения: с воздуха. Нам тоже не безразлична она. Птицы и пассажиры подлетающих самолетов видят ковры, то золотистые, то обрызганные багрянцем по оливковому полю, узорные просторы переливчатого блеска, темный бархат в серебряных лентах и синие пятна озер. Однажды два приезжих почтенных профессора эстетики горячо доказывали нам, будто главное, что двигало нами, было стремление создать вместе с новой землей новую эстетику, новое чувство красоты. Мы не спорили с гостями, тем более, что, по нашему мнению, прелесть земного убора — вовсе не безделица. Но красота у нас не самоцель. Мы думаем, что чем больше освободит человек и заставит работать созидательных сил на земле, тем прекраснее она станет; красота — спутница творчества жизни. И прав будет тот, кто, выйдя из белого домика, укрытого в парке-дендрарии, пройдет с праздником в душе медовыми и жемчужными полями, как бы оттененными вечной опушкой, и в ком пробудят живую радость крики лебедей. Он свернет с дороги и вдруг очутится в гуще сада, среди лиловых слив, тяжелых, пригибающих ветви, яблонь и груш. И, стоя у зеркальной воды, не догадается он, что стоит на краю давнего оврага, некогда пожиравшего землю. Теперь надо сказать об оправе колец, о вечной опушке наших полей. Рассчитано, что влияние ее еще сказывается в поле на расстоянии 600 метров. Это было учтено, когда устанавливались поперечники колец. Мы особенно заботились, чтобы придать оправе легкую и сквозную форму. Это не черный лес, встающий глухой стеной; скорее, это кудрявое облако. Кроны стройных деревьев подымаются на 25-метровую высоту. Белая акация, тополь, дуб и остролистый клен растут рядом с ясенем, лохом, желтой акацией и бересклетом. Свистят иволги, шляпки грибов раздвигают лесную подстилку. Тут настоящий лес. Только живописнее природного. Уход за ним прост: надо срубать дурное и лишнее. Рубки ухода снабжают нас изобилием дров. Подумать только, что раньше дрова тут были чуть не на вес золота! Были споры о наилучшей ширине этой оправы полей. Некоторые находили, что достаточно насадить аллейки. Были и такие, которых вполне устроил бы обыкновенный забор; они соглашались разве выкрасить его в зеленую, лягушечьего оттенка, краску. Эти споры, некогда оживленные, сейчас кажутся смешными: нам очевидно, что нужен не забор, а живой лес. И мы сажаем его так, чтобы он мог сохранить среди степи свою лесную природу и степь его не поглотила бы. Став господами земли, мы не ограничились общим изменением климата. Мы создаем необходимые нам местные климаты и ландшафты. У нас на полях есть севооборот северный и севооборот южный. Но я много говорю о флоре и мало о фауне нашей земли. Она богата и разнообразна. Животноводы и охотники вполне довольны ею. Земля, поле и наши животные нуждаются друг в друге. По нашим расчетам, на каждые 25 гектаров черного пара необходимо стадо в сто голов. Наши фермы и наши луга-прерии насчитывают многие сотни го…» Но тут в радиоприемнике раздался треск, и передача прервалась. Напрасно я обшаривал эфир. Доносились обрывки песен, речь на разных языках, музыка из балета «Щелкунчик». Я менял диапазоны. Все было тщетно. Уже отчаявшись, я вдруг, наугад повернув ручку, снова услышал на какой-то неожиданной волне полнозвучный голос: «…создание новых растений. Ошибка многих селекционеров прошлого заключалась в том, что они, думая о своих скрещиваниях, очень мало интересовались тем, где производятся эти скрещивания. Организмы мыслились ими в некоей отвлеченной, условной и ничуть их, селекционеров, не касавшейся среде. Она была бесплотной и походила на эфир старых физиков. Но селекция ведется отнюдь не в безвоздушном пространстве. Настоящее поле деятельности для наших селекционеров открылось тогда, когда мы восстановили плодородие почвы. Мы умеем сейчас выводить и выращивать злаки с зернами исключительной величины, накапливать качества нежностебельности у луговых трав, придавать растениям свойства морозостойкости. В этом случае мы берем гибриды от внутрисортового скрещивания озимых пшениц и во время зимовок…» Передача пресеклась снова на полуслове. Я не узнал, какой в точности способ применялся на земле грядущего для развития и закрепления свойств холодостойкости. Больше я не смог поймать волну, на которой говорил неведомый диктор. Что же слышал я? Где лежала эта земля? В обыкновенной московской комнате, где на стене между расписанием лекций в институте и картой страны, испещренной кружками новостроек, равномерно тикали часы, а с улицы доносились деловито-нетерпеливые гудки машин, — быстро стала очевидной невероятность того, что мне померещилось: передачи из завтрашнего дня. Машины времени — разве это не насильственная фантастика людей, стремящихся убежать от своего сегодня?! И вот то, что гораздо необычайнее машины времени — выдумки английского фантаста, — только что реально вступало в мою комнату: земля грядущего была вместе с тем и существующей землей! Только в одной стране она могла существовать. Где же, в какой географической точке этой страны, моей страны, лежала она? Быть может, это была радиопередача из Института земледелия центральной черноземной полосы имени профессора В. В. Докучаева, из знаменитой Каменной степи? В пейзаже его полей, взятых в изумрудные лесные кольца, его лугов, парков и синих озер много сходного с тем, что я слышал. И суровое имя Каменной степи звучит лишь поучительным напоминанием о том, чего нет, что было и что контрастом своим дает меру творению рук человеческих. История иногда допускает ясные эксперименты. В 1946 году страшная засуха снова поразила нашу Родину. Она началась в конце марта в Молдавии, двинулась на Украину, охватила все центральные области, дошла до Волги. И снова Каменная степь оказалась там, где жесточе всего опаляла землю засуха, в самом эпицентре ее. Семьдесят дней ни капли влаги не получала почва. Это было еще беспощаднее, чем в 1891 году. И вот я читаю: «Тем не менее, при почти полном выгорании посевов во многих окружающих колхозах урожаи сельскохозяйственных культур на значительных площадях, расположенных среди лесных полос, прошедших паровую обработку и подвергавшихся воздействию многолетних трав, составили (ц/га): озимая пшеница — 16,52, озимая рожь — 14,97, яровая пшеница — 10,62, овес — 15,75, просо — 16,43, горох — 8,2, чечевица — 9,5, чина — 10,6, фасоль — 8,8, подсолнечники — 21,2, многолетние травы (зеленой массы) — 88,2, суданка на сено — 117,0, свекла кормовая — 188,0».[25] И этот урожай, собранный в суровый год, не только несравненно превосходил те, что снимали некогда, даже в хлебородные годы, в среднерусской полосе, но превышал и урожаи на полях самой Каменной степи лет пятнадцать тому назад. А поля эти и жатвы на них и тогда уже были необычными. Чего же не хватало тогда этим полям? Травопольная система была введена в Каменной степи в 1934–1938 годах; Вильямс непосредственно руководил этим. И тогда же, по указаниям Лысенко, мичуринская наука была положена в основу всей селекционной работы и семеноводства. Идеи Докучаева, Костычева, Вильямса, Мичурина, Лысенко слились в одну общую струю, в одну науку о власти над землей. И взмыла кривая урожаев. Она идет и все продолжает итти вверх — она достигла сейчас 20–25 центнеров в среднем с гектара по зерновым. Но, может быть, то, что я слышал, был рассказ о колхозных полях Деминской травопольной МТС, Новоанненского района, Сталинградской области, с их девяти- и десятипольными севооборотами, лесными полосами и больше чем втрое (по всем четырнадцати колхозам!) возросшими урожаями? О прославленной МТС героев (потому что в ней одной работает целая плеяда Героев Социалистического Труда), о родине диспетчеризации земледельческого труда, с радиосвязью между диспетчером и всеми двадцатью пятью тракторными бригадами? Или это был кубанский совхоз имени Сталина, где тысяча зерен, собранных в зоне ста метров от полезащитной полосы, оказалась на восемь с половиной граммов тяжелее любой тысячи зерен с открытого поля, и в засуху с гектара этих защищенных полей собрали по 27 центнеров? Или колхозы имени Коминтерна и «Пятилетка», Михайловского района, Запорожской области, колхоз имени Ворошилова, Белозерского района, Херсонской области, где тоже «комплекс Докучаева — Вильямса» и учение Мичурина об управлении живыми формами слились в единую научную систему, преображающую землю и дающую новую власть над ней? Но не донесся ли до меня голос из Сальских степей? Из бурых, и ожженных, горбатых, пустынным простором своим знаменитых Сальских степей — да, такими они были чуть не вчера! Шепчется уже там молодая листва высоких крон, и под защит эй их, под защитой этих 2600 гектаров колхозных лесных полос зерновые давали 13, 14, 15, даже 18 центнеров в жестоком сорок шестом году, а тяжелое, отборное зерно, созревшее у самой кромки «леса», колхозника берут на семена… Или это была весть из недавних пустынь возле Астрахани, где не было других теней, кроме тени бредущего путника, и где сейчас шумят деревья, серебряно звенит вода и белые деревни стоят посреди уходящих вдаль полей в зеленых венках?.. Да разве перечислить их все — частицы, островки и уже обширные участки земли грядущего… Их сотни уже сейчас. И они растут, множатся, сливаются — на глазах наших. По грандиозному плану, самому величественному из всех начинаний человеческих в области переустройства планеты, по сталинскому плану, в течение 16 лет будет преображен пик Земли на гигантских пространствах, равных почти трем Фракциям, пяти Англиям или четырем Италиям. Будет переделана природа, переменен климат, нацело уничтожено, отменено, — так что забудут о нем люди, — наиболее грозное, казалось, неотвратимое своеволие стихий — засухи. В сущности, к 1965 году — на глазах одного поколения — будет создан новый колоссальный материк, с другими естественными особенностями и законами, с невиданным ландшафтом, со своими очертаниями воды и суши, лесов и полей, населенный новой фауной и флорой. Великий радостный континент изобилия… Мы можем сказать, просто отмечая факт: опубликованное 24 октября 1948 года постановление партии и правительства «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР» — это одно из величайших событий во всей истории человечества. Еще никто, никогда и нигде не отваживался хоть на долю чего-либо подобного. Переберите фантастическою литературу там, за рубежом — Жюль Вернов, Уэллсов, — все замыслы, мечты, которые тревожили воображение фантастов, — как мелки, убоги, бескрылы они — даже замыслы! — по сравнению с этим! А это — самая реальная реальность, и все мы — ее участники. 
Примечания:2 Потому что не в счет небольшое число микроорганизмов, которые сами довольно хлопотливо приготовляют себе органические вещества, пользуясь не могучей энергией солнечного света, а химической энергией окисления минералов в той среде, где эти микроорганизмы обитают (хемосинтез). 23 Типец, типчак — характерный степной низенький злак с плотным кустиком. 24 Злаки с рыхлыми кустиками, с тоненькими листочками. По характерному представителю группы — тонконогу (ботаническое название — келерия) — всю группу иногда называют «тонконогами». 25 В. С. Дмитриев, Севообороты и система земледелия, Госпланиздат. Москва, 1947, стр. 51. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
