|
||||
|
|
Хвостатые мыслители Ошибки епископа Беркли Говорят, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Действительно, лучше. Люди – зрительные существа. Однако как часто нас подводят ошибки зрения и зрительные иллюзии. Обман зрения можно вызвать специально, чем профессиональные фокусники широко пользуются, выходя на цирковую арену. Зрением, функцией других органов чувств, психической деятельностью ученые интересовались давно. И если в XVIII и XIX вв. исследования мозга в основном находили отражение в трудах философов, то в XX в. количество экспериментальных работ физиологов и зоопсихологов существенно превысило число публикаций, в которых их авторы пытались лишь осмыслить уже известные факты. К числу важнейших задач философии относится вопрос о том, как мы познаем окружающий нас мир. Подавляющее большинство величайших мыслителей последних трех-четырех веков уверенно утверждали, что все без исключения знания – результат предшествующего опыта. Этот взгляд на процесс познания до сих пор пользуется широкой популярностью не только у философов, но и у современных психологов и физиологов. По их представлениям наш мозг является чем-то вроде копилки или мусорного ведра, куда в беспорядке складываются все полученные нами знания, весь приобретенный на практике опыт. Не отрицая тенденции активно снабжать свой мозг информацией, давайте посмотрим, все ли навыки мы получаем в виде благоприобретенного опыта, нет ли таких познаний, которые даются нам в дар и не требуют затрат собственного труда. Ответ на эти вопросы уже дан в первой части книги. Безусловные рефлексы отражают знания, полученные нами в наследство от родителей. Ребенок родится с умением сосать материнскую грудь, т. е. знает, как добыть себе пропитание. Знание жеребенка обширнее: ему известно, где искать материнский сосок. Маленький таитянский кроншнеп вылупляется из яйца с обширными представлениями о географии нашей планеты, что позволяет молодым птицам лететь с п-ова Аляски к местам зимовок на о-в Таити отдельно от родителей. Однако многие исследователи, воспринимая безусловнорефлекторные реакции как отражение объективной действительности, не согласны назвать их знаниями об окружающей среде. Безусловно, у жеребенка рефлекс поиска материнских сосков возникает на затемнение головы. Но почему это нельзя считать знанием? Чтобы не тратить времени на дискуссию, познакомимся с такими явлениями, которые иначе, как знаниями окружающей среды, и не назовешь. Возьмем, например, зрение, которое поставляет нам три четверти информации о мире, в котором мы живем. Нужно ли нам учиться смотреть, или мы родимся с умением правильно оценивать зрительные восприятия? Нужно ли учиться определять расстояние до предмета, его скорость, прогнозировать траекторию его дальнейшего движения? Нужна ли тренировка, чтобы отличать плоский мир от объемного, круг от шара? Это не праздные вопросы. На сетчатке глаза возникают двумерные изображения предметов, а мозг как-то вычленяет из них перспективу, глубину, объем. Кажется очевидным, что здесь без серьезных тренировок не обойтись. Но, встав на эту точку зрения, придется объяснить, как мозг учится видеть, и ответить на совсем уж крамольный вопрос, можно ли научиться видеть. Если животное или человек видит мир в серых тонах, можно ли научить их восприятию алых и голубых оттенков? Положительный ответ на первый из поставленных выше вопросов дал еще в 1709 г. епископ англиканской церкви в Ирландии и философ Дж. Беркли. С его легкой руки представления о том, что зрительному восприятию нужно учиться, получило широкое распространение и прочно укоренилось в умах специалистов по зрению. Экспериментальную проверку представлениям Беркли удалось сделать лишь в нашем столетии. Главная трудность в том, что подобные исследования необходимо проводить на только что родившихся или только что прозревших детенышах, если они родятся слепыми. Однако в этом возрасте и дети, и большинство зверенышей оказываются столь беспомощными, что по их поведению трудно определить, что они видят и как воспринимают увиденное. Когда же юные существа подрастут, уже невозможно решить, какие зрительные навыки подопытные животные получили в наследство, а чему успели научиться. Выход из положения прост: изучаемое животное от рождения до начала экспериментов нужно содержать в таких условиях, чтобы оно не могло учиться зрительному восприятию. Для этого малышей воспитывают в темноте или надевают им очки, пропускающие рассеянный свет, но лишающие их возможности видеть изображение. Это позволяет выяснить, опирается ли зрительное восприятие на предшествующий опыт, или животное находит правильный ответ по наитию, в силу своих врожденных способностей. Правда, когда животные не справляются с заданием, всегда есть опасение, что это связано с атрофией зрительных рецепторов или поломкой каких-то зрительных механизмов, возникших от длительного бездействия. Все же проблему удалось решить. Получено много экспериментальных факторов, не вызывающих сомнений. Исследователи попробовали ответить на вопросы, нужно ли учиться определять степень удаленности окружающих предметов, или эта способность врожденная. Один из наиболее показательных экспериментов провели на молодых крысах, которых первые 100 суток жизни держали в темноте. Затем животных выпустили на освещенный манеж и позволили им переходить с одной платформы на другую, близко к ней расположенную. Когда крысы осваивались с ситуацией, платформы раздвигали на значительное расстояние – и крысы должны были прыгать. Эта проблема не вызвала у подопытных животных серьезных затруднений, и ни одна из крыс не промахнулась. Животные совершали точно рассчитанный прыжок, а это означало, что они правильно оценивают расстояние между платформами. Приведенный эксперимент скептиков не убедил. Они сочли, что зрительное обучение у крыс протекает быстро, позволяя им сразу решать сложные зрительные задачи. Опыт на только что вылупившихся из яйца цыплятах лишен этого недостатка. «Новорожденным» тотчас же надевали очки со специальными призмами, смещающими направление лучей таким образом, что все предметы казались им расположенными более близко, чем они действительно находились. Цыплята почти сразу же по вылуплению из яйца начинали склевывать мелкие зерна. «Очкарики» трудились наравне с контрольными, но безрезультатно: они стукали клювиком в пустое место впереди лежащего зерна. Научиться в очках правильно оценивать расстояние они не смогли. Возможность такого обучения для цыплят не предусмотрена. Овладевая навыками использования глаз, они рисковали бы погибнуть от голода, прежде чем научатся правильно оценивать зрительную информацию. Можно ли перенести результаты этих опытов на человека? Такой перенос нам кажется правомерным. Кроме того, на грудных младенцах получены и прямые наблюдения. В научных кругах этот эксперимент известен как «эффект обрыва». Для него используют большое толстое стекло, разделенное на две половины непрозрачной дорожкой. С одной стороны дорожки непосредственно под стекло подкладывают бумагу с простым орнаментом, а с другой – бумагу с тем же орнаментом кладут от стекла на значительное расстояние. Шестимесячный ребенок, помещенный на центральную дорожку, избегает заползать на зрительно глубокую сторону. Это значит, что дети с помощью зрения правильно оценивают расстояние до «пола». С новорожденными детьми повторить этот эксперимент невозможно: они еще не в состоянии ползать. Однако боязнь «высоты» и умение определять расстояние являются и для человека реакциями врожденными. Об этом говорит отчетливое волнение новорожденных, оцениваемое по частоте сердечных сокращений, возникающее у них на «глубокой» стороне и не развивающееся на «мелкой». На «обрыве» изучали реакцию новорожденных многих видов животных. Цыплята, ягнята, жеребята, бельчата, котята, львята, тигрята, детеныши снежного барса, ягуара и юные обезьянки избегают глубокую сторону, а если их туда помещают, обнаруживают явные признаки волнения. Только у водяных черепах и утят высота не вызывала особого беспокойства. Видимо, утята и черепашата тоже способны определять расстояние, но они не боятся высоты. И это вполне естественно, иначе они чувствовали бы себя несчастными в прозрачной воде: страх глубины мешал бы им отплыть от берега. Врожденная способность оценивать удаленность, или, точнее, глубину, позволяет нам видеть окружающий мир трехмерным. Мы не учимся зрению, ощупывая окружающие предметы рукой и отмеряя расстояние шагами, как это предполагали раньше. Тем более этого не делают животные. Чем курица или теленок могут ощупать предмет? Не копытами же! Проверка показала, что у человека зрение полностью доминирует над осязанием. Мы учимся видеть не с помощью осязания, а, наоборот, пользуясь зрением, развиваем в себе способность оценивать на ощупь величину и форму предметов. Умение видеть окружающий мир объемным, в трех измерениях, заложено в конструкции нашего мозга. Несмотря на то что изображение на сетчатке глаза двухмерно, новорожденные животные видят мир объемно. Только что вылупившиеся из яйца цыплята предпочитают клевать круглые объемные предметы, явно отличая их от кружков такого же размера и цвета. Способность видеть форму предметов тоже врожденная, во всяком случае для животных. Однако есть основания считать, что наши дети и в этом отношении существенно не отличаются от четвероногих. Цыплят с момента вылупления и до проведения эксперимента 1–3 суток держали в полной темноте, затем выпускали в манеж, на стенках которого находились небольшие трехмерные объекты, покрытые прозрачным пластиком. В одном из опытов сотне цыплят одновременно предложили четыре фигуры: сферу, эллипсоид, пирамиду и звезду. Сферу цыплята в общей сложности клюнули 24 346 раз, эллипсоид – 28 122, пирамиду – 2492, а звезду – лишь 2076 раз. Как видим, цыплята хорошо различают предметы уже при первом их предъявлении. Все сказанное не означает, что человеку ничему не приходится учиться. Видимо, мозг получает в наследство лишь основу, а остальное приобретается опытом. Так, способность видеть в схематическом изображении куба или пирамиды объемную фигуру предполагает наличие известного зрительного навыка. Мозг человека значительно пластичнее, чем животных. Цыплята в очках, снабженных призмами, смещающими изображение в сторону, вперед или назад, после многих дней тренировки не достигают успехов, позволяющих им самостоятельно питаться, а человек, надев соответствующие очки, довольно скоро начинает не только ориентироваться в окружающей среде, но и адекватно ее воспринимать. Озарение Многие исследователи поведения животных приходят к выводу, что высшие психические функции не что иное, как примитивное мышление. Различные формы высшей нервной деятельности в трудах ряда ученых получили особое название – инсайт, чему в русском языке лучше всего соответствуют такие слова, как «озарение», «примитивное думание», «психонервная» или «рассудочная деятельность», «интеллектуальное поведение». Некоторые специалисты, пользующиеся этими терминами, считают, что примитивное мышление принципиально отличается от условнорефлекторной деятельности тем, что с его помощью животные способны решать новые задачи при первом же их предъявлении не методом «проб и ошибок», а путем анализа сущности проблемы, без предварительного обучения или опыта. В последние годы изучение самых высших форм психической деятельности животных приковывает все большее внимание, но до сих пор нет достаточно четких представлений о физиологических механизмах примитивного мышления. Многие зарубежные зоопсихологи, в числе которых необходимо назвать В. Кёллера, считают, что высшие психические функции являются выражением изначальных свойств и способностей мозга. Советские исследователи склонны придерживаться противоположной точки зрения, полагая, что осуществление высших психических функций базируется как на врожденных формах поведения и способах переработки информации, так и на индивидуально приобретаемом опыте и механизмах переработки информации, на всем объеме знаний об окружающем мире. Толчком к многолетней дискуссии послужили известные наблюдения Кёллера над шимпанзе, десятки раз описанные в работах по психофизиологии. Обезьяне давали задание достать гроздь бананов, подвешенных к потолку ее клетки. Единственная возможность достигнуть цели – составить из ящиков, находящихся тут же, пирамиду. Шимпанзе, испробовав все пришедшие ему в голову способы, достаточно попрыгав и истощившись, притулился в углу клетки в позе роденовского мыслителя и после некоторого «раздумья», поставив ящик на ящик, достал вожделенный плод. На основании различных вариантов подобных опытов Кёллер пришел к выводу, что животные могут решать аналогичные проблемы путем «рассуждения», благодаря «проникновению в сущность проблемы», и для этого им не нужен предварительный опыт, или использование метода проб и ошибок. Все необходимые «пробы» они могут «сделать в уме». Идеи Кёллера были подхвачены многими зоопсихологами. К классическому инсайту относили реакции, протекавшие по такой схеме: ознакомление с задачей, попытка решить ее методом проб и ошибок, обдумывание сложившейся ситуации, во время которого и наступало озарение, и, наконец, решение проблемы. Естественно, животное могло многократно прибегать к обдумыванию. Каждый по себе знает, как редко нас озаряют стоящие идеи. Однако роденовскую позу или ее соответствующий эквивалент, поскольку эксперименты чаще проводили на крысах, чем на обезьянах, одно время считали чуть ли не критерием, по которому инсайт отличали от других форм решения задачи. Кёллеровская трактовка инсайта не удовлетворила советских исследователей. Повторенные в павловских лабораториях эксперименты свидетельствовали о том, что озаряться можно только тогда, когда располагаешь известными знаниями об окружающей среде, определенным опытом и навыками. В наши дни противоречия потеряли свою остроту. Инсайт отнесли к одной из форм обучения. Инсайтом считают способность переносить предшествующий опыт или его элементы в новую обстановку и на его основе решать стоящую перед животным задачу. В. Торп и ряд других ведущих зоопсихологов настаивают на том, что для обучения по методу инсайта животное должно уметь «улавливать отношение» и «рассуждать», без этого не может быть переноса опыта и «формирования новой адаптивной реакции». В последние десятилетия стало модным противопоставлять условнорефлекторную деятельность примитивному думанию животных. При этом ссылаются на самого Павлова, на стенограмму его высказывания на заседании, состоявшемся 13 ноября 1935 г., хотя Павловский совет (есть такой официальный орган при Физиологическом отделении Академии наук СССР) давным-давно постановил не ссылаться на материалы Павловских сред, как не проверенных и не подписанных самим Иваном Петровичем. Действительно, на с. 262 3-го тома «Сред» можно прочесть: «А когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, то это „условным рефлексом“ назвать нельзя. Это случай образования знания, уловления нормальной связи вещей». За давностью сейчас никто не может сказать, насколько точно, а вернее – насколько полно была записана павловская мысль. Нет разумного объяснения (хотя его и пытались найти) и того, почему в свое время никто из учеников великого физиолога не подхватил мысль о том, что «знания» никак не связаны с образованием временных связей. Утверждение, что ученики просто не поняли своего учителя (никто не понял!), звучит по меньшей мере смехотворно. Всегда понимали, ловили каждое слово и вдруг даже внимания не обратили! А ответ на эту загадку прост: стенограмма интерпретируется неправильно! Давайте лучше познакомимся с тем, что думал по этому поводу сам Павлов. Это известно абсолютно точно. Ниже приводятся цитаты из двух статей, написанных его рукой в те же годы, но не законченных и опубликованных впервые лишь в 1975 г. В одной из них анализируются эксперименты с ящиками, а другая посвящена общим вопросам психологии. Разбирая опыты своего старейшего сотрудника А.О. Долина на шимпанзе Рафаеле, Павлов описывает девять ассоциаций, которые должны возникнуть у обезьяны, прежде чем она сумеет правильно построить пирамиду, и образование из них ассоциации ассоциаций, т. е. подробного плана действий. Затем он спрашивает, что представляет собой решение обезьяной задачи, и сам же отвечает: «Явно – только образованные элементарные ассоциации и из них образование сложных» (Неопубликованные и малоизвестные материалы И.П. Павлова. Л.: Наука, 1975, с. 96). И далее: «…каждая новая ассоциация, касающаяся отношений внешних вещей, есть прибавление знания, а пользование этим знанием есть то, что называется пониманием. Невозможно представить себе иначе понимание чего-нибудь. Как можно понимать что-нибудь, не зная, не имея разных ассоциаций, т. е. связей внешних предметов!» (с. 102). Отсюда следует, что образование знаний И.П. Павлов действительно не называл простым условным рефлексом. А вот его трактовка примитивного думания: «Таким образом, в видимом глазами и бесспорном акте мышления, признаваемом таковым в данном случае и психологами, ничего не видно, кроме ассоциаций простых и сложных» (с. 96). Свой главный вывод, что системы ассоциаций и есть основа любых психических процессов, Павлов многократно подчеркивает и в других местах цитируемых здесь статей. «Это же законно, – пишет он, – назвать и элементарной мыслью. Что же иначе тогда мысль, если не это?!» (с. 94). Как видим, утверждение, будто бы сам Павлов противопоставлял мышление образованию различных видов временных связей, в первую очередь различных ассоциаций, и комбинированию их для достижения положительного решения задачи, является грубым искажением фактов. Успехи дальнейшего изучения физиологии мозга несомненно будут сделаны не на путях поиска новых, отличных от условнорефлекторных видов высшей нервной деятельности, а благодаря расшифровке механизмов выискивания в анналах памяти нужных ассоциаций и созданию из них ассоциативных цепей, ассоциаций высших порядков. Таким образом, для озарения абсолютно необходимы пробы, ошибки и образованные на их основе непосредственно в данный момент или в отдаленном прошлом различные ассоциации. На Западе долго дискутировали, есть ли вообще разница между инсайтом и решением задач методом проб и ошибок, качественная она или чисто количественная. Остроту дискуссии придавало предположение, что в процессе озарения (рассуждения) у животных формируются понятия. Не вдаваясь в тонкости вопроса, скажем, что для переноса опыта в иную обстановку необходимо известное обобщение. Следовательно, по методу проб и ошибок вырабатываются конкретные решения для данной ситуации, а инсайт больше напоминает поиск правила решения определенного класса задач. Известные элементы различия налицо. Иногда инсайт определяют как способность спонтанно комбинировать две или больше отдельных реакций для образования новой, необходимой в данной ситуации. И при такой интерпретации инсайта в нем признается наличие элемента обобщения, а следовательно, допускаются существенные отличия от менее упорядоченных способов поиска решения. К инсайту обычно относят случаи, когда животные очень быстро решают задачи, слишком быстро для обычных проб и ошибок. Чаще других используются задачи нахождения правильного направления движения при обходе преграды или поисках кратчайшего пути в лабиринте. Сначала животным дают возможность подробно ознакомиться с лабиринтом и найти в нем правильный путь, а в критическом эксперименте удаляют одну из перегородок, благодаря чему открывается более короткая дорога. Если животное сразу же использует новый проход, реакцию считают инсайтом, а возникновение ошибок, потребность в дополнительном обследовании лабиринта и, следовательно, увеличение времени решения задачи заставляют отнести ее к категории проб и ошибок. Скорость решения задачи – главный критерий в подавляющем большинстве методик, предложенных для изучения инсайта. Мыслители и простаки Ученые нашей страны первыми приступили к выяснению физиологических механизмов поведения. Условнорефлекторный метод прочно завоевал симпатии специалистов. Изучение условных рефлексов стало главным и почти единственным направлением исследований высших психических функций мозга животных. Несколько особняком от них стоят работы, посвященные «рассудочной деятельности», которую инициатор этих интересных исследований Л.В. Крушинский противопоставлял процессам обучения решению конкретных задач. Работы Крушинского внешне близки к исследованию инсайта, но они не были, как у Келлера, следствием случайных наблюдений, а созданная ученым методика оказалась пригодной для изучения самых различных животных: высших насекомых, ракообразных, моллюсков и всех без исключения позвоночных. С первых же шагов исследование развивалось как сравнительно-физиологическое. Л.В. Крушинский хотел изучать чисто психическую способность животных решать совершенно новые задачи. Причем предполагалось исследовать не уникальные психические явления типа озарения, чем, вероятно, не каждый орангутан может блеснуть, а элементарную рассудочную деятельность, корни которой должны уходить глубоко в историю развития животного мира нашей планеты. Под элементарной рассудочной деятельностью Крушинский понимает выполнение животным адаптивного поведенческого акта в новой обстановке на основе улавливания простейших связей предметов и явлений окружающего мира. Эта деятельность должна обеспечивать высокую пластичность поведения и адаптацию животных к постоянно меняющимся условиям среды. Главный методический прием Л.В. Крушинского состоял в изучении способности животных к экстраполяции направления движения. Опыт заключался в том, что животному через вертикальную щель в ширме показывали две кормушки (с кормом и пустую), которые на его глазах разъезжались в разные стороны и исчезали из поля зрения. На основе полученной информации подопытному существу необходимо было сделать альтернативный выбор и обогнуть ширму с той стороны, где должна оказаться кормушка с пищей. Если выбор с самого начала был правильным, животное получало доступ к корму. Изучение способности к экстраполяции направления движения показало, что рыбы и амфибии не в состоянии решать такие задачи. Впервые в филогенетическом ряду позвоночных данную функцию приобрели рептилии. Это сумели продемонстрировать зеленые ящерицы, каспийские, болотные и степные черепахи. Среди млекопитающих отлично справляются с экстраполяционными задачами представители семейства собачьих, кошки и серые крысы. Мыши, кролики и белые крысы некоторых чистых линий отнюдь не мыслители. Из птиц рассудочная деятельность свойственна врановым, особенно воронам, а куры, голуби и хищные птицы – существа бесталанные. Оказалось, что уровень рассудочной деятельности находится в четкой зависимости от относительного размера мозга – величины, показывающей, каково соотношение размеров мозга и тела. Такой же строгой связи с характером развития коры больших полушарий проследить не удалось. Осуществление элементарной рассудочной деятельности у черепах связано с передне-средним отделом дорсальной коры, у птиц – со стриатумом, а у кошек и собак – с лобными областями больших полушарий. Если эти области мозга удалялись до тренировки в решении экстраполяционных задач, то экстраполяция нарушалась. Чем больше экстраполяционных задач решило животное, чем больше опыта оно приобрело, тем меньше операция сказывалась на ее осуществлении. Для изучения рассудочной деятельности Л.В. Крушинский предложил и другие задачи. Одна из них позволяла узнать, умеют ли животные оперировать эмпирической мерностью фигур, т. е. в состоянии ли они понять, что приманка может быть вмещена (спрятана) лишь в объемные, но не в плоские фигуры. Оказалось, что мартышки, дельфины и бурые медведи сами способны понять свойства объемных предметов, а собак и волков можно этому научить. Анализ полученного материала представляет серьезную трудность. Пока неясно, действительно ли умение животных решать экстраполяционные задачи отражает их изначальную способность улавливать простейшие связи между предметами и явлениями окружающего мира, или это, как и другие формы инсайта, всего лишь перенос ранее приобретенного опыта в новую обстановку. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести эксперимент на животных, выращенных до начала опыта в условиях, не позволяющих им тренироваться в погонях и подкарауливаниях, знакомиться с ширмами и укрытиями. Скорее всего, что способность к экстраполяции траектории движения не связана с предшествующим опытом. Но если это и так, то придется еще выяснить, является ли она отражением способности мозга осуществлять самые разнообразные логические операции или всего лишь результатом работы наследственно фиксированных механизмов, специально предназначенных для решения данного класса задач. Нет ничего невероятного в том, что экстраполяция обусловлена работой специально для того предназначенного мозгового аппарата. Имеется множество примеров врожденной способности к экстраполяции траектории движения. Так, хотя лягушки и относятся к амфибиям, которые в лаборатории Крушинского не справились с возложенными на них задачами, но они прекрасно ловят влет насекомых. Совершая упреждающий прыжок, чтобы схватить бабочку, лягушка экстраполирует траекторию движения жертвы и ее скорость, так рассчитывая направление собственного прыжка, чтобы их траектории пересеклись в заданной точке, что и обеспечивает успех охоты. Пчела, воспринимая переданную ей в «танце» информацию только что вернувшейся в улей сборщицей, экстраполирует траекторию своего полета к месту взятка. Наконец, как мы уже знаем, молодое поколение некоторых видов птиц, которые вывелись весной у нас на Севере, летит осенью на юг отдельно от стариков, с которыми вновь встречается лишь в районах зимовки. Информация о траектории многодневного перелета генетически заложена в их память. Если для осуществления экстраполяции движения в мозгу действительно имеется врожденный механизм, тогда эта способность не должна отражать уровень филогенетического развития животных. Наличие чистопородных линий белых крыс, явно находящихся не в ладах с экстраполяцией, скорее всего говорит в пользу этого предположения, что и подтверждает низкая оценка уровня рассудочной деятельности голубей, сделанная на основании методики Крушинского, так как по другим показателям, как мы увидим из следующего раздела, голуби обнаруживают высокий уровень развития интеллекта. Не исключено, что способность высших животных к экстраполяции действительно связана с развитием интеллекта как такового, а у низших обусловлена генетически закрепленными специализированными механизмами. Несколько слов нужно сказать об изучении психонервной деятельности. И.С. Бериташвили, который ввел в обиход этот термин, предполагал, что в основе психонервного процесса лежит образная память. Это явление в его лаборатории изучали следующим образом. Животному показывали, где спрятана пища, а через некоторое время вновь открывали доступ в это помещение и проверяли сохранность образа местоположения корма. Но что такое образ, если не сложная ассоциация? Таким образом, и здесь временные связи являются основой формирования поведения животных. Условные рефлексы отличаются от адаптивных поведенческих актов, формируемых на основе образной памяти, не только тем, что первые запускаются реально действующим раздражителем, а вторые лишь его «следами», образной памятью. Гораздо существеннее, что условнорефлекторные реакции заучены животными в ходе предварительной тренировки, а при психонервной деятельности они срочно образуются для выполнения данной конкретной задачи, осуществляемой впервые. Планирование адаптивного поведенческого акта на основе образа – один из важнейших видов мыслительной деятельности. Таким образом, у этой интересной проблемы большое будущее. Единство многообразия Уже давно пристальное внимание ученых привлекает вопрос о способности животных к различным видам обобщения и к созданию на их основе элементарных понятий. Не сразу удалось изобрести подходящую для подобных исследований методику. В одном из экспериментов обезьян научили отбирать рисунки цветов и отличать их от изображений других частей растений. Детальный анализ использованных рисунков показал, что для успешного решения задачи совсем не обязательно формировать понятие цветка. Выбор мог легко осуществиться по достаточно простым правилам, но их тоже необходимо было сформулировать. В другом опыте обезьяны должны были отобрать три изображения насекомых среди сходных с ними по размеру и цвету рисунков увядших листьев, плодов, веток и других частей растений. Здесь, пожалуй, уже было основание говорить о понятиях. Самый впечатляющий эксперимент по изучению понятий, как ни странно, проведен на голубях. Их обучили осуществлять определенную реакцию, когда на предъявляемых птицам фотографиях были люди. Здесь трудно предположить выработку простого правила для различения фотографий, так как показывали их в большом количестве, а люди находились в разных местах изображения, были в разных позах, в разнообразной одежде или голыми, неодинакового возраста, вплоть до стариков и детей, являлись представителями различных рас, с белой, черной или желтой кожей. Авторы сделали вывод, что у голубей большие способности по формированию понятий. Количественная оценка предметов или явлений окружающего мира лежит в основе формирования понятия числа. «Математически одаренные» животные являются гвоздем программ многих цирковых представлений. В свое время широкую известность получил жеребец по кличке Умный Ганс, гастролировавший по всей Западной Европе. В 1900 г. его купил в России бывший учитель, владелец старинного рыцарского имения в Германии фон Остен. Новый хозяин лошади несомненно обладал педагогическим талантом и за короткий срок подготовил большую программу. Умный Ганс «умел» складывать, вычитать, умножать, делить и извлекать корни даже из суммы двух чисел. Выступления жеребца произвели сенсацию не только среди немецких обывателей, но и в научных кругах. Дело дошло до того, что в 1904 г. его лично «экзаменовал» министр просвещения Штудт и остался весьма доволен испытуемым. Всенародная слава, а главное доход, получаемый от эксплуатации «математических талантов» Ганса, вызвали к артисту повышенный интерес. Скоро у него стали появляться конкуренты из школы, созданной для обучения лошадей купцом К. Кралль. В наши дни подготовка математического номера для собак, ослов, лошадей доступна даже начинающему дрессировщику. Естественно, что эффектные выступления четвероногих артистов никак не связаны с их умением количественно оценивать предметы. Научный интерес к математическим способностям животных связан с работами О. Кёлера, осуществленными на птицах. Круг испытуемых был достаточно узок: галки, вороны, сойки, попугаи. Тем самым создалось впечатление, что они-то и есть наиболее математически одаренные животные. Это предположение не имеет экспериментального подтверждения. Забегая вперед, отметим, что по этому признаку средний чиж существенно не уступает вороне. Выбор для исследования птиц не случаен. Многочисленные наблюдения свидетельствуют о том, что в период размножения птицы откладывают строго определенное число яиц. Например, у многих видов журавлей принято откладывать по два яйца, а кулики садятся насиживать яйца лишь в том случае, когда их четыре. Если до начала насиживания из птичьего гнезда убрать одно яйцо, недостача будет замечена и восполнена. Вряд ли при этом птицы пересчитывают яйца. В настоящее время большинство исследователей объясняют постоянство числа яиц в гнезде не способностью птиц к счету, а умением оценить отношение общей массы яиц к объему гнезда, которое всегда постоянно. При планировании своих опытов Кёлер исходил из двух предположений: на доречевом уровне у животных и маленьких детей существует способность количественно сравнивать группы одновременно предъявляемых предметов и оценивать число следующих друг за другом раздражителей независимо от ритма их предъявления. Эксперименты подтвердили оба постулата. В первом случае птиц заставляли делать выбор по образцу, что само по себе трудная задача, доступная главным образом высшим обезьянам. Подопытному попугаю, галке или вороне предъявляли карточку с определенным количеством точек и обучали открывать коробку с тем же числом точек на крышке независимо от их цвета, формы и взаимного расположения, которые постоянно меняли. Отдельных птиц удавалось научить решать все варианты используемых задач. Для подтверждения второго предположения птиц обучали съедать определенное количество зерен или из кучки, рассыпанной перед птицей, или из специальной кормушки, где в любой момент видно всего лишь одно зерно. Птица, прошедшая «курс обучения», склевывала строго определенное число зерен и покидала кормушку, не утолив голода и не съев всей пищи. В более сложном эксперименте птица открывала коробки, в беспорядке расположенные перед ней. Часть коробок была пустой, в остальных находилось по одному зерну. Птица открывала коробки до тех пор, пока не съедала полагавшегося ей числа зерен. Многие птицы усваивали одновременно до четырех программ: поднимали черные крышки, пока не съедали 2 зерен, зеленые – пока не съедали 3 зерен, красные – пока не съедали 4 зерен, белые – пока не находили 5 зерен. Способность птиц усваивать по нескольку счетных программ и тем более возможность переноса навыка на другие объекты или задачи давали основание некоторым исследователям считать, что птицы способны формировать понятие числа. Как иначе объяснить, что птицы, обученные съедать 5 зерен, найденных в коробках, предпочитали открывать те коробки, на крышках которых было нарисовано 5 точек? Еще талантливее оказался серый попугай, обученный при зажигании 4, 6 или 7 лампочек съедать соответственно 4, 6 или 7 зерен, спрятанных в коробках. Этот уникальный попугай без специального обучения догадался сосчитывать следующие один за другим короткие звуки флейты, которыми заменили вспышки света, а затем съедал соответственное число зерен или открывал коробку с таким же числом точек на ее крышке. В данном случае попугай осуществлял перенос числа последовательно действующих сигналов на восприятие количества одновременно существующих точек. Сам Кёлер считал, что птицы не способны ни к счету, ни к формированию понятия числа, а достигнутые ими результаты объяснял тем, что птицы умеют совершать до 4–6 одинаковых действий. В эксперименте наблюдали, что некоторые птицы, воспринимая звуковые сигналы, покачивают им в такт головой, как бы производя клевательные движения. Такие же покачивания головой отмечали при рассматривании карточки-задания с нарисованными на ней точками. Правоту Кёлера подтверждает и то, что счету каждого числа птиц приходилось учить отдельно. Это значит, что, научившись по сигналу 6 светящихся лампочек съедать 6 зерен, попугай не сумеет «сосчитать» 4 лампочки и в соответствии с заданием съесть 4 зерна. Математические способности птиц невелики: в лучшем случае они могут считать до семи. Лишь уже упоминавшийся попугай научился отличать 8 от 7 точек, что является пока мировым рекордом. Математические таланты других животных даже не исследовали. Повезло лишь шимпанзе. Их изучал американский зоопсихолог Х. Фестер. В его лаборатории жили три юные обезьяны, однако курс пятиклассного обучения осилили только две. Одну из самочек еще в первом классе пришлось оставить «на второй год», а затем даже «исключить за неуспеваемость» из обезьяньей школы (видимо, у обезьян дамы реже демонстрируют большие математические способности). Фестер обучал своих обезьян подсчитывать число кружочков, треугольников, квадратиков и других фигур и «записывать» результат с помощью двоичной системы счисления. Как известно, в двоичной системе всего две цифры: 0 и 1. Чтобы не осложнять уроков арифметики чистописанием, запись делали с помощью включенных и выключенных лампочек. На панели было три лампочки с индивидуальным выключателем под каждой. Зажженная лампочка соответствовала единице, выключенная – нулю. Вот как выглядят числа от 0 до 7 в двоичной системе и в «записи» обезьян (светящиеся лампочки обозначены белыми кружочками, выключенные – черными): 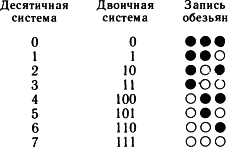 В первом классе обезьян учили «узнавать» числа двоичной системы, записанные с помощью электрических ламп. Перед обезьяной на пульте помещали три группы ламп. Средняя группа предназначалась для выдачи задания. Когда здесь зажигали какую-то комбинацию ламп, обезьяна должна была воспроизвести ее в одной из боковых групп. Там заранее заготовляли два варианта ответов: правильный и неправильный. Обезьяна специальным рубильником подавала ток на боковые группы, выбирала правильную комбинацию, а неправильную выключала. Если задание было выполнено удачно, обезьяне давали пищу. Чтобы шимпанзе учились прилежнее, их кормили только во время урока: сколько заработают, столько еды и получат. Во втором классе обезьянам объясняли связь между количеством предметов и числом, записанным по двоичной системе с помощью ламп. Теперь на пульте вместо средней группы лампочек появлялась картинка с кружочками, квадратиками или треугольниками. Обезьяна должна была рубильниками включить заранее набранные числа справа и слева и, выбрав правильное, второе выключить. В третьем и четвертом классах шимпанзе обучали составлять числа, зажигая и гася каждую лампочку по отдельности. Наконец, в «выпускном» классе обезьяны должны были считать предметы на картинке и записывать их число, зажигая соответственно расположенные лампы. Шимпанзе считали предметы так же, как это делают маленькие дети, дотрагиваясь до каждого из них пальцем. Их математические способности на первый взгляд мало впечатляют: счет, как у птиц, до семи. Правда, обезьян только этому и учили. Дело в том, что над психологами довлеет магическое число семь. Считают, что любое существо – от крысы до человека – может одновременно запомнить не больше 7 элементов, охватить взором и определить количество, специально не пересчитывая, не более 7 предметов. Нет основания думать, что способность к количественным оценкам развилась лишь у птиц и обезьян. Московские физиологи наткнулись на перспективный метод, способный пролить свет на этот вопрос. Мозг человека и животных на любой неожиданный раздражитель отвечает сильной электрической реакцией. В записи на бумаге она выглядит значительным по величине зубцом. При изучении мозга обычно используют длинные серии световых вспышек или коротких звуков и регистрируют ответные реакции мозга, пока животное не привыкнет к раздражителю и не перестанет на него реагировать. Применив короткие серии раздражителей, исследователи обратили внимание на то, что собаки как бы запоминают количество использованных в серии стимулов. Когда применяли серию из пяти одинаковых звуков, животные отвечали значительной реакцией лишь на 1-й звук, так как он всегда раздавался неожиданно. На 2, 3 и 4-й звуки реакция мозга резко падала, писчики осциллографа вырисовывали крохотные зубцы, что было нормальным явлением. Неожиданной оказалась реакция на 5-й звук: она опять резко возрастала. А это значит, что собачий мозг каждый раз ведет счет раздающимся звукам. «Познакомили» собак с сериями из другого количества звуков и получили тот же результат. Когда постоянно применяли серию из трех звуков, писчик вычерчивал большие зубцы на 1-й и 3-й, а на 2-й почти не реагировал. Если серия состояла из десяти звуков, то значительная реакция была лишь на 1-й и 10-й, а на промежуточные звуки – минимальной. Следовательно, собака способна «считать» и не до шести-семи, как галки и попугаи, а даже до десяти. Вероятно, это не предел. Высокие математические таланты птиц заставляют усомниться в том, что способность к количественной оценке является достаточно сложной реакцией и требует высокого развития мозга. Это подтверждается экспериментами на насекомых. Пчел без особого труда удалось научить отличать карточку с двумя нарисованными на ней кружочками от карточек с одним и тремя. Стеклянную кормушку с сахарным сиропом ставили на карточку с двумя кружками. Под точно такие же кормушки, только наполненные простой водой, помещали дифференцируемые карточки. Крылатые труженики узнавали кормушку с сиропом уже издалека, а на кормушки с водой скоро перестали реагировать. Как и в опытах с птицами, местонахождение самих кормушек, размер кружков и их расположение постоянно меняли, но это не вносило путаницы. Затем насекомых таким же способом научили отличать карточки с тремя кружочками от карточек с двумя и четырьмя. Свидетельствует ли это о том, что пчелы могут считать? Видимо, нет. На это указывают опыты с обычными комнатными мухами, с которыми каждому из нас приходилось не раз сталкиваться, и каждый мог убедиться, что мухи не блещут особым интеллектом. Свободно летающие в помещении мухи охотнее присаживаются на сладкие приманки, если на них уже сидят другие мухи. Во время эксперимента на кормушки с сахарным сиропом помещали черные треугольнички, по размеру соответствующие величине мух. Кормушка с одним треугольничком привлекала мух в 1.5 раза больше, чем без треугольничков, а с четырьмя – в 3 раза сильнее. Мухи замечали разницу и в том случае, если на одной кормушке находилось четыре, а на другой – три треугольничка: на первую кормушку садилось на 4 % мух больше, чем на вторую. Способны ли мухи осуществлять количественную оценку, или они сравнивают между собой суммарные площади нескольких треугольников? В контрольных экспериментах мухи одинаково часто садились на кормушку с четырьмя маленькими треугольничками и с одним большим, равным по площади четырем маленьким. Таким образом, поставленные опыты хотя и не смогли доказать способность мух оценивать количество своих собратьев, но и не опровергают такую возможность. Изучение математических способностей животных показало, что умением осуществлять количественную оценку обладают самые разнообразные организмы (от насекомых до антропоидов) и она в процессе филогенеза существенно не совершенствуется, во всяком случае настолько, чтобы об этом имело смысл говорить. И нет оснований утверждать, что животные способны к формированию числа. Это заставляет предполагать, что в основе оценки множества лежит достаточно элементарный механизм и эту психическую функцию невозможно привлечь для оценки филогенетического уровня развития умственных способностей. Проблемы общения В концепции Л.В. Крушинского о рассудочной деятельности интересно представление о двух его механизмах, особенно о вербальном. Автор допускает существование вербального мышления у животных, в частности у человекообразных обезьян, и возможность осуществления на его основе смыслового общения. Предполагается, что развитие у животных коммуникативных функций явилось предысторией появления человеческой речи, которая не могла возникнуть прямо у человека на совершенно «голом» месте. С этим положением согласны Л.А. Фирсов – виднейший советский исследователь психики антропоидных обезьян – и другие специалисты. Естественно ожидать, что какие-то элементы или зачатки речи, нашего вербального мышления, существуют у животных и, без сомнения, существовали у нашего обезьяноподобного предка. Трудно безапелляционно утверждать, что вербальным, или, точнее, символическим, мышлением способны пользоваться высшие млекопитающие и птицы, однако наблюдения за некоторыми формами общения между людьми и их питомцами, в том числе вырабатывающимися спонтанно, позволяют сделать осторожное предположение, что оно в зачаточной стадии присуще и животным. Наблюдая за тем, как томимая жаждой собака гремит пустой миской или приносит хозяину свой поводок, когда приближается время прогулки, мы считаем, что эти сложные условно-рефлекторные акты осуществляются в результате активации определенных элементов мозга, паттернов сопряженно возбужденных нейронов. И не являются ли эти паттерны самой приблизительной, самой грубой моделью внутренней речи, символического мышления? Несомненно, что собака, которая спокойно спала у ног хозяина, а затем без видимых внешних причин встала, расправила затекшие члены, целеустремленно направилась в прихожую, а затем вернулась назад к хозяину уже с поводком, заранее «спланировала» эту цепь сложных поведенческих актов. Чем же мозговая манипуляция с этим «планом» отличается от символического мышления? Ведь поводок и бренчание миски – условнорефлекторные сигналы прогулки и воды. В человеческом обществе сформированные нами понятия мы обозначаем определенными словами. Наша речь, или, как назвал ее И.П. Павлов, вторая сигнальная система, служит не только средством коммуникации, но и новым способом обработки информации. Готовность к речевому общению невольно предполагает высокий уровень развития мозга. Исследователей давно волновал вопрос, могут ли животные овладеть речью. Установлено, что знакомство с коммуникативными сигналами других видов животных, их пассивное усвоение – явление весьма распространенное. Как и на наши команды независимо от того, чем они подаются (вожжами, охотничьим рогом или с помощью речи), реакции на эти сигналы вырабатываются как простые условные рефлексы. Шум работающего в поле трактора – пищевой сигнал для многих птиц, и они летят на его звук, чтобы походить за жаткой и поохотиться на спугнутых ею насекомых или порыться в свежей борозде, только что созданной плугом. Для лесных синиц стук дятла, шелушащего шишку, служит пищевым сигналом. Здесь всегда есть надежда поживиться случайно выпавшими семенами. Тревожный крик ворон и стрекотание сорок, заметивших какую-то опасность, – оборонительный сигнал для большинства четвероногих и пернатых обитателей лесов и полей. Для жителей морских побережий такими информаторами об опасности служат бакланы. Услышав их беспокойный крик, тюлени поспешно уходят в воду. Для животных знакомство с сигналами бакланов, сорок, ворон, стуком дятла не является врожденным; их приходится заучивать, вырабатывая на них пищевые или оборонительные условные рефлексы. В гораздо меньшей степени животные могут активно использовать коммуникативные сигналы других видов животных и тем более самостоятельно изобретать их. Способность к звукоподражанию особенно отчетливо выражена у некоторых видов птиц; среди них есть и умеющие копировать даже человеческую речь. Это скворцы, вороны, галки и самые различные виды попугаев. Попугаи пользуются всеобщим вниманием. Нет буквально ни одного зверинца, где бы ни держали этих пестрых и шумных птиц. Летом перед открытием Берлинского зоопарка служители рассаживают по его аллеям попугаев. Во многих странах их в клетки не запирают, а держат, как дворовых собак, на привязи. Крепкая цепочка (клюв попугая – инструмент серьезный), надетая на лапку, не мешает совершать прогулки по жердочке, но создает у посетителей иллюзию, что пернатые красавцы на свободе, а отсутствие решетки вызывает желание начать с ними диалог. Наиболее талантливые попугаи способны усваивать и отдельные слова, и даже целые фразы из 10–12 слов. Словарь пернатого говоруна может содержать 200–300 слов! Самое удивительное, что попугаи часто используют доступный им лексикон весьма осмысленно. Птица прекрасно знает свое имя и имена заботящихся о ней людей. Большинство реплик – ответы на заданные попугаю вопросы, а самостоятельные высказывания вполне соответствуют ситуации. Сравнение развития речи 15–18-месячного ребенка и говорливого попугая, скорее всего, будет не в пользу ребенка. Однако птичью болтовню не следует отождествлять с человеческой речью. Слова и фразы, применяемые пернатыми собеседниками, могут быть сигналами, адресованными вполне определенному существу, но ни в коем случае не являются понятиями, как они представляются нам. Имитация всевозможных звуков – врожденная страсть попугаев. Потребность звукового общения с членами собственной стаи у них генетически обусловлена. В отсутствие сородичей попугай переносит ее на человеческую «стаю», членом которой он невольно становится. Обычно сигналы, используемые для внутристадного общения, унифицируются. Вот почему попугай, имеющий в запасе всего пять слов, при общении с людьми предпочитает применять их, а не видоспецифические звуковые сигналы. Подражая нам, попугай запоминает или наиболее часто употребляемые выражения, или слова, чем-то его поразившие, которые мы произносим при вполне определенных ситуациях, условнорефлекторно связывает их с этими ситуациями и в дальнейшем репродуцирует заученные слова в соответствующей обстановке. В природной среде у попугаев особенно большая потребность к общению возникает по утрам и вечером, перед тем как устроиться на ночлег. В неволе, копируя своих хозяев, многие попугаи по утрам говорят: «Доброе утро!», а вечером желают спокойной ночи. Мой домашний болтун этого не умеет. Ночь он проводит в моем кабинете, а утром терпеливо ждет, когда я наконец проснусь. Будить вожака не полагается. Когда он был помоложе, менее опытным и проделывал со мной такие шутки, я с вечера накрывал его клетку одеялом. Только почувствовав, что я уже не сплю, попка позволяет себе персонально ко мне обратиться: «Папа!». Он на опыте убедился, что на эту реплику больше всего шансов получить у меня ответ. Услышав мой голос, попугай кричит: «Привет!». Это чисто коммуникативный сигнал, попка его адресует всем посетителям моего дома. Вечером я говорю птице: «Спать пора!» – и она залезает в свою клетку, а за это получает угощение. Иногда, заметив начавшиеся сборы ко сну, попугай отправляется «к себе» и, если я не обратил внимания на его инициативу, сам напоминает мне: «Спать пора!». В его устах это означает: «Гони положенное лакомство!». Для моего попугая слова «спать пора» – условный пищевой раздражитель, действующий, однако, лишь поздно вечером. Днем, увидев у меня в руках что-нибудь лакомое, птица начинает сильно волноваться, машет крыльями или летит ко мне на плечо и при этом истошно орет: «Эра, Эра, Эра!». Эра – имя попугая. С нашей, человеческой точки зрения, такая реакция вполне понятна: она воспринимается как «Дай Эре!» И естественно, что такое поведение чаще других подкреплялось лакомством, а потому и закрепилось. Я привел здесь отрывки из «репертуара» моего попугая лишь для того, чтобы показать, что болтовня наших пернатых узников является не чем иным, как голосовыми условнорефлекторными реакциями, и ее нельзя называть речью. Слова человеческой речи, используемые птицами, тождественны для них сигналам первой сигнальной системы. Наблюдая маленьких детей, овладевающих речью, можно проследить, как у словесных раздражителей возрастает степень обобщения – и они превращаются в сигналы второй сигнальной системы. Не исключено, что и у птиц отдельные слова-сигналы достигают высокого уровня обобщения, но это еще не речь. Из нескольких сигналов ее не построишь, как из нескольких кирпичей нельзя соорудить даже маленькой хижины. И все же имитационная способность попугаев настолько впечатляет, что, заканчивая разговор о птицах, хочется процитировать американского ковбоя и философа в седле У. Роджерса, который сказал, что «жизнь нужно прожить так, чтобы не было стыдно продать фамильного попугая первой сплетнице города». Роджерс шутит, но каждая шутка непременно содержит крупицу истины. У попугаев несколько пар голосовых связок, чем и обусловлен их талант имитаторов. Больше ни одно существо на нашей планете не способно так свободно подражать человеческой речи. Во всяком случае, так думали еще два десятилетия назад, пока в мире не возник дельфиний бум. Известный американский нейрофизиолог Дж. Лилли обратил внимание на способность дельфинов к имитации звуков и публично объявил, что наконец найдены братья по разуму, способные овладеть английским языком, поэтому скоро нам будет с кем поболтать. Как известно, говорить дельфины не стали. Вряд ли Лилли верил в собственные прогнозы. Просто под такие проблемы легче из разных фондов выколачивать доллары на исследовательскую работу. Предсказание Лилли никто всерьез не воспринял. Гораздо легче допустить наличие у дельфинов собственного звукового языка. В настоящее время проведено немало исследований, записаны километры магнитной пленки, но единого мнения о языке дельфинов пока не существует. Неудачи с дельфинами, возможно, объясняются тем, что ищут не там, где следует. Изучают главным образом свисты, тогда как для передачи информации гораздо перспективнее локационные сигналы. Эхолокация создала предпосылки для возникновения уникальной системы коммуникации, недоступной другим животным. Владея в совершенстве своим звукогенератором и имея склонность к звукоподражанию, китообразные, видимо, используют для передачи информации имитацию эхосигналов, отраженных от окружающих предметов, чтобы сообщить о них членам своего стада. Целый ряд наблюдений подтверждает это предположение. Дельфины азовки особенно широко применяют для общения сигналы, напоминающие локационные посылки. Использование для передачи информации копий эха от локационных посылок должно сделать общение очень полным, очень конкретным и обеспечить передачу друг другу огромного объема информации. Локационная посылка, вернувшись к дельфину слабым эхом, содержит об отразившем ее предмете достаточно полную информацию. Почему бы теперь дельфину не повторить этот эхосигнал, но уже громко, чтобы слышало все стадо? Зачем им особый язык, когда эхолокатор одинаково пригоден и для зондирования окружающего пространства с целью получения о нем информации, и для широкого распространения полученной информации путем копирования эха? Применение эхолокации для общения может сочетаться со специальными коммуникационными сигналами. У дельфинов обнаружены свистовые сигналы, названные опознавательными. Зоологи считают, что это «имя» животного. Отсаженный в отдельное помещение дельфин непрерывно генерирует свои позывные, явно стремясь установить звуковой контакт со стадом. Опознавательные сигналы разных дельфинов отчетливо различаются. Иногда животные генерируют «чужие» позывные. Что это значит, пока неясно. Может быть, «интеллигенты» моря, как попугаи, передразнивают друг друга. А возможно, что члены стаи с помощью чужих позывных окликают своих товарищей, приглашая «на беседу» вполне определенное животное. Самые большие надежды встретить развитую систему коммуникаций или способность овладеть такой системой связывали с человекообразными обезьянами. К великому разочарованию исследователей, наблюдения за обезьянами в природе и лаборатории не обнаружили ничего из ряда вон выходящего, серьезно отличающего их от низших обезьян. Однако оказалось, что высшие обезьяны все же способны как формировать элементарные понятия, так и обозначать их определенными символами. В качестве искусственных коммуникационных сигналов в лаборатории использовали жетоны и жесты языка глухонемых, специально разработанные для общения с неговорящими людьми. Язык жетонов изучали в Колтушах. В эксперименте использовали треугольник, квадрат, круг, прямоугольник и шестиугольник. Обезьян приучали возвращать экспериментатору выданные им во время опыта жетоны. За возвращение круглого жетона давали награду в виде конфеты, за квадрат – орех, за прямоугольник – компот, а за шестиугольник – игрушку. Только возврат треугольника никак не поощрялся. Овладев искусственной формой общения с экспериментатором, обезьяны по собственной инициативе стали применять ее для общения друг с другом. В результате дополнительного обучения и ограничения набора жетонов только «пищевым» и «игрушечным» взаимная сигнализация закрепилась, и обезьяны, используя условные «знаки», действительно «сигнализировали» экспериментатору и друг другу о своей потребности в пище, питье или игрушке. Эта сигнализация в отличие от врожденных форм коммуникации имела произвольный характер. Аналогичные эксперименты с жетонами в более крупных масштабах проводили за рубежом. Правда, их основная направленность была не на изучение предыстории развития языка, а на исследование социальных взаимоотношений в сообществах обезьян, и жетоны, по представлению экспериментаторов, являлись эквивалентом денег. В этих экспериментах обезьяны «трудились», «работая» на специальных автоматах, добывая («зарабатывая») фишки-деньги, и «покупали» на них бананы или орехи, опуская жетоны в прорезь других автоматов. Обезьяны откладывали, копили и крали друг у друга злополучные «деньги». Проведенное в таком ключе исследование очень трудно интерпретировать с точки зрения оценки развития чисто коммуникативных функций. Ценность короткого разведывательного эксперимента с использованием жетонов в том, что это, пожалуй, первая удачная попытка «говорить» с обезьяной на общем для собеседников «языке». Когда я спрашиваю своего фокса, хочет ли он гулять, пес отлично понимает, о чем идет речь, и в качестве ответа бежит ко мне с поводком в зубах, весело мотая головой и болтающимся в зубах поводком. Я интерпретирую его ответ как согласие немедленно отправиться хоть на край света. В этих пределах мы прекрасно понимаем друг друга и можем «обсудить» целый ряд проблем, но каждый из нас говорит на своем языке, а языком партнера мы оба владеем пассивно. Правда, когда я сам беру в руки поводок, собака понимает этот жест как приглашение на прогулку. Однако, если быть объективным, придется признать, что в данном случае я использую не те сигналы, которыми «объясняется» фокс: не беру поводок в зубы, не мотаю при этом головой, не размахиваю поводком и, конечно, не бегаю на четвереньках. В специально спланированных экспериментах американского зоопсихолога – бихевиориста Д. Примака экспериментатор имел возможность с помощью фишек задать своей подопытной обезьяне вопрос и получить на том же языке однозначно интерпретируемый ответ. Примак имел в своем распоряжении уже далеко не юную шимпанзе Сару. По существу он обучал ее не разговорному языку, а какому-то эквиваленту письменной речи. Язык был разработан самим экспериментатором на основе правил английского синтаксиса. Словами служили пластиковые жетоны разнообразной формы, которыми «писали» на магнитной доске сверху вниз, как принято в современных языках, использующих иероглифическую письменность, но строчки располагались слева направо. Сначала Сара освоила значение нескольких слов, а затем научилась составлять из них несложные фразы, вроде: «Дай Сара яблоко». На следующем этапе ее познакомили с жетоном, который означал «это – название для», что сильно облегчило дальнейшее увеличение «словарного запаса». Обезьяна оказалась способной понять смысл таких слов, как «цвет» и «размер», и использовала их весьма дифференцированно, точно соотнося со своими представлениями о данной категории объектов. Она могла «назвать» яблоко большим, а камень – маленьким, несмотря на то что предъявленный ей камень был больше яблока. До начала обучения языку Сара уже умела «классифицировать» целый ряд предметов. Это помогло научить обезьяну применять вопросительный знак. Сара ставила его перед жетонами, означающими «различный» или «одинаковый». Затем обезьяну научили выбирать из двух предложенных фруктов яблоко вместо более любимого банана и за это давали ей шоколад. Впоследствии Сара делала выбор фруктов в соответствии с письменной инструкцией: «Сара брать яблоко» или «Сара брать банан». Позже инструкцию удлинили, обучив обезьяну пользоваться жетоном, означающим «если – то». Теперь она сама должна была в последовательности таких предложений-инструкций, как: «Сара брать яблоко. Мери дать шоколад Сара» – или: «Сара брать банан. Мери нет дать шоколад Сара», – найти место, где поместить жетон «если – то». Награду давали лишь в том случае, когда задание было выполнено правильно. Постепенно «ученица» освоилась с «чтением» длинных предложений. Она «бегло читала» и правильно выполняла такие сложные инструкции, как «Мери брать зеленый если – то Сара брать яблоко», «Зеленый на красном если – то Сара брать банан». Критики Примака утверждают (и для этого есть основание), что результаты его экспериментов свидетельствуют не об овладении Сары речью, а лишь о способности шимпанзе к сложным формам дрессировки. Примак избегает споров. По его представлениям процесс дрессировки, процесс выработки условного рефлекса, ничем существенно не отличается от тех процессов, в результате которых реакция животного на внешние воздействия приобретает ранг «слова». Когда моя собака кладет мне на колени мячик, то эта реакция ничем не отличается от слов: «Давай поиграем в мячик», – а подталкивание носом под локоть – от слов: «Возьми меня на колени». Этот тип коммуникативных сигналов несомненно является зачатком речевого общения, тем непременным этапом, который обязательно должна была пройти речь в процессе своего филогенетического развития и который она проходит в онтогенезе ребенка. Устройство гортани, управление мышцами языка, щек, губ не позволяет шимпанзе освоить звуковой язык. Наибольшего успеха удалось добиться Вики. После длительного обучения она справилась с произнесением четырех слов английского языка, хотя давалось ей это с великим трудом и не всегда получалось удовлетворительно. Интересно отметить, что Вики явно знала, как должны были звучать коверкаемые ею слова, и отчетливо понимала, чего хотели от нее экспериментаторы. Вики и ее старшая подруга Люси убедили исследователей, что обезьяны способны понимать устную речь. Люси во время опытов внимательно прислушивалась к тому, что говорили между собой ученые, улавливала отдельные слова и тотчас брала зеркало, куклу или котенка, если о них шла речь. Их товарища по экспериментам Элли специально обучили понимать 10 английских слов, и это не оказалось для шимпанзе особенно трудной задачей. Неудачные попытки обучения приматов человеческому языку ни в коем случае не могли опорочить ни уровень умственного развития обезьян, ни совершенство их мозга. Просто ученые не сумели подобрать адекватную систему коммуникации, способную служить аналогом человеческого языка. Языковую проблему впервые удалось решить в лаборатории В.П. Протопопова, где воспользовались пальцевой азбукой глухонемых. К сожалению, об этом не знали на Западе и даже забыли в нашей стране. Зоопсихологи супруги Б. и А. Гарднеры использовали амслен – язык американских глухонемых, в котором каждый предмет, действие или понятие, а иногда и целое короткое предложение обозначается определенным жестом. Исследователи обратили внимание, как охотно обезьяны подражают действиям человека, копируя, как он работает, ест, пользуется различными предметами. Молодая шимпанзе Уошо, первая «севшая за школьную парту» в возрасте одного года, обнаружила недюжинные лингвистические способности, удивив даже своих оптимистически настроенных учителей. Чтобы научить обезьяну какому-нибудь жесту, ее руки складывали соответствующим образом. Урок осуществлялся в следующем порядке: Уошо показывали кошку, а затем большим и указательным пальцами ее правой руки прихватывали шерсть на щеке вблизи угла рта и слегка оттягивали ее кнаружи, чтобы получился жест лихого кавалериста, расправляющего свои усы. Эту процедуру повторяли много раз, пока обезьяна сама не делала попытки воспроизвести нужные движения. Сначала Уошо систематически поощряли за правильно выполненное задание, но скоро поняли, что в этом нет никакой необходимости: каждый из нас тоже обучался родной речи, не прибегая к помощи изюма или других сластей. В отличие от детей, которые из наиболее часто слышимых слов начинают повторять самые простые, Уошо в этом отношении целиком зависела от учителей. Ее первыми словами были: «Смешно», «Щекотать» и «Еще». После 10-месячного обучения «ученица» стала комбинировать знакомые слова. К концу третьего года она владела 85 словами и, объясняясь со своими воспитателями, без особых затруднений составляла предложения из трех слов. Еще более способным оказался шимпанзенок Элли. К 3 месяцам в его «репертуаре» было уже 90 слов. Обучать малыша начали сразу после рождения, и, видимо, это способствовало его успехам. А словарь Уошо даже через пять лет, когда закончился основной курс обучения, насчитывал всего 160 слов. Но если сравнить достижения Уошо с нашими недавними представлениями об интеллектуальных способностях животных, ее успехи колоссальны. Первые достижения в обучении шимпанзе вызвали не столько желание развивать это направление исследований, сколько острейшую критику с целью доказать, что язык обезьян не имеет ничего общего с языком человека. Забегая вперед, отметим, что Уошо одно за другим опровергала большинство возражений своих недоброжелательных критиков. Мы не будем вникать в суть дискуссии. Остановимся лишь на некоторых свойствах и особенностях знаков-слов и языка шимпанзе в целом. Для любого слова характерны, с одной стороны, высокая степень обобщения, а с другой – отвлечение от реальной действительности, абстрагирование. Знаки амслена в исполнении человека и обезьяны обладают обоими качествами. Проследим использование нескольких слов из лексикона Уошо. В ее словарном запасе были такие слова, как «цветок», применяемый для обозначения любых цветов, «обувь» – любой обуви, «шапка» – любых шапок и шляп, «ключ» – всевозможных ключей, «брюки» – пеленок, резиновых штанишек новорожденных и брюк, «одежда» – для обозначения гардероба Уошо: курточек, ночных рубашек и т. д., а также любой нашей одежды. Кошкой Уошо называла любых взрослых кошек, а однажды, не зная истинного названия тигра, кошкой справедливо окрестила и его. Словом «ребенок» она называла кукол и любых игрушечных животных. Знаками «сладкое», «запах», «слушать» соответственно обозначались ею любые сладости, любые ароматизированные вещества (духи, табак, ладан), все громкие или необычные звуки. Уошо владела словами с высокой обобщающей функцией, такими, как «торопись», «больно», «смешно», «пожалуйста», «открыть», «наружу» и др. Совершенно очевидно, что шимпанзе способны абстрагироваться от некоторых существенных признаков предметов или явлений и обнаруживают недюжинную способность к ассоциативному мышлению. Как известно, у детей на определенной стадии развития появляется способность сообщать информацию об окружающем мире; при этом они выдумывают для обозначения еще неизвестных предметов собственные названия, создавая комбинации из двух-трех известных им слов. Аналогичными способностями обладают и обезьяны. Когда Люси приобрела достаточно большой словарь, который, в частности, содержал такие слова, как «еда», «фрукт», употреблявшийся в отношении яблок и апельсинов, и «банан», предназначенный лишь для обозначения бананов, обезьяне был устроен «экзамен», во время которого ей предложили для опознания 23 вида фруктов, ягод и овощей. Испытуемая знак «банан» употребила лишь один раз для обозначения бананов. Фруктом она уверенно назвала яблоки, апельсины, персики, сливы, нектарин, вишню, замороженную клубнику и черную смородину. В отдельных испытаниях Люси словом «фрукт» называла также изюм, бескосточковый виноград, вишнеплодный томат и даже помидор, но, попробовав, стала «обозначать» его словом «еда». Зато крупные сладкие пикули, названные сначала «еда», попробовав, переименовала во «фрукт». Остальные виды овощей чаще всего назывались просто «еда». Однако для некоторых из них она придумала специальные названия. Так, лимон, лайм и побеги сельдерея, обладающие особенно сильным ароматом, она «назвала» знаком «запах». Мелкие сладкие пикули обозначала словами «трубка конфета» и «трубка запах», а побеги сельдерея – «запах трубка» или «еда трубка», арбуз – знаком «пить», «пить фрукт» или «конфета пить». Редис, названный по внешнему сходству «фрукт», Люси, попробовав, назвала «плакать боль еда». Не вызывает сомнения способность обезьяны описать не имеющие названия предметы в известных ей «терминах». К важнейшей лингвистической способности относится умение самостоятельно изобретать совершенно новые знаки. Случаи речетворчества были зарегистрированы и у обезьян. Уошо долго не могла запомнить знак, обозначающий нагрудник, и в это время пыталась называть его более простым жестом, очерчивая пальцем на груди место, куда он одевался. Любимым развлечением обезьяны была игра со спрятанными предметами. Уошо отлично владела знаком «прятать», но часто пользовалась более простым и наглядным знаком, закрывая глаза руками, как это делают дети. Аналогичным словотворчеством занимались и другие обезьяны. Поводок, использовавшийся для прогулок с Люси, обозначался тем же словом, что и любая другая веревка. Однако юная обезьянка, называя поводок, делала движение, как бы надевая его себе на шею. Если же она употребляла знак «веревка», то обычно комбинировала его со знаком «наружу», показывая глубокое понимание функций поводка и ситуаций, когда он применяется. Знаки в человеческих системах коммуникаций принято делить на иконические, индексные и символические. Иконический знак – упрощенное описание предмета. Наиболее характерные иконические знаки – самые древние египетские иероглифы. Даже современному человеку нетрудно догадаться, на какой предмет или явление они указывают. В амслене тоже много иконических и индексных знаков, когда обозначение какой-либо части предмета или одного из его свойств становится названием всего предмета. Так, слово «шапка» обозначается похлопыванием ладонью по голове, а слова «слышать», «слышу» – прикосновением указательного пальца к уху. Как мы видели, человекообразные обезьяны отлично справляются с созданием подобных знаков, а вот изобретение чисто символических знаков пока не зарегистрировано, хотя это вовсе не значит, что обезьяны к этому совершенно не способны. В иероглифических письменностях символические знаки возникали позже иконических и индексных. Может быть, их смогут придумывать и обезьяны. Большую дискуссию вызвал вопрос об умении обезьян пользоваться синтаксическими отношениями и, естественно, понимать их. Владение синтаксисом – способность уловить смысл высказывания, определяемый самой структурой предложения. Уошо, еще не научившись говорить, уже отлично понимала сложные предложения, свидетельствуя тем самым, что она не только реагирует на отдельные знаки, но и обращает внимание на порядок слов в предложении. Когда ученица сама начала употреблять сочетания из трех знаков, стало очевидным, что она расставляет их отнюдь не в случайном порядке. Так, обращаясь с просьбой открыть ей шкафчик с пищей, мылом или одеждой (от шимпанзе все приходится запирать), она использовала следующий порядок слов: «Открой ключ пища», «Открой ключ чистый» (мыло), «Открой ключ одежда». Обращаясь к кому-нибудь, Уошо в 90 % случаев на первое место ставила местоимение «ты». Если одновременно употреблялись два местоимения («ты» и «я»), то в 60 % они оба ставились впереди глагола, означавшего действие. В ее интерпретации просьба выражалась комбинацией знаков: «Ты я выпустить». В остальных 40 % местоимение «я» следовало после глагола. Получалось: «Ты выпустить я». Перейдя в следующий класс, она стала пользоваться этим вариантом значительно чаще. Уошо отлично понимала разницу между предложениями «Ты щекотать я» и «Я щекотать ты». Позже длина применяемых ею комбинаций слов увеличилась до четырех-шести. Она стала широко пользоваться дополнением, помещая его после подлежащего и сказуемого. Возникали фразы такого типа: «Пожалуйста дать Уошо пить сладкий пить». Согласитесь, каждому понятно, чего хочет обезьяна. Не меньших успехов добились другие четверорукие ученики. Сара понимала смысл таких словосочетаний, как «красное на зеленом» и «зеленое на красном», умела выполнить весьма заковыристые инструкции вроде «зеленое на красном если – то Сара брать банан» и «Сара положить яблоко корзина банан блюдо». Лингвисты заинтересовались, понимают ли обезьяны смысл таких синтаксических конструкций или применяют их чисто механически. Вопрос этот, пожалуй, от избытка осторожности. Вполне очевидно, что первые подобные конструкции вырабатывались у обезьян чисто подражательно. На следующем этапе образовывалась четкая дифференцировка правильного порядка слов от неправильного, так как только в этом случае выполнялись просьбы ученика. Когда обезьяна усваивала несколько однотипных конструкций с участием новых знаков, начиналась стадия обобщения. Это и есть знание синтаксиса, улавливание смысла порядка слов. По мере обучения объем обобщения должен расти, а понимание данной закономерности – углубляться. Таким образом, обезьяна улавливает значение порядка слов в предложении ничуть не хуже, чем 1.5–2-летний ребенок. Психолингвисты в оценке языка большое значение придают так называемой перемещаемости, способности абстрагироваться от наличной ситуации и оперировать образами прошлого или планами будущего. Поскольку у животных есть память и способность, пусть незначительная, планировать свою деятельность на известный отрезок времени, то наличие у обезьян «знаковых» моделей этих процессов казалось бы весьма естественным. Действительно, ученики продемонстрировали, что этой функцией знаковых систем могут пользоваться и шимпанзе. Так, в одном из экспериментов Уошо сообщили, что во дворе бродит большая собака, внушавшая обезьяне страх. Через некоторое время ученице предложили пойти на прогулку, от которой она никогда не отказывалась. На этот раз Уошо гулять не захотела. Единственной причиной могла быть лишь выдуманная экспериментаторами собака. Уошо поняла и запомнила полученную с помощью знаков информацию и на ее основе спланировала свое поведение. Высокие языковые способности шимпанзе были продемонстрированы в специальном эксперименте. Выше уже отмечалось, что обезьяны могут запоминать значение произносимых слов. У молодого шустрого шимпанзенка Элли было специально закреплено понимание 10 английских слов. Затем его стали обучать обозначению этих же 10 слов на амслене. Во время последней процедуры предметов, о которых на уроках шла речь, не было. Обезьянка должна была научиться переводу этого небольшого словаря с одного языка на другой тем же способом, который широко применяют при изучении иностранных языков. Элли справился с возложенной на него задачей, доказав прочность образуемых у человекообразных обезьян ассоциаций и способность их к «перемещаемости». Известно, какую важную роль в мыслительных процессах играет внутренняя речь. Интересно было узнать, не приведет ли владение языком к использованию шимпанзе жестов для обдумывания и анализа их (обезьяньих) проблем. Подобная ситуация кажется вероятной, хотя достаточно веских аргументов в ее пользу привести пока не представляется возможным. Правда, для подтверждения использования амслена в качестве внутренней речи описывают наблюдения за обезьянами, предоставленными самим себе. В этой ситуации шимпанзе, увидев заинтересовавшую их игрушку или что-то привлекательное на картинке, иногда производят жест, используемый для обозначения этих предметов, но вряд ли эти наблюдения можно считать достаточно убедительными. Что еще можно сказать о языковых способностях обезьян? Они умеют ругаться, причем сами отбирают ругательные знаки и (что уже совершенно невероятно), не сговариваясь между собой, употребляют одни и те же ругательства. Уошо называла грязными животных, которые ей не нравились, и людей, когда бывала не в настроении или когда ее настоятельные просьбы они не выполняли. Умела ругаться и Люси. Она называла «грязный» ненавистный ей поводок и тех же неприятных животных. Воспитатели «знакомили» обезьян лишь с прямым смыслом этого слова, подразумевая под ним «испачканный», а ученики сумели придумать ему иное применение. Вообще у обезьян проявлялась явная способность усваивать переносный смысл слов. Одногодок Люси Элли, выведенный из равновесия не обращавшим на него внимания товарищем, изрек: «Ты щекотать Элли ты орех». Этот второй смысл хорошо знакомого слова он «подслушал» у исследователей, точнее сказать – подсмотрел. Так его называли ученые, когда он задавал им какую-нибудь очередную загадку. Не все разделы курса усваивались обезьянами одинаково легко. Уошо долго не давалось отрицание «нет» и умение ставить вопросы. Другие обезьяны освоили эти разделы значительно легче. Возможно, они были способнее или учителя постепенно набрались опыта. Мы знаем, что и наши дети далеко не одинаково быстро овладевают языковыми премудростями. Индивидуальные различия вполне естественны. В устах скептиков самый большой порок языка обезьян состоит в том, что ученики используют его лишь для общения с экспериментаторами. Вот если бы обезьяны собирались на посиделки, чтобы поболтать друг с другом, – тогда другое дело: пришлось бы согласиться с фактом существования обезьяньего языка. Молодые обезьяны Буи и Бруно воспитываются вместе и очень друг к другу привязаны. В их индивидуальных словарях (они совпадают частично) было меньше 40 слов, когда заметили, что они используются для взаимной сигнализации. Правда, «беседы» не выглядят особенно занимательно. Они состоят из монотонных выпрашиваний друг у друга чего-нибудь вкусненького, вроде: «Дай… дай… дай… дай… дай еда… дай еда…» – или в лучшем случае содержат просьбу подойти поближе. Уошо, впервые попав в общество «немых» шимпанзе, тщетно пыталась общаться с помощью амслена и в конце концов нашла друга, который не только сумел понять значение знака «подойти обнять», но и сам научился его подавать. Вероятно, он обладал немалыми лингвистическими способностями: его руки никто многократно не складывал в заучиваемый жест. Таким образом, приходится признать, что обезьяны способны давать символические обозначения окружающим предметам или явлениям, оперировать и мыслить этими символами, улавливая смысл, вытекающий из их последовательности, т. е обнаружили (пусть в самом элементарном виде) способности к овладению синтаксисом. «Говорящие» обезьяны показали, что между высшими приматами и человеком нет непроходимой пропасти, а есть преемственность. Обученные языку шимпанзе позволят нам не только узнать много нового о психике обезьян, но кое-что и о нас самих, понять, как развивался язык у наших далеких предков. Еще не остыли страсти, вызванные феноменом Уошо, а в прессе появились сообщения о говорящих животных. Утверждают, что пользоваться символами можно научить гусей, медведей, собак. Для обучения языку используют пишущие машинки китайского типа, где вместо букв – символы, и обычные, с буквами латинского алфавита. Сообщалось даже, что сеттера удалось научить печатать на машинке 60 слов, используя для этого 17 букв – более 60 % латинского алфавита. Большинство фактов не вызывает доверия. Детально не анализируя их, необходимо отметить, что собаку действительно нетрудно научить пользоваться двумя десятками символов-фишек, лишь бы их удобно было брать зубами. С их помощью можно серьезно расширить обмен информацией между псом и его хозяином. Можно задать собаке вопрос и получить на него однозначный ответ. Достоверность ответов легко проверить. Предложив собаке на выбор фишки, означающие «сладкий сухарик» и «колбаса», можно выяснить, что она больше любит, а затем, предъявив сами лакомства, убедиться, что «устный» ответ был правильным. Можно задавать собаке и более трудные вопросы. Например, попарно сравнивая «привлекательность» пяти фишек, означающих «сидеть дома», «гулять на поводке», «гонять кошек», «драться с собаками», «охотиться на лису», удалось установить, что по представлениям порядочного фокстерьера гулять лучше, чем сидеть дома, гонять котов веселее, чем просто гулять, драться с собаками интереснее, чем гонять кошек, но самое лучшее – охотиться на лису. Обмен информацией может быть полнее, хотя в данном случае язык представляет собой всего лишь системы двигательных условных рефлексов, что ни в коем случае не порочит их в качестве надежных способов коммуникации, являющихся моделью начальной фазы развития нашего человеческого языка или, если угодно, даже его предтечей. Говорящие обезьяны вызвали научную бурю не только потому, что это грозило разрушить и действительно разрушило миф о нашей божественной исключительности. Исследователям трудно было поверить в огромные потенциальные возможности обезьяньего мозга. Невольно встает вопрос: зачем им такой мозг, если они до сих пор не воспользовались имеющейся возможностью и не создали даже примитивного языка? Однако нужно помнить, что между возможностью и ее реализацией – дистанция огромного размера. Новая мозговая функция может возникнуть лишь после того, как в мозгу созреют для этого соответствующие условия. Есть ли что-нибудь необычное в больших потенциальных резервах мозга шимпанзе? Нет, это характерно для нервной системы любого организма. Живые существа не могли бы существовать, если бы их мозг был настолько несовершенен, что и со своими повседневными обязанностями справлялся бы с большим трудом. Такой мозг потерпел бы фиаско при решении любой экстраординарной задачи, и это приводило бы животное к гибели или делало бы его неконкурентоспособным. Вот почему мозг любого существа, особенно высокоразвитых организмов, должен иметь огромный запас прочности. Именно эти резервы помогают обезьянам овладеть языком, а человеку дают возможность из общинно-родового строя перешагивать прямо в мир технической революции, не прибегая к предварительной коренной реконструкции своего мозга. Создается впечатление (и оно не кажется обманчивым), что человек еще далеко не исчерпал своих мозговых возможностей. Знакомясь с совершенством индивидуально приобретенных приспособительных реакций, мы на каждом уровне развития организмов сталкивались с весьма значительной избыточностью нервной системы. Мы наблюдали у низших организмов развитие привыкания в ответ на действие десятков следующих друг за другом раздражителей и выработку в сходных условиях суммационного или несамовосстанавливающегося условного рефлекса. Никто из исследователей пока не отмечал их образование вне экспериментальной обстановки. Они, очевидно, возникают, они должны время от времени вырабатываться, но это происходит настолько редко, что такие случаи еще не попали в поле нашего зрения. Можно с уверенностью сказать, что у всех видов организмов существуют большие неиспользуемые резервы. Те виды, которые не обладали таким запасом прочности, в конце концов вымирали, освобождая место более совершенным существам. Нейроантропология достаточно убедительно доказала, что мозг современного человека и нашего далекого предка за последние 100 000–1 000 000 лет не претерпел существенных изменений. Это обстоятельство вызывало по меньшей мере недоумение и недоверие к данным антропологии. Казалось невозможным, чтобы мозг такого примитивного существа, каким был древний человек, создал современную науку и искусство. А между тем резерв потенциальных возможностей нашего предка вполне сопоставим с резервом инфузорий, вырабатывающих привыкание к вибрации. Прогресс человечества связан не с бурным развитием самого мозга, а с возникновением речи как особого аппарата мыслительной деятельности, позволившего на новом, неизмеримо более высоком уровне осуществлять анализ окружающей среды, накапливать, хранить и передавать из поколения в поколение полученную информацию, используя ее для преобразования окружающего мира. Мы не будем здесь обсуждать вопрос, насколько обезьяний язык близок человеческому: он важен лишь для идеалистически настроенных психологов, скованных представлениями о божественном происхождении человека или, во всяком случае, о существовании неодолимой пропасти между ним и обезьяной и стремящихся во что бы то ни стало доказать наличие такой пропасти. Нам кажется, что на данном этапе более важно сконцентрировать внимание на том общем, что есть между нами и высшими животными – нашими ближайшими родственниками. Слишком долго этим никто не интересовался. Как известно, Ч. Дарвин не только нарисовал широкую картину происхождения видов, но сумел доказать, что человек по своему происхождению, по своей физиологии и поведению (или по своей психике) неразрывно связан со всем животным миром нашей планеты. В нашей стране идеи дарвинизма были подхвачены прямо на лету. В советский период развития науки никто не подвергал сомнению эти представления, но по мере накопления фактического материала основная мысль учения Дарвина отходила на задний план. Связь между человеком и животными, естественно, никто не отрицал, но она большинству специалистов мыслилась столь отдаленной, что казалось уместнее говорить о различиях, чем об общности и сходстве. Не возникало возражений, пока речь шла о внешнем морфологическом сходстве человека с антропоидными обезьянами, об общем пути их физиологической и биохимической эволюции; только поведение не было затронуто этим демократическим процессом. Яркой иллюстрацией могут служить монографии, теперь уже многочисленные, посвященные эволюции психики. Они обычно заканчиваются анализом поведения человекообразных обезьян, в крайнем случае беглым перечислением того, чем, по мнению автора, психика человека отличается от психики животного. Число работ, специально посвященных общности интеллекта человека и животных, ничтожно мало. Ретро Проблема эволюции психики не может быть всеобъемлюще охарактеризована без рассмотрения вопросов, связанных с ее индивидуальным развитием у животных и человека. В начале XVIII в. господствующими в биологии индивидуального развития организмов были представления преформистов. Их основная суть заключалась в том, что в природе ничто новое не возникает. Отсюда следовало, что у микроскопического зародыша в яйце любого организма с самого начала представлены все органы и части тела, которые потом просто увеличиваются в размерах. Еще до Ч. Дарвина эти идеалистические взгляды были опровергнуты работами выдающихся русских академиков К. Вольфа и К. Бэра. Первый доказал, что у зародышей нет никаких органов, они возникают позже, развиваясь постепенно из однородного субстрата благодаря его преобразованию. Второй изучил процесс эмбриогенеза более подробно, детально описав, как в процессе развития из более простой основы, постепенно обособляясь, усложняются и специализируются новые ткани и органы зародыша. Позже Ф. Мюллер и Э. Геккель обнаружили закономерность в последовательности этих превращений. Ими был сформулирован закон рекапитуляции, согласно которому в онтогенезе в сжатой форме повторяется филогенез. Эти представления, давно уже завоевавшие прочные позиции в морфологии, теперь проникли и в физиологию. Давайте под этим углом зрения рассмотрим онтогенез высших психических функций. В настоящее время совершенно очевидно, что между фило– и онтогенетической эволюцией высшей нервной деятельности, а также между стадиями становления условного рефлекса, которые он проходит в процессе своего образования, имеется определенное сходство. В этом отношении лучше всего изучено развитие щенят, кроликов и цыплят. В первые дни после рождения (до 8–10 суток у кроликов, до 15 суток у собак и до 17–20 суток развития куриного эмбриона) удается выработать лишь суммационный рефлекс. Образование временных связей в этот период еще невозможно. К концу указанного отрезка времени суммационные реакции становятся более прочными, приобретая черты доминанты, и только по истечении указанного периода удается образовывать первые условные рефлексы. Центральная нервная система должна завершить свое развитие, прежде чем возникнет возможность осуществления высшей нервной деятельности в полном объеме. Так, временные связи при сочетании индифферентных раздражителей у щенят впервые удается образовать в период между 3 и 6 месяцами их жизни. Примерно таков же путь становления условнорефлекторной деятельности ребенка. Бурное развитие второй сигнальной системы – период интенсивного овладения речи – начинается на тех этапах онтогенеза человека, когда способность к образованию временных связей между индифферентными раздражителями уже сформировалась. Подобный ряд нетрудно построить и для тормозных реакций. На ранних стадиях онтогенеза развиты лишь врожденные формы торможения, а также способность к привыканию. Выработка внутреннего торможения реализуется в результате развития замыкательной функции мозга, и лишь у взрослых животных могут формироваться тормозные связи, вырабатываемые на базе угашения ориентировочного рефлекса. Аналогичные стадии проходит и условнорефлекторная реакция в процессе своего становления. При сочетании индифферентного и безусловного раздражителей возникает суммация возбуждения, приводящая к формированию доминантного очага, способного стать причиной возникновения условного рефлекса. Видимо, во всех случаях выработки условного рефлекса этому предшествует создание в центральных аппаратах мозга доминантных отношений между участвующими в замыкании временной связи нервными центрами. Наконец, у детей словесные раздражители, превращаясь в истинные сигналы второй сигнальной системы, проходят стадию образования многочисленных ассоциативных временных связей с соответствующими предметами или явлениями. Таким образом, на ранних стадиях фило– и онтогенеза высшей нервной деятельности адаптация к условиям существования происходит главным образом на основе врожденных реакций, а также путем образования суммационных рефлексов и выработки кратковременного привыкания. Затем возникает способность к формированию более устойчивых приспособительных реакций на основе стойкой доминанты или в виде долговременного привыкания. Способность к образованию условных рефлексов и внутреннего торможения – следующий этап развития. Наконец, на более поздних стадиях фило– и онтогенеза позвоночных животных у них появляется способность к замыканию временных связей возбудительного и тормозного характера, вырабатывающихся на базе ориентировочного рефлекса при сочетании индифферентных раздражителей. Самая высшая форма условнорефлекторной деятельности – речь может возникнуть лишь при условии, что мозг индивидуума прошел все предыдущие стадии развития. Итак, психическая деятельность в процессе своего развития проходит пять четко очерченных стадий. При этом имеется строгая корреляция между типом организации центральной нервной системы и уровнем (или стадией) развития ее отражательной деятельности. Исторический метод познания приводит к раскрытию путей, по которым шла структурная и функциональная эволюция мозга, и позволяет приблизиться к более глубокому пониманию высших форм психической деятельности. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |
||||
|
|
||||
